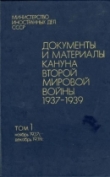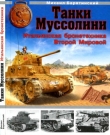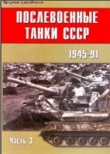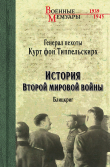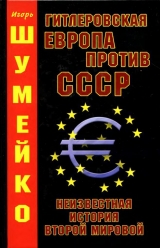
Текст книги "Гитлеровская Европа против СССР. Неизвестная история второй мировой"
Автор книги: Игорь Шумейко
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 30 страниц)
Индексацию мы вводим, чтобы не путать с нынешней «Объединенной Европой-2», совпадающей с Европой Первой – по географии, набору наций и, как выше было показано, по некоторым своим политическим предпочтениям. Возможно, даже наверняка нынешним политикам, столь торжественно провозгласившим «О.Е.-2», будет и неприятно напоминание об этом предшественнике. Да что ж поделаешь, была ведь «Объединенная (Гитлером) Европа». И к рождению ее, оказывается, тоже были причастны либералы и даже лауреаты Нобелевской премии мира!
Сегодня сложилось уже целое направление: критика глобализма и политкорректности. Эпоха и мир кажутся странными и зыбкими, глупость сегодняшних политиков – уникальной. Но нет же. Вот портрет времени между мировыми войнами в «Истории...» Уинстона Черчилля, так сказать, «Выбранные места».
«Немцам навязали то, что было идеалом, к которому стремились либералы Запада. Франция требовала границ по Рейну, но Англия и США полагали, что включение районов с немецким населением противоречит принципу самоопределения наций. Клемансо пришлось на это согласиться в обмен на англо-американские гарантии. А позже сенат США, не посчитавшись с подписью Вильсона, не ратифицировал гарантийный договор... Заявили, что нам нужно было лучше знать конституцию США. На Вашингтонской конференции 21-го года внесли далеко идущие предложения по морскому вооружению, и англичане с американцами начали рьяно топить свои линкоры и разрушать военные базы. Это делалось на основе странной логики, согласно которой аморально разоружать побежденных, если победители тоже не лишатся оружия. Вплоть до 1931 года победители концентрировали свои усилия на том, чтобы вымогать у Германии ежегодные репарации. Но платежи могли производиться только благодаря американским займам, так что вся процедура сводилась к абсурду. Результат конференции (Локарно, 1925 г.) – общий гарантийный договор и арбитражные договоры между Германией и Францией, Германией и Бельгией, Германией и Польшей, Германией и Чехословакией. Остин Чемберлен получил орден Подвязки и Нобелевскую премию мира...»
А теперь вдумайтесь: «Нобелевку мира» дали именно человеку (Чемберлен), проторившему дорогу ко Второй мировой войне, и... так уж получается – именно за это «проторяющее» деяние (в Локарно). Факт этот не очень афишируем сегодня, наверное, дабы походя не дискредитировать премию, которую в последние годы получили... «ну просто святые люди... просто ангелы политкорректности». «История...» Черчилля заполняет исторический вакуум. Политика Англии 30-х годов нуждается все же в каком-то истолковании. Кстати, Черчилль свою Нобелевскую премию в 1953 году получил не как Чемберлен и Горбачев – «За мир», а по части все же литературы. Кроме его «Истории Второй мировой войны», мне представится повод процитировать еще и его «Историю англоговорящих народов». Это почти честертоновское изящество плюс причастность ко всем подробностям политики. Хотя политикой предстающую картину 1920 – 1930 годов и назвать трудно. Двадцатилетняя оргия пацифизма. Не поддержать британское разоружение – значило гарантированно проиграть выборы. Союз студентов Оксфорда приносит публичную клятву: никогда не сражаться за свою страну. Во Франции коммунисты Мориса Тореза имеют, говоря по-современному, «блокирующий пакет». Чтоб провести закон о двухгодичной службе, министру Лавалю приходится лететь в Москву.
Черчилль: «...только Советы могли позволить значительной части французов, питавших к ним доверие, оказать поддержку этому закону». Добро Сталина было получено. Французская армия теперь может достичь планки 100 дивизий. Над всем этим, согласитесь, уже витает сквознячок абсурда. Но Черчилль элегантно избегает оценок и продолжает: «После Лаваль спросил Сталина: «Не могли бы вы сделать что-нибудь для поощрения католиков в России? Это бы так помогло мне в делах с папой». – «Ого! – воскликнул Сталин. – Папа! А у него сколько дивизий?»...»
Знакомые с этим фрагментом обычно фокусируются на Сталине, суровом прагматике, даже папу римского мерящего на дивизии. Но по-моему, совершенно здесь восхитителен и француз Лаваль. Вот это его «что-нибудь для»... То есть фактуры вопроса, какой-нибудь конкретной нужды советских католиков (такой-то костел починить, такого-то падре выпустить) – нет, да и не надо! «Что-нибудь» – это для разменной монетки в делах с папой. Я, когда хочу представить себе европолитика – закрываю глаза и прямо-таки вижу довольного коммивояжера Лаваля. Ободренного, собирающегося из Москвы, «на обратной дороге заскочить и к папе»...
Другой темой нескольких глав этой книги будет рассказ о том, как Рузвельт и Черчилль, разделяя со Сталиным Европу на сферы влияния, не просто признавали – они совместно конструировали новую систему гарантий. Вместо провалившейся Версальской. Многоуровневую систему: ООН, Совет Безопасности с пятью постоянными членами, разделение Германии, сферы влияния, а можно сказать – сферы безопасности, буферы. «Национальные суверенитеты», дарованные Версалем, были не просто сложены к ногам Гитлера, они в некоторых случаях оказались просто-таки топливом для фашистской машины. И самые вопиющие, но и оттесняемые сегодня на периферию общественного внимания случаи, вроде сотрудничества Гитлера и независимой Литвы, тоже будут в этой книге рассмотрены.
Ведь на СССР напала не только Германия, но и Европа – значит, соответственно, и советской сферой безопасности станет тоже не только Восточная Германия, но и Восточная Европа. Железная ялтинская логика. Так что танки в Чехии 1968-го – это следствие того, как закончилась, как проходила и как затевалась война. Следствие Мюнхена...
Уже полторы сотни лет кочует афоризм: «Генералы всегда готовятся к прошлой войне». «А зарплату получают за будущую», – недавно домыслил один остроумный журналист. Может, наши правители и ошибались, подстраховываясь в 1968 году, по канонам 1940-го. Но – поговорка не врет – так поступают все правительства, все генеральные штабы – готовятся к той войне, в которой они участвовали. Нетягавшиеся 4 года с вермахтом имеют совсем другую политическую наследственность, военную доктрину.
И не нужно кивать: «Да, было дело, пытались в 1968 году социализм танками подкрепить». Тоже еще «видный марксист» – генерал армии Павловский (организатор операции «Чехия-68»). Лучше сказать правду: «Защищали свою сферу влияния, сферу безопасности». Или вышепредложенным слоганом: «До советских танков 1968 года в Праге были чешские танки в Минске, Смоленске и Сталинграде!»
Соотношение сил в 1938 году (1582 самолета, 469 танков, 2 млн. чел. – чехи, и 2500 самолетов, 720 танков, 2,2 млн. чел. – немцы) позволяло Бенешу держаться и безо всякой помощи (неполученной из Франции, отвергнутой из СССР). А уж тема сравнения уровней качества боевой техники была предварительно заявлена и будет подробно рассмотрена в «чешской» главе книги. После изучения качества «чешского приданого» немецкие генералы еще раз признали, что избежали самой крупной неприятности, что риск поражения в Чехословакии 1938 года был даже большим, чем в Польше 1939-го и во Франции 1940-го.
Вот Черчилль и сокрушается не только о 469 невыстреливших танках и 1582 самолетах, попавших к немцам. Главное – лучшие в Европе заводы.
Да можно и безо всякой геополитики проиллюстрировать это. Вообразите...
Пивной бар. Все сидят, смотрят в свои кружки. Вваливается верзила. Куражится. Выжидают. Верзила хватает за лацкан первого, пана. Тот – пардон! – отдает напавшему кошелек и револьвер, случившийся у него в кармане. Верзила хватает мсье – получает еще кошелек, нож, кастет. Последнему, товарищу, решившемуся сопротивляться, достается и пулевых, и ножевых ранений. Огрубев и озлобясь, он все же скручивает верзилу и... оставляет его на полу.
Выхода из этого странного бара почему-то нет...
Едва отошедшие от этих отвратительных сцен насилия пан и мсье требуют вернуть им собственность. «Мы знаем, товарищ, что теперь для защиты против верзилы вам револьвер с ножом не понадобятся».
А товарищ, вместо самого простого ответа: «А откуда ВЫ-то можете это знать?», начинает что-то бормотать про социализм...
Выбор был и у Дании, Бельгии, Голландии: передавать свои государственные потенциалы немцам или нет. А сейчас саму постановку подобного вопроса они назовут дикарством, фанатизмом. И уже как-то невежливо напоминать, что кто-то должен был все же начать настоящее сопротивление, как в Варшаве, Сталинграде, Ленинграде. Миллионы пленных, заводы захватывали и у нас, но решившиеся сопротивляться рассматривали это только как преступную ошибку или предательство. И как следствие: СМЕРШ, заградотряды, репрессии. Такой выбор определяет все, от политики до послевоенной психики. Но только ли послевоенной? Многие некрасивые действия накануне 1941 года – это ведь приготовления человека, сузившего глаза, решившегося. По той же пивбарной аналогии: сбросил зрителя-прибалта, вооружился его стулом. «Пакт о ненападении» – это фактически был выбор места и минуты предстоящей драки...
Вопрос о «Шкоде» чешским историкам я уже задал, теперь один легкий им упрек, по поводу гибели их же соотечественника! Очень знаменитый, миллион раз описанный случай: один пражский студент увидел в 1968 году советские танки и, оскорбленный в национальных чувствах, поджег себя...
Именно вы, чешские историки, могли спасти парня, дать ему прививку, например... Рассказав, например, как «герой Мюнхена» Чемберлен отчитывался в палате общин, после того как Гитлер взял не только Судетскую область, но и всю Чехословакию: «...мы просто являемся свидетелями пересмотра границ, установленных Версальским миром. Не знаю, найдутся ли люди, которые думают, что границы будут постоянно оставаться прежними. Я считаю, что достаточно сказал о Чехословакии...»
Именно вы, пане историки, могли спасти того студента 1968 года, а не подталкивать его, как эрдмановские персонажи – самоубийцу: «Фас! Советские танки! Протестуй! А вот, кстати, тебе и спички».
Глава 3. О «ПРАВЕ ВЕДУЩИХ «БОЛЬШУЮ ВОЙНУ» И О ПОДВЕРНУВШИХСЯ ПОД РУКУ
А «тот самый Пакт», «тот самый вкус»: «Молотов-Риббентроп?», «агрессия СССР в Прибалтике»? Исследованию природы этих обвинений, собственно, и посвящена вся эта книга. Решившийся на «Большую войну» имеет право и на Большой маневр. Но что это за термин – «Большая война» и правомерно ли его введение?
Ответ будет подробный, с привлечением некоторых предыдущих моих публикаций, в том числе и по Гуго Гроцию – автора понятий «естественного права» и большинства положений «права войны и мира». А пока – несколько исторических прецедентов.
Так, например, решившиеся на «Большую войну» – англичане XIX века знали сами про себя, что именно они – самые непримиримые, самые конечные враги Наполеона, и с этим самооправданием могли заключать «с Бони» сколько угодно перемирий, подписывать с ним Амьенский мир, а после уничтожать совершенно нейтральную Данию («Просто чтоб датский флот случайно не попал к Бони»).
ДИЛЕТАНТСКИЕ ЗАПРОСЫ
А кто такой, собственно, этот Бони?
«Бони» – это кличка, не сходившая со страниц тогдашних британских газет. По-английски – что-то вроде «крошка» (помните «Бони-М»?). В приложении к Бонапарту это имело выраженное уменьшительно-презрительное значение.
А тот, кто требовал к себе обращения только «Наполеон»,– он ведь и простое неискаженное «Бонапарт» считал за величайшее оскорбление себя и Франции. Так что «Бони» в британских (и только в британских в то время!) газетах была не просто шутка: это был залог непримиримой вражды, залог войны на уничтожение. Подобно тому, как 500 лет до того резали невинных и никому не нужных, в общем-то, монгольских послов, зная, что после этого с монголами мира не может быть никогда.
И советские газеты тех годов с карикатурами на Гитлера – это такой же залог. И взаимная моральная «направленность» фашистов и коммунистов – это вполне серьезный, «материальный» аргумент.
А то, что нам ставят в вину «тот самый Пакт» и изменившийся тон советских газет 1940 года... это как если бы уцелевшие обитатели Освенцима начали пенять открывающим ворота русским солдатам: «Вы-то и под Вязьмой облажались, и под Харьковом – дважды. И в Сталинграде долго тянули, и под Курском. А уж под Ленинградом-то... И пришли-то нас освобождать в результате – гораздо позже, чем должны были... по нашим расчетам... И, уж конечно, нельзя было входить в три Прибалтийские республики».
Но «совпаденьям несть числа» – именно на Балтике Великобритания вписала наиболее яркую страницу в кодекс этого права. «Большая война» велась ею в XIII – XIX веках с Наполеоном. Флот оного, как известно, был разбит при Трафальгаре, и вторжение Британии вроде бы не грозило. Но Наполеон чисто теоретически мог создать себе новый флот? Мог. А пожелав воссоздать флот, Наполеон, используя свое континентальное могущество, наверное, мог бы захватить какую-нибудь страну, имеющую значительный флот, и «приобщить его к делу»? Вполне. А у кого еще в Европе остается «значительный флот»? А вот – Датское королевство. Но оно пока ведет линию безупречного нейтралитета. А вдруг что изменится? Тем более по исследованиям одного нашего (британского) писателя: «Какая-то в державе датской гниль!» В. Шекспир «Гамлет».
Надо подстраховаться.
26 июля 1807 года из Ярмута вышла британская эскадра в составе 25 кораблей, 40 фрегатов и малых судов. За ней несколькими отрядами шла армада из 380 транспортных судов с 20тысячным десантом. 1 августа британская эскадра появилась в проливе Большой Бельт. 8 августа к наследному принцу-регенту Фредерику явился британский посол Джексон и заявил, что Англии достоверно известно намерение Наполеона принудить Данию к союзу с Францией. Англия этого допустить не может, и в обеспечение того, что это не случится, она требует, чтобы Дания передала ей весь свой флот и чтобы английским войскам было разрешено оккупировать Зеландию, остров, на котором расположена столица Дании. Принц отказался. Тогда британский флот в течение шести дней бомбардировал Копенгаген, а затем высадил десант. Половина города сгорела, в огне погибли свыше двух тысяч его жителей. Командовавший датскими войсками престарелый (72-летний) генерал Пейман капитулировал. Англичане увели весь датский флот, верфи и морской арсенал сожгли. Принц Фредерик не утвердил капитуляцию и велел предать Пеймана военно-полевому суду...
Этот-то пожар Копенгагена и поразил на всю жизнь датского философа Кьеркегора.
Но, может, пример 1807 года – слишком устаревший? Ведь с тех пор столько гуманистов и правозащитников «в земле европейской просияли». Тогда вот пример как раз из того, самого актуального, 1940 года. Исландия в то время была частью Дании (не будем вдаваться сейчас в тонкости их унии). И когда Гитлер в апреле 1940 года захватил Данию, Великобритания без объявления войны, без даже двух строчек объявления вообще чего-либо, захватила Исландию. Основание самое элементарное: Дания так и так попадает под Гитлера, но нельзя, чтобы вся, целиком. Остров Исландия для войны пригодится.
И как же это оправдалось! Будь Исландия германской, ни один англо-американский конвой (не только тот знаменитый PQ-семнадцатый, но и PQ-первый) не дошел бы до Мурманска – он даже и не вышел бы из Америки! Исландию – абсолютную командную высоту в Северной Атлантике – миновать было невозможно.
Британское право, как известно, основано «на прецедентах». СССР тоже вел «Большую войну» с фашизмом. Уже имели место прямые сражения с немцами и итальянцами в Испании, с Японией на Хасане и Халхин-Голе. Перемирия, пакты с главным противником, конечно, заключались (как и у англичан с Наполеоном), но это никак не отменяло главного факта: последней инстанцией разрешения «Большого исторического конфликта» будет схватка СССР – Германия. И присоединение нами в 1940 году важнейшего стратегического плацдарма, трех республик, недотягивает до британско-датского прецедента по параметрам. В том числе... по отсутствию большой крови и разрушений.
Нынешние политкорректные историки щелкают на счетах: «Так, 1940 год – СССР подмял три демократических государства – три костяшки налево, минус».
Можно согласиться... Хотя и с некоторыми поправками. Латвия на тот момент «демократической республикой» быть перестала – диктатура Ульманиса. Литва за год до этого объявила, что ни за себя, ни за свою территориальную целостность, ни за свой нейтралитет ручаться не может.
История тут была такая. По Версальскому миру бывший немецкий город Мемель (с округой) назывался Клайпедой и передавался Литве.
ЛИТОВСКИЙ ДИВЕРТИСМЕНТ 1939 ГОДА
Мемель, кстати, в некий исторический период был столицей и последним плацдармом Пруссии, добиваемой Наполеоном. Неизвестно, об этом ли вспомнили в Версале державы-победительницы, забирая у Германии сей важнейший порт, главное другое: они гарантировали Литве защиту – ее и ее благоприобретений. Гарантии эти (Литве) были абсолютно аналогичны гарантиям, данным Польше, во исполнение которых, собственно, и была объявлена, через 5 месяцев после Клайпеды, война Германии! Более того – гарантами литовского суверенитета над Клайпедой, кроме Англии, Франции, были еще и Италия, Япония (тоже Версальские победители)...
20 марта 1939 года министр иностранных дел Германии фон Риббентроп объявил литовскому коллеге И. Урбшису: «...если литовское правительство склонно вернуть Клайпедский край путем соглашения, то правительство Германии готово пойти навстречу и удовлетворить интересы Литвы в Клайпедском порту. Если литовское правительство не пойдет этим разумным путем, то Клайпедский край будет возвращен Германии по-другому. Если бы там произошли столкновения и хоть один немец погиб, тогда уже не мы, политики, занимались бы этим делом, а войска, начав поход, неизвестно где остановились бы. После начала военных действий германское правительство больше ни на какие переговоры не пошло бы».
Не дожидаясь официального ответа Литвы, Адольф Гитлер отправился в Мемель на флагмане германских ВМС – линкоре «Дойчланд». Литовцам дали официальный и унизительный совет: «Во избежание пустой траты времени отправить специальным самолетом в Берлин полномочных представителей для подписания документа о передаче района Мемеля Германии».
Вооруженные силы Литвы составляли: кавалерийская бригада и три пехотных дивизии общей численностью 24 тысячи человек, при 44 легких танках и 110 самолетах. И всего один военно-учебный корабль с шестью пулеметами и двумя пушками «Эрликон» двадцатимиллиметрового калибра. Литва, конечно, меньше Польши, но... Германия фактически не имела с ней общей границы! Единственный вариант – десант. Но этого по многим причинам Британия допустить бы не могла. Парламент и британская публика могли попустить сухопутным силам «трудности развертывания», «Странную войну». Но Британский флот – готов всегда и везде! Он и в месяцы «Странной войны» сражался абсолютно серьезно, и спасать Норвегию бросился, правда, неудачно – но то было в 1940-м, чехи к тому моменту отработали на Гитлера уже почти полтора года.
Итак, чтобы получить помощь Британии и Франции, Литва должна была отвергнуть требования Гитлера, обратиться к странам-гарантам и теоретически, возможно, подвергнуться нападению. И тогда Вторая мировая война началась бы в апреле, а не в мае 1939-го.
Как констатируют литовские историки, «можно было бы кровью тысяч солдат вписать героическую страницу в историю. Но в территориальном отношении Литва в конечном счете только проиграла бы. Ведь министр иностранных дел Германии фон Риббентроп дал ясно понять, что, затеяв сражение, литовцы потеряют всю страну. Конечно, очень больно, когда рубят руку, но глупо подставлять еще и голову...».
21 марта совет министров, «не находя другого выхода, считает, что он вынужден принять требование германского правительства. Перед лицом грозящей со стороны Германии опасности совет министров не находит возможным выполнить требования ст.15 конвенции, заключенной между Литвой, Британской империей, Францией, Италией и Японией о Клайпедской территории. Министру иностранных дел поручается только информировать полномочных министров Франции и Великобритании в Каунасе о требовании правительства Германии вернуть Клайпедский край рейху».
То есть исходя из своих национальных интересов (плюс, помните: Германия учтет интересы Литвы в Клайпедском порту), Литва не обращается за помощью к странам-гарантам и отдает Мемель. Значительно усиливая позиции Германии на Балтике и также значительно ухудшая положение любого, решившегося на «Большую войну» с Гитлером.
Сдавшись, получается, «на окрик», Литва значительно усилила Гитлера на Балтике и тем самым значительно ухудшила положение всех тех, кто все же решится, по их выражению, «...глупо подставлять еще и голову...».
Последовательность здесь проста и линейна, здесь ни один Ландсбергис не переставит даты. Март 1939-го – Литва объективно сработала на Гитлера.
Август 1940-го – в эту шелушащуюся Литву входят войска СССР.
Да... это в беседе с Рустамом Арифджановым в передаче на «Русской службе новостей» я, в режиме радио-экспромта, сказал: Литва именно шелушилась в руки Гитлера.
1945 год – Литва получает отбитую советской кровью ту самую Клайпеду плюс Вильнюс (Вильнюс, правда, дарился Советским Союзом Литве еще и в 1940 году).
2007 год – Литва требует 24 миллиарда долларов – «пени за советскую оккупацию».
Вот литовская логика. Ведь правы же они по-своему, по-литовски: «...глупо подставлять немцам голову», – Россия подставила голову? – Значит, она глупа! – Значит, надо рискнуть с этим счетом – «24 миллиарда – НА ДУРАКА». А «Объединенная Европа-2» (брюссельская), она ведь сохраняет симпатии «Объединенной Европы-1» (берлинской) – может, поможет!»...
С точки зрения современной ситуации и современного понимания международного права можно до бесконечности спорить, в чем присоединение Советским Союзом тех трех республик отвечает признакам агрессии. НО... как раз, чтобы сама-то международная ситуация стала «современной», политкорректной – в общем, той, какая она сейчас есть, – и требовалась ликвидация гитлеровского рейха, выигрыш «Большой войны»!
Конечно, если бы прибалтам эпохи Мюнхена сесть в машину времени, точнее, влезть в нее всеми своими республиками, и перелететь сразу в 2006 год, где тебе и Совет Европы, и ПАСЕ... Но даже и эта фантазия не столь заоблачна в сравнении с цинизмом «клайпедских героев», поучающих Россию: как, где, когда надо было проводить военные операции против Гитлера.
Это ведь сначала Страсбург (столицу ПАСЕ), Прагу и Вильнюс надо освободить, чтобы там смогли вновь обосноваться те умники, которые расскажут, КАК правильно надо было их освобождать и какие пени полагаются за нарушение их правил.
Но, быть может, прецедент Британии, подстраховавшейся с Данией 1807-го слишком стар, а с Исландией 1940-гослишком малозначителен? И «в культурном ХХ веке» Сталину действительно стоило как-то бы организовать сеанс связи и посоветоваться с Гавелом, Ландсбергисом, Клинтоном и Мадлен Олбрайт: как следовало вести «Большую войну»?
Но что ж, вот тогда и еще пример, опять из 1940 года. Правда, и тут опять действующее лицо Британия – но это как раз оттого, что именно она, островная Британия, чаще решалась на противостояние любой ценой.