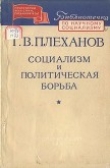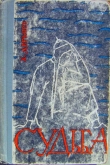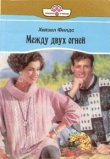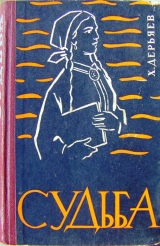
Текст книги "Судьба. Книга 4"
Автор книги: Хидыр Дерьяев
Жанры:
Роман
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 21 страниц)
Перемены, происшедшие после революции, увлекают Черкез-ишана. Он прочно связывает свою жизнь с Советской властью, активно участвует в осуществлении культурно-просветительных мероприятий, организации новых школ. Ему доверяют должность заведующего отделом народного образования, и он оправдывает возлагаемые на него надежды.
Образ Черкез-ишана – совершенно новый, не традиционный для туркменской прозы Он свидетельствует о многосторонности материала, введённого писателем в роман, о глубоком и обстоятельном художественном исследовании исторической действительности.
Духовный рост героев произведения изображён X. Дерьяевым как сложный психологический процесс борьбы человека с самим собой, со множеством предрассудков, с частнособственническими инстинктами. Очень любопытен в этом отношении образ Торлы, дайханина-бедняка, человека, в общем, доброго, трудолюбивого, способного на благородные поступки. Ему дважды обязана Узук своим спасением.
Всю жизнь Торлы мечтал стать богатым. Богатство, по его мнению, та необходимая броня, которая надёжно охраняет человека от всех невзгод. Только оно приносит подлинное счастье и свободу личности. «Человека делает человеком только богатство, – говорит он Меле, – в этом ты мне поверь. Который богатый– он возвышается над остальными, как дерево над овечьим гуртом. Отними у него серебро и золото – он станет таким же, как и мы, если но хуже. А пока богат, всё ему доступно – любую вещь может купить, любого человека унизит».
Разговоры Торлы о богатстве были естественным желанием бедняка почувствовать себя человеком, напоминали неукротимое стремление жаждущего напиться и прихватить про запас побольше воды. Самым серьёзным образом он убеждает Берды, что покончить с баями можно не силой, а став более богатыми.
Выполняя вместе с Дурды, Меле, Аллаком ответственное поручение Марыйского Совета – сопровождение и охрану каравана с оружием для Красной Армии, – Торлы пытается уговорить товарищей продать на чёрном рынке винтовки, деньги поделить между собой и счастливо зажить. Получив дружный отпор, он решается на гнусное преступление: ночью совершает покушение на Аллака, стоявшего на часах, чтобы забрать оружие и скрыться.
С образом Торлы связана проблема нравственного возрождения человека, преодоления собственнических инстинктов. Герой казнит себя за совершённое предательство, ищет случая искупить вину. Он спасает от смерти Берды, а сам погибает от рук басмачей. Трагический конец героя не воспринимается как некое искусственное, художественно неоправданное решение конфликтной ситуации. Гибель во имя спасения человека реабилитирует Торлы в глазах читателя.
С особой любовью относится X. Дерьяев к изображению женских характеров. Его волнует проблема становления личности туркменской женщины, порывающей с обветшалыми канонами уходящею мира.
Жестокая правда дореволюционной действительности проступает на каждой странице романа, где идёт речь о судьбе Узукджемал. Писатель подчёркивает, что в мире насилия, безграничной власти богатства, эксплуатации человека человеком нет и не может быть условий для расцвета личности.
Много горя, неимоверных страданий пришлось пережить Узук. Доведённая до отчаяния издевательствами бая, молодая женщина готова наложить на себя руки. Только глубокое чувство любви к Берды, светлые неизгладимые воспоминания о встречах с ним заставляют её сносить унижения и обиды. В конце концов она находит в себе силы выпрямиться, уйти из ненавистного байского дома.
Революция, Советская власть открывают Узук путь к образованию, к активной общественной деятельности. Смело и мужественно ведёт она разъяснительную работу среди женщин аула, борясь против старых обычаев, за новую жизнь и быт.
Во многом сходна с Узук судьба другой героини – Огульнязик. Девочкой-сиротой попадает она в дом Сеидахмед-ишана. «Благочестивый» служитель мусульманского культа по-своему толкует права опекуна. Вместо заботы о сироте он женится на девушке, хотя по годам годится ей не только в отцы, но и в деды.
Жизнь с постоянно хворающим, елейным и лицемерным старцем становится для Огульнязик адом. Молодая красивая женщина не может смириться с горькой участью младшей жены, права и обязанности которой не выходили за рамки положения обыкновенной служанки, и начинает мстить ишану. Она дерзит ему во всём, проявляет неподчинение, зло высмеивает его мужскую немощь, разоблачает его «святость» и «благочестие», доводит в конце концов до исступления и апоплексического удара.
Совершенно иначе складывается её жизнь после революции. Одной из первых Огульнязик становится в ряды борцов за новую жизнь. Работа вместе с Узук в женотделе окрыляет её, раскрывает способности настоящего организатора и агитатора за женскую эмансипацию.
Рассказывая о судьбах Узукджемал, Огульнязик, Абадан, Маи, рисуя их духовный рост, писатель показал, как революция раскрепостила женщину Востока, поставила её в один ряд с мужчиной.
X. Дерьяев стремится выделить наиболее существенные стороны исторических событий. Правдиво и проникновенно изображает он складывающуюся в период революции и гражданской войны дружбу русского и туркменского народов. Укрепление интернационального единства показано как органическое проявление процесса приобщения народов нашей страны к революции.
Ярошенко, Борис Петрович, Паскуцкий и другие – лучшие представители революционной России – рука об руку с туркменскими дайханами борются за торжество правды и справедливости.
Особое место в идейно-художественной системе романа занимает образ Сергея Ярошенко, рабочего-революционера. Он оказывает огромное влияние на судьбы многих героев произведения.
Являясь членом подпольной большевистской организации, Сергей ведёт кропотливую агитационную работу, последовательно и неутомимо сплачивает революционные силы.
Политическая деятельность подпольщика проходила в трудных условиях тёмной патриархальной жизни туркменского аула, среди дайхан, опутанных цепкой паутиной вековых обычаев и привычек. Докладывая ашхабадским товарищам о работе марыйской организации среди местного населения, Сергей объективно оценивает сложности осуществления революционной пропаганды среди ауль-чан: «Народ, понимаешь ты, больно уж тёмный. Сто лет муллы да ишаны вдалбливали ему разные «правила жизни», веками твердили о покорности да послушании. Попробуй вышиби всё это! Горькими слезами плачут, в нищете гибнут, а всё на судьбу да на аллаха ссылаются. Станешь такому говорить: «Работаешь ты много, хорошо работаешь, а халат на тебе рваный и детишки твои голодные. Почему? Потому что плодами твоих трудов бай пользуется, который не работает. Правильно это»? А он отвечает: «Всё по воле аллаха». При чём тут аллах! Что ты заработал, то твоё, сам пользуйся. Ты ведь блоху убиваешь, если она тебя кусает, а бай – та же блоха, тоже ведь кровь твою пьёт. Почему ты не возмутишься? А он тебе: «Так всегда было. Так отцы наши и деды жили».
Сергей не просто пробуждает революционное сознание дайхан, а личным примером, собственной жизнью убеждает их в необходимости сообща бороться против старых порядков. Знание туркменского языка, глубокое уважение к народным обычаям, умение вникнуть в особенности сельской жизни позволяют ему быстро сходиться с людьми. Под его влиянием формируется и крепнет революционное сознание Клычли, Берды, Аллака и других. Они становятся в ряды последовательных борцов за интересы народа.
Заслуга X. Дерьяева заключается в том, что он сумел ярко и выпукло показать титаническую работу скромных рядовых коммунистов, подобных Сергею, по проникновению революционных социалистических идей в туркменскую народную среду, по сплочению дайханских масс. Образ Сергея Ярошенко – удачное пополнение галлереи замечательных образов русских рабочих-революционеров, созданных Б. Кербабаевым, Б. Сейтаковым и другими туркменскими писателями.
Роман «Судьба» – отличается разнообразием и богатством типов, характеров, что обусловлено сложностью исторической эпохи, отражённой в нём. Движение народа к революции раскрывается X. Дерьяевым как путь острой непримиримой борьбы антагонистических классов.
Реалистически показывает писатель врагов народа. Эзиз-хан, Ораз-сердар, Бекмурад-бай, Вели-бай, Сухан Скупой, арчин Меред и другие хитры, опытны и коварны. Обуреваемые честолюбием, жаждой власти, они не гнушаются никакими средствами для достижения корыстных целей. Меньше всего их интересуют нужды народа. Им не свойственны высокие человеческие побуждения. Чувства их низменны, поступки – подлы и коварны.
Отвратителен облик бая Сухана Скупого. Уже его прозвище как бы предваряет характер героя. Для него нет ничего святого, кроме золота. Он может мужественно и невозмутимо перенести обиды и насмешки, лишь бы это принесло ему выгоду. Страсть к накопительству выступает в качестве всеобъемлющей черты его характера, доходит до патологии.
Революция, победа народной власти приводят Сухана Скупого в трепет. Как безумный, мечется он со своим сундуком, набитым до отказа золотыми туманами и рублями, каждую ночь откапывая и закапывая его на новом месте.
Ни жестокость, ни изворотливость не могут уберечь силы прошлого – ханов, баев, ишанов – от полного краха. Точно следуя исторической правде, X. Дерьяев показывает, как само развитие событий приводит их к неминуемой гибели. Встав на путь открытого вредительства и явного бандитизма, Бекмурад-бай, Аманмурад, Вели-бай разоблачены и арестованы. В панике бежит из аула, прочь от людей в Каракумы Сухан Скупой. Справедливый суд народа свершился. В новой жизни, в новом обществе таким людям уже никогда не будет места. К такому выводу приходит читатель, закрывая последнюю страницу книги.
Роман «Судьба» создан талантливым и исключительно взыскательным художником слова. Нас пленяют в нём простота изложения, стройная композиция, верность художественной правде, точность деталей быта, глубокое знание жизни народа. Мы восхищаемся проникновением писателя в психологию героев, его умением запечатлеть и выразить самые сокровенные человеческие взаимоотношения, мысли и чувства.
Нельзя не заметить, что бытовая, этнографическая линия повествования, которой отведено особенно большое место в первых двух книгах, служит не только созданию местного колорита, но и раскрытию национальных характеров, формирующихся в конкретных исторических условиях. При этом писатель смело отступает от дестанных канонов в изображении характеров.
Естественно, данное послесловие не может в полной мере охватить всю сложность и многообразие проблематики романа, раскрыть весь арсенал средств и методов реалистического постижения истории, используемый автором. В чём-то можно не согласиться, поспорить с писателем. Эта задача, по-видимому, будет решена в будущем в специальном литературоведческом исследовании.
Работа над совершенствованием содержания, идейно-художественной структуры романа не прекращалась писателем на протяжении всего периода создания эпического произведения. Случилось так, что перевод на русский язык каждой книги осуществлялся буквально вслед за появлением её на туркменском языке. Это обстоятельство открывало широкие возможности для дальнейшей шлифовки композиции, образов на основе замечаний литературной критики и читательских откликов. Это привело также к осознанию необходимости увеличить количество персонажей, осложнить сюжетные линии произведения, значительно изменить его архитектонику, добиваясь цельности и компактности.
Поэтому пусть не удивляется тот, кто знаком с оригиналом романа (на туркменском языке) и его переводом, тем расхождениям, которые существуют между ними. Хидыр Дерьяев вместе с переводчиком Вячеславом Курдицким как бы заново прочёл своё детище, взглянул на него со стороны. Это была трудная и сложная работа, потребовавшая глубокого осмысления всего содержания романа, системы художественных образов и средств. В результате из ткани повествования исчезли частности, не подчинённые основной художественной задаче, зато введены и органически вплавлены в общую идейно-художественную структуру произведения новые герои, переосмыслены взаимоотношения персонажей, появились новые главы.
Огромная заслуга в успехе «Судьбы» у читателей принадлежит её переводчику В. Курдицкому. «Вдохновенный перевод, – говорил Л. Соболев на II съезде писателей Российской Федерации, – почти всегда подвиг своеобразного самопожертвования. И глубокого уважения и благодарности заслуживают те русские поэты и прозаики, которые идут на этот подвиг для развития советской литературы». Эти слова могут быть в полной мере отнесены к труду Вячеслава Курдицкого, переводчика взыскательного, обладающего высокой культурой, глубоко чувствующего природу художественного слова.
Читателям, вероятно, небезынтересно будет знать, что Вячеслав Курдицкий долгие годы живёт в Туркмении, хороню знаком с бытом, обычаями, историей и фольклором туркменского народа. Перевод «Судьбы» – это не первая его работа. Русскому читателю уже давно известны переводы В. Курдицкого произведений Беки Сейтакова, Клыча Кулиева, Ашира Назарова и других туркменских прозаиков. За перевод пьесы Берды Кербабаева «Кангысыз Атабаев» ему была присуждена Государственная премия Туркменской ССР имени Махтумкули. Но, пожалуй, нигде с таким блеском и объёмностью не проявился талант переводчика, как в романе «Судьба».
Перевод даёт тот же познавательный, эмоциональный художественный эффект, что и оригинал. Это достигнуто в результате того, что В. Курдицкий составил себе чёткое представление о переводимом писателе как о творческой индивидуальности, уяснил его мироощущение, его манеру видеть, чувствовать и понимать явления и предметы. Переводчик следует авторскому замыслу, ритмическому строю повествования, передаёт особенности лепки характеров, построения сюжета, диалога, описаний.
Обычно трудно бывает судить по переводу о языке произведения. Туркменская критика как одно из достоинств романа отмечала его великолепный язык. В данном случае в это нетрудно поверить. В переводе В. Курдицкого гибкость, народная красочность и меткость языка, его соответствие характерам героев или настроению переданы по-русски в достаточной мере. Переводчик пытается настолько близко подойти к языку и стилю оригинала, насколько это только возможно при громадных различиях, существующих в строе, образной структуре русского и туркменского языков.
«Судьба» – произведение высокохудожественное, прочно вошедшее в золотой фонд туркменской советской литературы. Созданное на материале прошлого, оно всем своим содержанием устремлено в будущее. В этом залог долголетия и неувядаемости романа.
ОЛЕГ КУЗЬМИН, кандидат педагогических наук, доцент ТГУ им. А. М. Горького.