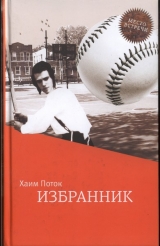
Текст книги "Избранник"
Автор книги: Хаим Поток
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 18 страниц)
– Ты еще не уснул, Рувим?
– Нет, аба.
– Ты очень терпеливый ученик. Выпью-ка я, пожалуй, еще чаю. Что-то во рту пересохло.
Я взял его стакан и налил заварки. Потом добавил воды из чайника и вернул отцу. Он зажал кубик сахара между зубами и медленно потянул из стакана, так что чай проходил через сахар. Затем поставил стакана на стол.
– Чай – благословение Господне, – сказал он с улыбкой. – Особенно для учителей, которым всегда приходится давать длинные ответы на короткие вопросы.
Я улыбнулся ему в ответ и спокойно ждал, когда он продолжит.
– Я вижу, ты хочешь, чтобы я продолжал, – сказал он наконец. – Так вот. Теперь я расскажу тебе другую историю, тоже подлинную историю, об одном еврейском мальчике, который жил в Польше во второй половине восемнадцатого столетия. Пока я буду рассказывать, думай о сыне рабби Сендерса, и ты получишь ответ.
«Этот мальчик, Рувим, был просто самородком, настоящим гением. Его звали Соломон, а свою длинную польскую фамилию он сам изменил на Маймон. Совсем молодым человеком он понял, что Талмуд не удовлетворяет его жажды знаний. Его ум не давал ему покоя. Ему хотелось знать, что происходит в большом мире. Немецкий язык был в то время языком науки и культуры, и он решил самостоятельно научиться читать по-немецки. Но и выучив этот язык, он не мог успокоиться, потому что чтение светских книг было запрещено. Наконец в возрасте двадцати пяти лет он оставил жену и ребенка и после долгих злоключений прибыл в Берлин, где вошел в круг философов, читал Аристотеля, Маймонида, Спинозу, Лейбница, Юма и Канта, и начал сам писать философские труды. Всех просто поражала та легкость, с которой он усваивал сложнейшие философские понятия. Он обладал могучим интеллектом, но этот интеллект лишил его покоя. Он колесил из города в город, нигде не мог укорениться, никогда не находил удовлетворения и наконец умер в возрасте сорока семи лет в поместье милосердного христианина, подружившегося с ним [28]28
Труды Соломона Маймона (1751 или 1754–1800) стали темой докторской диссертации Потока, защищенной им в Израиле за четыре года до выхода романа.
[Закрыть].Рувим! Сын рабби Сендерса наделен такими же выдающимися способностями, как Соломон Маймон. Возможно, даже еще более выдающимися. И сын рабби Сендерса не живет в Польше. Америка – свободная страна. Здесь нет стен, удерживающих евреев. Что же удивляться, что он нарушает запреты своего отца и читает запрещенные книги? Это неизбежно. Но это просто невероятно, чтоон прочитал за последние несколько месяцев. Ты прекрасный ученик, и я горд, что могу сказать тебе это, но он – это просто какой-то уникум. Такой, как он, – один на целое поколение.
А сейчас, Рувим, слушай очень внимательно, что я тебе говорю. Сын рабби Сендерса чудовищно одинок и неприкаян. Ему в прямом смысле слова не с кем поговорить. Ему нужен друг. Происшествие с этим бейсбольным мячом свело его с тобой, и он успел распознать в тебе того, с кем он может говорить безбоязненно. Я горжусь тобой за это. Он ни словом не обмолвился бы тебе о своих посещениях библиотеки, если бы хоть на мгновение допустил мысль, что ты можешь кому-то об этом разболтать. И я хочу, чтобы ты позволил ему стать твоим другом и сам стал его другом. Я уверен, что эта дружба пойдет на пользу вам обоим. Я знаю тебя, и я знаю его. И я знаю, что я говорю. Все, Рувим, урок окончен. Я допиваю свой чай и пора спать. Господи, ну и урок сегодня выдался! Хочешь еще чаю?»
– Нет, аба.
Мы сидели молча, пока отец допивал свой чай.
– Ты что-то притих, – сказал он наконец.
– А ведь все началось с дурацкой спортивной игры, – ответил я. – Просто поверить не могу.
– Рувим, когда ты вырастешь, ты поймешь, что важнейшие вещи в жизни часто происходят в результате дурацких, как ты их называешь, или, лучше сказать, заурядных происшествий. Так уж устроен мир.
Я покачал головой.
– Просто поверить не могу, – повторил я. – Вся эта неделя была какая-то словно не от мира сего. Больница, люди, с которыми я там познакомился… Мистер Саво, маленький Микки, Билли… И все из-за спортивной игры.
Мой отец ничего не отвечал и просто тянул свой чай, пристально глядя на меня из-за металлической оправы своих очков.
– Не понимаю я, – продолжил я. – Неделя проходит за неделей, одна суббота сменяется другой, и я все такой же, ничего не меняется, и вдруг в один день случается что-то – и все выглядит по-другому.
– По-другому? Как это – по-другому?
Я объяснил ему, что я чувствовал сегодня днем, вернувшись из больницы. Он спокойно слушал, попивая свой чай. Закончив, я увидел, что он улыбается. Он снял очки, вздохнул и сказал:
– Рувим, как это ужасно, что твоя мать не дожила до…
У него перехватило дыхание, он замолчал. Потом взглянул на часы на полочке над холодильником.
– Уже очень поздно, – сказал он. – Мы завтра поговорим.
– Да, аба.
– Рувим…
– Что?
– Да нет, ничего… Иди спать. Я посижу еще немного и выпью еще стакан чаю.
Когда я уходил, он сидел, уставившись в белую скатерть.
Глава седьмая
На следующий день Дэнни познакомил меня со своим отцом.
Мы встали рано, чтобы быть в синагоге к восьми тридцати. Маня пришла незадолго до восьми и приготовила легкий завтрак. Затем мы с отцом отправились в синагогу, которая находилась в трех кварталах от дома. Стояло чудесное утро, и я был просто счастлив, что снова хожу по улицам. Так здорово, что я не в больнице и могу смотреть на людей и на машины. Мы оба очень любили этот субботний путь до синагоги и обратно – когда не шел дождь и не было слишком холодно.
В Вильямсбурге много синагог. У каждой хасидской общины был свой собственный молитвенный дом – штибл, как они его называли. Как правило – тускло освещенная, пахнущая плесенью комната с тесно составленными стульями или скамейками и наглухо закрытыми окнами. Были также синагоги для тех евреев, что не являлись хасидами. Та синагога на авеню Ли, в которой молились мы с отцом, была некогда большим магазином. Нижние половины окон в ней тоже были занавешены, но верхние, незанавешенные, были постоянно залиты светом, и я любил смотреть, как солнечные лучи окрашивают золотом страницы молитвенников, пока мы с отцом читаем молитвы.
Синагогу посещали в основном учителя из ешив и другие люди отцовского круга, наследники еврейского Просвещения, чье неприятие хасидизма было явным и бесспорным. Молились здесь и многие ученики моей ешивы, и я был рад повидать их в это субботнее утро.
Когда мы с отцом вошли, служба только начиналась. Мы заняли наши обычные места в нескольких рядах от окна и присоединились к молитве. Я видел, когда вошел Дэви Кантор. Он кивнул мне, мрачно взглянул из-под очков и уселся на свое место. Служба шла медленно; стоящий на помосте кантор читал сильным голосом и ждал, пока каждый молящийся закончит очередную часть молитвы, прежде чем запеть. Во время Тихой Молитвы я бросил взгляд на отца. Он стоял в своем длинном талите, и серебряная вышивка отсвечивала в лучах солнца, а кисти почти доставали до пола. Глаза его были прикрыты – он всегда молился по памяти, за исключением праздничных дней и особо торжественных случаев, – его губы шептали слова молитвы, а сам он легонько раскачивался взад-вперед. На мне талита не было: он полагался только женатым мужчинам.
На чтении Торы, которое следовало за Тихой Молитвой, я оказался одним из восьми человек, вызванных на возвышение для чтения благословения над Торой. Стоя на возвышении, я внимательно слушал, как кантор нараспев произносит слова со свитка. Когда он закончил, я прочитал второе благословение и ту молитву, которая возносится Господу, когда Он отводит от тебя большую беду. Возвращаясь на место, я спрашивал себя: а какую молитву я должен был вознести, если бы мой глаз ослеп? А какое благодарение Богу должен был бы приносить мистер Саво, будь он евреем? До конца службы я беспрестанно думал о мистере Саво и Билли.
Дома нас ждал обед, и Маня все подкладывала и подкладывала мне добавку и требовала, чтобы я все съел. Тому, кто только что вышел из больницы, надо хорошо кушать, объясняла она мне на своем ломаном английском. Отец поговорил со мной о школе. Я должен беречься и ничего не читать, пока доктор Снайдмен не разрешит мне это, напомнил он, но нет ничего предосудительного, если я буду посещать уроки и просто слушать. Возможно, он будет помогать мне с уроками. Возможно, читать мне вслух. После благодарственной молитвы отец прилег отдохнуть, а я уселся на заднем крыльце и стал разглядывать цветы и деревья в солнечном свете. Я провел так около часа, пока отец не вышел предупредить меня, что ушел навестить своего коллегу.
Я снова растянулся на шезлонге и уставился в небо. Оно было бескрайним и синим, без единого облачка, и мне казалось, что я почти могу дотронуться до него. Это цвет глаз Дэнни, вдруг подумал я. Небо такое же синее, как глаза Дэнни. А какого цвета глаза Билли? Тоже синие. И у Дэнни, и у Билли – синие глаза. Но одна пара глаз слепа. А может, уже и не слепа. Может, обе пары глаз уже в полном порядке, подумал я. Я уснул, размышляя о глазах Дэнни и Билли.
Это был легкий сон без сновидений, дрема, которая придает сил, но не отключает от внешнего мира полностью. Я чувствовал дуновение теплого ветерка и запах свежескошенной травы, а в ветвях сидела птичка и долго пела, прежде чем улететь. Я каким-то образом знал, где эта птичка, даже не открывая глаз. Дети играли на улице, разок тявкнула собака и взвизгнули автомобильные тормоза. Где-то играли на пианино, и музыка медленно накатывала на меня и уходила, как океанский прилив и отлив. Я почти узнавал мелодию, но никак не мог вспомнить – она ускользала от меня, как ветерок. Я слышал, что дверь открылась и закрылась, заскрипели половицы, а потом все смолкло, я знал, что кто-то поднялся на крыльцо, но никак не мог открыть глаза, чтобы не спугнуть этот полусон с его запахами, звуками и струящейся музыкой. Кто-то стоял на крыльце и смотрел на меня. Я ощущал его взгляд. Он постепенно вытаскивал меня из сна, и вот наконец я открыл глаза и увидел Дэнни, стоящего в ногах шезлонга, скрестив руки на груди, покачивая головой и прищелкивая языком.
– Ты спал как младенец, – сказал он, – мне прямо совестно, что я тебя разбудил.
Я зевнул, потянулся и сел в шезлонге.
– Хорошо вздремнул… – сказал я и снова зевнул. – А сколько сейчас времени?
– Почти пять, соня. Я тебя здесь уже десять минут жду.
– Я проспал почти три часа… Вот так вздремнул!
Он снова пощелкал языком и покачал головой.
– Какой же ты полевой игрок, – сказал он, подражая мистеру Галантеру. – Как мы сможем крепить оборону, Мальтер, если ты здесь дрыхнешь?
Я засмеялся и вскочил на ноги.
– Куда пойдем? – спросил он.
– Понятия не имею.
– Давай зайдем к моему отцу в шул? [29]29
Шул – небольшая синагога ( идиш).
[Закрыть]Он хотел бы с тобой познакомиться.
– А где это?
– В пяти кварталах отсюда.
– А мой отец здесь?
– Я его не видел. Меня ваша служанка впустила. Так что, идем?
– Конечно. Дай только я умоюсь и надену пиджак с галстуком. Ты уж извини, лапсердака у меня нет.
Он ухмыльнулся:
– Строгая форма обязательна только для верной паствы.
– Ладно, верная паства. Зайди со мной в дом и подожди немного.
Я умылся, оделся, сказал Мане, чтобы она объяснила отцу, куда я отправился, и мы вышли.
– Зачем твой отец хочет меня видеть? – спросил я, когда мы сошли с каменных ступеней крыльца.
– Он хочет с тобой познакомиться. Я сказал ему, что мы друзья.
Мы вышли на улицу и направились в сторону авеню Ли.
– Он всегда проверяет моих друзей, – пояснил Дэнни. – Особенно тех, кто не входит в паству. Это ничего, что я сказал ему, что мы друзья?
– Ничего.
– Я правда так думаю.
Я ничего не ответил. Мы дошли до перекрестка с авеню Ли и повернули направо. Авеню была полна машин и людей. Что могут подумать мои одноклассники, завидев меня с Дэнни? Вот у них тема для разговоров будет! Ладно, рано или поздно они меня с ним увидят.
Дэнни смотрел на меня, его скульптурное лицо выглядело серьезным.
– У тебя есть братья или сестры? – спросил он.
– Нет. Моя мать умерла вскоре после моего рождения.
– Очень жаль это слышать.
– А у тебя?
– Брат и сестра. Сестре четырнадцать, брату восемь. А мне скоро пойдет шестнадцатый.
– И мне тоже.
Мы выяснили, что родились в один год, с разницей в пару дней.
– Ты прожил все эти годы в пяти кварталах от меня, а я ничего про тебя не знал, – сказал я.
– Мы живем довольно замкнуто. Мой отец не любит, когда мы общаемся с посторонними.
– Извини, что я тебе это говорю, но твой отец похож на тирана.
Дэнни не стал спорить. А вместо этого сказал:
– Он очень волевой человек. Когда он принимает решение, так тому и быть. Точка.
– А он не возражает, что ты общаешься с таким апикойресом, как я?
– Потому-то он и хочет с тобой познакомиться.
– Ты ж вроде говорил, что твой отец никогда с тобой не разговаривает.
– Он и не разговаривает. За исключением того времени, когда мы изучаем Талмуд. Тогда мы разговариваем. Во время занятий я набрался храбрости и рассказал ему про тебя, и он сказал мне привести тебя сегодня. Это самая длинная фраза, которую я от него слышал за многие годы. Кроме того раза, когда я убедил его разрешить нам играть в бейсбол.
– Я бы с ума сошел от отца, который со мной не разговаривает.
– Это неприятно, – спокойно ответил Дэнни. – Но мой отец – выдающийся человек. Познакомиться – увидишь сам.
– Твой брат тоже станет раввином?
Дэнни уставился на меня:
– А почему ты спрашиваешь?
– Да нипочему. Так станет?
– Не знаю… Может, и станет.
Он сказал это каким-то странным, почти тоскливым голосом. Я решил не углубляться в эту тему. А он продолжил рассказывать о своем отце:
– Он действительно выдающийся человек, мой отец. Знаешь, он же спас свою общину – перевез ее в Америку вскоре после Первой мировой войны.
– Я никогда об этом не слышал, – отозвался я.
– Так оно и было.
И Дэнни рассказал мне о молодости своего отца в России. Я слушал с возрастающим изумлением.
Дед Дэнни был уважаемым хасидским ребе в маленьком городке на юге России, а отец – вторым из его сыновей. Старший сын должен был унаследовать раввинское место его отца, но во время обучения в Одессе он внезапно пропал. Кто-то говорил, что он убит казаками; в то же время ходили слухи, что он принял христианство и уехал во Францию. Второй сын стал наследником в семнадцать лет и к двадцати годам снискал репутацию выдающегося талмудиста. После смерти отца он автоматически занял его место. В то время ему шел двадцать второй год.
Он оставался ребе все то время, пока Россия участвовала в Первой мировой войне. За неделю до большевистской революции, осенью 1917 года, его молодая жена родила ему второго ребенка, сына. Два месяца спустя его сын, его жена и его восемнадцатимесячная дочь были убиты шайкой казаков-мародеров, одной из многих банд, бродивших по России после революции, когда она погрузилась в хаос. Он сам был оставлен на смерть с пистолетной пулей в груди и бедром, рассеченным сабельным ударом. И полдня пролежал без сознания рядом с телами детей и жены, прежде чем русский крестьянин, который топил в синагоге печь и подметал пол, нашел его, отнес в свой дом, вынул пулю, перевязал раны и привязал к кровати, чтобы он не слетел на пол, пока метался дни и ночи в лихорадке и безумии, которые за этим последовали.
Синагога была сожжена дотла. Ковчег представлял собой слипшуюся кучу золы, четыре свитка Торы обуглились, священные книги обратились в кучки серого пепла, разносимого ветром. Из ста восемнадцати еврейских семей в общине выжило сорок три.
Когда наконец выяснилось, что ребе выжил и спасен русским крестьянином, его перенесли в относительно не пострадавший еврейский дом и выхаживали, пока он не оправился от ран. На это ушла вся зима. Той зимой большевики подписали Брест-Литовский мирный договор с Германией, и Россия вышла из войны. Внутренний хаос только усилился: деревня четырежды подвергалась казачьим набегам. Но всякий раз сочувствующие крестьяне заранее предупреждали евреев, и те укрывались в лесах или в шалашах. Весною ребе объявил своим последователям, что с Россией покончено, что Россия – это страна Исава и Эдома, земля Сатаны и Ангела Смерти. Они все должны отправиться в Америку и там возродить общину.
Через восемь дней они отправились в путь. Подкупом и взятками они пересекли Россию, Австрию, Францию, Бельгию и Англию и пять месяцев спустя прибыли в Нью-Йорк. На Эллис-Айленд [30]30
Островок в Нью-Йоркском заливе – главный иммиграционный центр США в 1892–1954 годах.
[Закрыть]у ребе спросили, как его зовут, он сказал «Сендер», а в документах это превратилось в «Сендерс». После необходимого карантина им разрешили покинуть остров, и еврейские благотворительные организации помогли им обосноваться в Бруклине, в Вильямсбурге. Через три года ребе опять женился, и в 1929 году, за два дня до обвала фондовой биржи, в бруклинской Мемориальной больнице, родился Дэнни [31]31
Дэнни и Рувим родились в октябре 1929 года, и в описываемый период (июнь 1944 года) им неполные пятнадцать.
[Закрыть]. Через полтора года там же родилась его сестра, а через пять с половиной лет после сестры – его брат, кесаревым сечением.
– Вот прямо так взяли и поехали за ним? – спросил я. – Все как один?
– Конечно. Они поехали бы за ним куда угодно.
– Я не понимаю этого. Я никогда не слышал, чтобы раввин обладал такой властью.
– Он не просто раввин, – напомнил Дэнни. – Он цадик.
– Отец рассказывал мне вчера вечером о хасидизме. Он говорил, что это была прекрасная идея – до той поры, пока некоторые цадики не начали злоупотреблять своим положением. Он был не слишком благосклонен.
– Это зависит от точки зрения, – спокойно сказал Дэнни.
– Я просто не могу понять, как евреи могут так слепо вверяться такому же смертному человеку, как они.
– Он не такой же, как они.
– Он подобен Богу?
– Что-то вроде этого. Он Божий посланник, мост, связующий его последователей с Богом.
– Я не понимаю. Это же прям католицизм какой-то.
– Это так, как оно есть. Понимаешь ты это или нет.
– Я не собираюсь оскорблять тебя или кого-то еще. Я просто хочу быть честным.
– Я и хочу, чтобы ты был честным.
Дальше мы шли молча.
За квартал до той синагоги, где я молился утром с отцом, мы свернули направо, в узкую улочку, тоже полную бурых домов и платанов. Эта улица была в точности как наша, но выглядела старее и запущеннее. Цветов перед домами было совсем мало, а многие дома вообще стояли незаселенными. Переплетенные кроны платанов бросали на тротуары густую тень. Каменные балясины перил на парадных лестницах были выщерблены, а сами лестницы – покрыты грязью, их каменные ступени за много лет истерлись и стесались. Кошки вились вокруг мусорных баков, а боковые дорожки были завалены старыми газетами, конфетными фантиками, обертками от мороженого и бумажными мешками. Женщины в платьях с длинными рукавами и в платках, покрывающих голову, сидели на каменных ступеньках и громко переговаривались на идише. Многие держали на руках младенцев или были беременными. Улица наполнялась гомоном играющих детей, которые носились туда-сюда между машинами, прыгали вверх и вниз по каменным ступенькам, лазали по деревьям, балансировали на перилах, бегали за кошками и друг за другом – а их пейсы и цицит развевались и плыли по воздуху вслед за ними. Мы быстро шли под густой тенью платанов, и какой-то высокий, крупный мужчина с черной бородой и в черном лапсердаке сильно толкнул меня, чтобы не врезаться в женщину, и пошел дальше, не сказав ни слова. Стайки играющих детей, шумная болтовня женщин в глухих платьях, обветшалые дома с выщербленными перилами, кошки, роющиеся в баках… от всего этого у меня было такое чувство, будто я пересек невидимую границу, и какое-то время я досадовал, что позволил Дэнни увлечь меня в свой мир.
Мы подошли к группе из примерно тридцати мужчин в черных лапсердаках, сгрудившихся перед трехэтажным зданием бурого кирпича в конце улицы. Они перегородили тротуар, и я замедлил шаги, чтобы в них не врезаться, но Дэнни взял меня одной рукой за плечо, а другой похлопал по плечу человека, стоявшего к нам ближе всего. Тот повернулся к нам всем телом – это был мужчина средних лет, его черную бороду уже пробила седина, – его толстые брови начали раздраженно хмуриться – и вдруг его глаза распахнулись. Он слегка поклонился и отодвинулся, по толпе прошелестел шепот, как ветерок, все расступились, и мы прошли сквозь толпу. Дэнни держал меня за руку и кивал направо и налево, отвечая на идише на приветствия, которые перелетали из уст в уста. Ощущение было такое, что темное, студеное море взрезано плугом и по обе стороны от нас черными стенами застыли волны. Я видел, как головы с черными и седыми бородами склонялись перед Дэнни, а темные брови откровенно поднимались над глазами в обращенном ко мне немом вопросе – кто я таков и почему Дэнни ведет меня под руку? Медленно продвигаясь вперед, мы прошли уже почти половину толпы, пальцы Дэнни по-прежнему оставались сомкнутыми на моей руке, повыше локтя. Я чувствовал себя обнаженным и незащищенным, чужаком, и, пытаясь найти глазами что-то кроме черных и седых бород, я уставился наконец на тротуар, прямо себе под ноги. Затем, чтобы не слышать приветственные бормотания на идише, я стал прислушиваться, как цокают по цементному покрытию каблуки Дэнни со стальными набойками. Это был резкий, необычно громкий звук, я слышал его так же ясно, как будто мы шли в пустоте. Я полностью сосредоточился на этом звуке – мягкий шорох подошвы, и затем – резкий «щелк!» металлических набоек, пока мы поднимались по каменным ступеням крыльца, ведущего в дом из бурого камня, перед которым и толпились все эти люди. Набойки прощелкали по ступеням, потом по самому крыльцу, перед двустворчатыми дверьми – и я вспомнил старика, которого часто видел на авеню Ли, осторожно пробирающегося по людной улице, беспрерывно стуча в тротуар своей окованной тростью, которая служила ему заменой глаз, потерянных в окопах Первой мировой во время немецкой газовой атаки.
Вестибюль дома тоже был наполнен мужчинами в черных лапсердаках, и там тоже сразу образовался проход, полный тихих приветствий и вопрошающих глаз, а когда мы с Дэнни вошли в открытую направо дверь, то наконец оказались в синагоге.
Это была большая комната, как мне показалось, точно такая же по размеру и форме, как вся наша квартира. То, что было спальней моего отца, – здесь стало частью синагоги, в которой стояли Ковчег, девятисвечник – Ханукия, небольшое возвышение справа от Ковчега и большое – примерно в десяти футах от Ковчега. Оба возвышения и Ковчег были покрыты красным бархатом. То, что было нашей кухней, коридором, ванной, моей спальней, отцовским кабинетом и прихожей, оказалось той частью, в которой сидели молящиеся. Перед каждым стулом возвышалась подставка с пюпитром, на нижний край которого была набита деревянная планка, не дающая соскользнуть на пол тому, что стоит на пюпитре. Стулья были расставлены примерно до расстояния в двадцать футов от задней стены – той, что была напротив Ковчега. Небольшая часть синагоги со второй, дальней дверью в вестибюль отделялась занавеской из белой марли. Это была женская часть с несколькими рядами деревянных стульев. Остальная площадь синагоги была тесно заставлена столами и скамейками. Посередине оставался узкий проход, упирающийся в возвышение. Стены были окрашены белым. Деревянный пол – темно-коричневым. Три окна в задней стене задрапированы черным бархатом. Потолок тоже был белым, и голые лампочки свисали с него на черных проводах, заливая помещение резким светом.
Мы приостановились внутри, у одного из столов. В комнату постоянно входили и выходили люди. Кто-то останавливался в вестибюле поболтать, кто-то занимал свои места. Некоторые из стульев были заняты мужчинами, склоненными над Талмудом, читающими Псалмы или переговаривающимися между собой на идише. На скамейки никто не садился, а на белой скатерти, которая покрывала столы, возвышались бумажные стаканчики, деревянные ложки и вилки, и стояли бумажные тарелки, наполненные разнообразной снедью. Там была маринованная селедка с луком, латук, помидоры, фаршированная рыба, субботние хлеба – испеченные в виде косичек батоны, называющиеся халами, тунец, лосось и яйца вкрутую. У того конца стола, что ближе к окну, стояло коричневое кожаное кресло. Перед ним на столе возвышались кувшин, блюдце и лежало полотенце. А еще – большое блюдо, покрытое субботним покрывалом – белой шелковой салфеткой, по которой золотом было вышито слово «суббота» на иврите. Рядом с блюдом лежал длинный серебряный нож с зубчиками.
В дверь вошел высокий, грузный парень, кивнул Дэнни, потом заметил меня – и стал пристально рассматривать. Я его сразу узнал, это был Дов Шломовиц, игрок бейсбольной команды Дэнни, который врезался в меня и сбил с ног на второй базе. Казалось, он хотел что-то сказать Дэнни, но передумал, неуклюже повернулся, прошел вперед по проходу и сел на стул. Заняв свое место, он обернулся на нас с Дэнни, потом раскрыл книгу, стоявшую на подставке, и принялся раскачиваться взад-вперед. Я взглянул на Дэнни и изобразил что-то вроде улыбки.
– Я здесь как ковбой, окруженный индейцами, – шепнул я ему.
Дэнни ободряюще улыбнулся.
– Ты в святых стенах, – ответил он. – Привыкай.
– Там на улице все расступились, словно воды Чермного моря. Как тебе это удалось?
– Не забывай – я же сын своего отца. Наследник династии. Пункт первый нашего катехизиса: чти сына, как чтишь отца, ибо однажды сын станет отцом.
– Ты говоришь как митнагед, – сказал я и слабо улыбнулся.
– Вот и нет. Я говорю как тот, кто слишком много читает. Ладно, давай сядем впереди. Мой отец скоро спустится.
– Вы живете прямо здесь?
– Мы занимаем два верхних этажа. Это очень удобно. Пошли же. Видишь, все уже заходят.
Люди, толпившиеся в коридоре и перед входом, начали заходить в двери. Мы с Дэнни вышли в центральный проход. Он подвел меня к первому ряду стульев, стоящему справа от большого возвышения, прямо перед малым возвышением, и уселся на второй стул. Я сел на третий. Первый стул, предположил я, был предназначен для его отца.
Толпа быстро прибывала, и скоро синагога наполнилась шарканьем туфель, шумом отодвигаемых стульев и громкими разговорами на идише. По-английски никто не говорил – только на идише. Я смотрел со своего стула на Дова Шломовица. Он уставился на меня, на его тяжелом лице застыло выражение изумления и неприязни, и я вдруг осознал, что, возможно, у Дэнни возникнет больше проблем со своими приятелями из-за нашей дружбы, чем у меня – с моими. Хотя нет, подумал я, наверно, меньше. Я же не сын цадика. Передо мной не расступается толпа. Дов Шломовиц отвел взгляд, но я заметил, что другие люди в синагоге тоже смотрят на меня. Я уперся взглядом в раскрытый молитвенник передо мной, снова чувствуя себя обнаженным, уязвимым и очень одиноким.
Два седобородых старика подошли к Дэнни, и он в знак почтения поднялся со стула. У них вышел спор относительно одного места в Талмуде, пояснили старики. Каждый из них толковал его по-своему, и они никак не могли определить, кто из них прав. Они пояснили, о каком именно месте идет речь, Дэнни кивнул, незамедлительно назвал трактат и страницу, а затем холодным и механическим голосом повторил фрагмент слово в слово, давая сразу свое толкование, а также цитируя толкования различных средневековых комментаторов, таких, как Меири, Рашба и Могарша. Это трудное место, добавил он, жестикулируя по мере объяснения и обводя широкие круги большим пальцем правой руки, чтобы подчеркнуть ключевые слова своего толкования, так что оба они правы; один, не зная того, принял толкование Меири, а другой – Рашба. Старики улыбнулись и ушли удовлетворенными. Дэнни снова сел.
– Это трудный кусок, – сказал он мне. – Черт ногу сломит. Твой отец, наверно, вообще скажет, что текст просто испорчен.
Он говорил тихо и широко улыбался.
– Я читал кое-что из статей твоего отца. Стянул со стола у моего. Та статья, что посвящена фрагменту из Кидушин, о том, как вести дела с царями, очень хороша. Полна настоящих апикойрсише штучек.
Я кивнул и тоже попытался улыбнуться. Мой отец читал со мной эту статью, прежде чем отослать ее в редакцию. Он начал читать мне свои статьи в прошлом году, и тратил немало времени, объясняя мне их.
Шум в синагоге усилился почти до грохота, комната ходуном ходила от скрипа стульев и громких разговоров. Дети бегали по проходу, смеясь и перекрикиваясь, и какие-то молодые мужчины сгрудились у дверей, громко переговариваясь и жестикулируя. На мгновение мне показалось, что я попал на карнавал. Я недавно видел такой в кино – с шумной, волнующейся, толкающейся толпой и кричащими, размахивающими руками продавцами и зазывалами.
Я тихо сидел, уставясь в молитвенник на моем пюпитре. Я раскрыл его на вечерней службе. Старые страницы книги пожелтели, края истрепались, а уголки загнулись. Я сидел, глядя на первый псалом, и вспоминал тот почти новый молитвенник, что был у меня в руках сегодня утром. Я почувствовал, как Дэнни пихает меня локтем в бок, и поднял на него глаза.
– Отец идет.
Его голос был тих и, как мне показалось, немного напряжен.
Шум в синагоге прекратился так резко, что я почувствовал его отсутствие почти как нехватку воздуха. Тишина накатила мягкой волной с задних рядов к передним. Я не слышал никакого сигнала или призыва к тишине; шум просто остановился, иссяк, как будто кто-то захлопнул дверь в игровую комнату, наполненную детьми. Воцарившаяся следом тишина, казалось, была наполнена ожиданием, напряжением, благоговением и любовью.
По узкому центральному проходу медленно шел человек в сопровождении ребенка. Это был высокий мужчина, облаченный в долгополый шелковый лапсердак и черную меховую шапку. Когда он проходил мимо очередного ряда, люди вставали, слегка кланялись и садились обратно. Кое-кто протягивал руку, чтобы прикоснуться к нему. Он кивал головой в ответ на звучавшие с мест приветствия, и его длинная черная борода колыхалась взад-вперед на груди, а пейсы покачивались. Он шел медленно, заложив руки за спину, и, когда он поравнялся со мной, я сумел разглядеть ту часть его лица, что оставалась на виду, не скрытая бородой. Это лицо было словно высечено из камня – с резко очерченным и заостренным носом, выступающими скулами, полными губами, мраморным лбом, иссеченным морщинами, глубокими глазными впадинами, широкими черными бровями, разделенными вертикальной морщиной, похожей на борозду на поле. Его глаза были темными, светлые искорки плясали на них как на поверхности черного камня. Лицо Дэнни повторяло его в точности – за исключением цвета глаз и волос. Ребенок, следующий за ним, держась правой рукой за его лапсердак, был его миниатюрным подобием – такой же лапсердак, такая же меховая шапка, такое же лицо с волосами того же цвета, только без бороды, и я понял, что это младший брат Дэнни. Я перевел взгляд на Дэнни и увидел, что он стоит с бесстрастным лицом, уперев взгляд вниз, в пюпитр. Я снова стал смотреть, как глаза присутствующих следовали за рабби, шествующим по проходу, заложив руки за спину и качая головой, и затем я увидел, как все взгляды сошлись на мне и Дэнни, когда он поравнялся с нами. Дэнни быстро вскочил на ноги, я последовал за ним, и мы стояли, дожидаясь, пока темные глаза рабби прошлись по моему лицу – я чувствовал его взгляд, как будто он проводил по лицу рукой, – и остановились на моем левом глазе. Я вспомнил на мгновение нежный взгляд моего отца из-под стальной оправы его очков, но воспоминание быстро прошло, потому что Дэнни представлял меня рабби Сендерсу.








