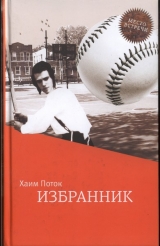
Текст книги "Избранник"
Автор книги: Хаим Поток
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 18 страниц)
Глава одиннадцатая
Первые два месяца учебного года мы с Дэнни могли регулярно видеться только по субботам после обеда. Только однажды нам удалось повстречаться посреди недели. Меня выбрали президентом класса, и я неожиданно оказался вовлечен в общественную работу. Вечера, которые я мог бы проводить с Дэнни, я проводил на собраниях школьного совета или школьного комитета. Правда, мы часто созванивались, и у нас не было ощущения, что наша дружба ослабевает. Но мы никогда не обсуждали Фрейда по телефону.
В ноябре мне удалось выбраться к нему домой среди недели. Я принес полдюжины книг по еврейской тематике, рекомендованные моим отцом, и он сердечно меня благодарил. Он казался немного встревоженным, но в целом выглядел прекрасно – за исключением глаз, которые, по его словам, быстро уставали. Он даже был у врача, но очки ему не нужны, так что все в порядке. Я поинтересовался, как продвигаются его дела с Фрейдом, и он признался со смущенным видом, что ему редко удается выбираться в библиотеку в последнее время, слишком много уроков, но он выкраивает время на чтение там и сям, и чтение это его очень смущает.
– Я хочу как-нибудь поговорить с тобой об этом не торопясь, – сказал он, часто моргая оттого, что устали глаза.
Но у нас и вправду не было возможности для спокойной беседы. Субботние дни становились все короче и короче, и мои домашние задания были бесконечными, и общественная работа забирала все остальное время.
А в середине декабря, когда казалось, что война близка к завершению, немцы предприняли широкое наступление в Арденнах, и началась Битва за Выступ [54]54
«Battle of the Bulge» ( англ.), в русской историографии «Арденнская операция».
[Закрыть]. Последовали отчеты об ужасных потерях – газеты сообщали, что американские войска теряли по две тысячи убитыми и ранеными каждый день.
В Нью-Йорке стояла холодная, промозглая зима, омраченная известиями о сражениях в Арденнах. По вечерам, когда я делал уроки за своим столом, до меня доносились с кухни военные сводки по радио. Отец сидел там с военными картами и следил за новостями.
Битва за Выступ закончилась в середине января. Газеты писали о потерях в семьдесят семь тысяч со стороны союзников и в сто двадцать тысяч со стороны немцев.
За все время Битвы за Выступ, с середины декабря по середину января, я ни разу не видел Дэнни. Мы несколько раз созванивались; он рассказал мне, что его брату опять стало хуже и ему придется провести какое-то время в больнице. Но когда я позвонил в следующий раз, с братом оказалось все в порядке – доктор прописал другие таблетки, объяснил Дэнни, и, похоже, они помогают. Голос его звучал устало и грустно, порой я с трудом его разбирал. Битва за Выступ? Да, отвечал он рассеянно, скверная штука. А когда я смогу к нему зайти? Как только выдохнуть смогу, отвечал я. Не тяни слишком долго, сказал он на это, мне надо с тобой поговорить. Я спросил, насколько это важно. Да нет, отвечал он грустным голосом, это не оченьважно, это может подождать.
И это ждало. Ждало, пока я сдавал экзамены за полугодие, и ждало, когда я в феврале дважды приходил к Дэнни домой. Мы вели вместе с его отцом наши обычные талмудические споры, но нам не предоставлялось возможности поговорить наедине достаточно долго. И вдруг новости о войне в Европе достигли пика своей активности. Русские захватили Кёнигсберг и Бреслау и оказались в тридцати милях от Берлина, а к концу первой недели марта американские войска вышли на Рейн в районе Ремагена и обнаружили, к своему изумлению, что мост Людендорфа по каким-то причинам не был разрушен немцами. Мой отец чуть не плакал от радости, слушая эти новости. Много обсуждалось, что форсирование Рейна будет неизбежно сопряжено с кровавыми битвами и большими потерями. А вместо этого американские войска переправились по мосту, Ремагенский плацдарм был быстро расширен и укреплен, его прочно удерживали от немецких контратак – и все принялись говорить, что война кончится через два месяца.
Мы с отцом были вне себя от радости, и даже Дэнни, с которым я увиделся снова в середине марта и который обычно не проявлял особого интереса к подробностям военных действий, начал говорить о них с возбуждением.
– Это конец Гитлера, да будет стерто его имя и память о нем! – сказал мне рабби Сендерс в ту же субботу. – Царь Вселенной, как же много времени на это ушло! Но теперь конец близок.
Он трепетал, говоря это. И казалось, его душили слезы.
В последнюю неделю марта Дэнни подхватил грипп и больше недели оставался в кровати. За это время были взяты Саар и Силезия, а Рур окружен американскими войсками, и войсками генерала Паттона был сформирован у Рейна еще один плацдарм. Почти каждый день возникали слухи о том, что война окончена. Но слухи всякий раз опровергались, и это только подстегивало наше с отцом нетерпение, когда мы читали газеты и слушали радио.
Дэнни вернулся к занятиям в конце первой недели апреля – слишком быстро, как выяснилось через два дня, когда он свалился с бронхитом. Я спросил по телефону у его матери, могу ли я его навестить, но она запретила мне. Он слишком болен, и к тому же болезнь его заразна, так что даже сестре и брату запрещено заходить к нему в комнату. Тогда я спросил разрешения поговорить с ним, но и это было невозможно: из-за высокой температуры он не вставал с кровати и не подходил к телефону. Она была очень обеспокоена. Он сильно кашляет, сказала она. И измучен сульфамидами, которые принимает. Да, она передаст мои пожелания скорейшего выздоровления.
Днем во вторник второй недели апреля я сидел на заседании школьного совета. Оно началось достаточно спокойно, с чтения отчетов и докладов, как вдруг Дэви Кантор ворвался в комнату с заплаканным лицом и прошептал, что президент Рузвельт умер [55]55
12 апреля 1945 года.
[Закрыть].
Он стоял в распахнутом дверном проеме, а весь класс в изумлении повернулся к нему. Не докончив фразы и стоя у своей парты, я вдруг услышал свой сердитый голос – какого черта он так врывается без спросу, и это совсем не смешно.
– Это правда! – закричал он сквозь слезы. – Мне мистер Вайнберг сказал. Он только что услышал по радио в учительской.
Я уставился на него и почувствовал, как оседаю на свою парту. Мистер Вайнберг, учитель английского, был лысым коротышкой, начисто лишенным чувства юмора и все время повторявшим: «Не верь ничему, что ты слышишь, и только половине того, что ты видишь!» И раз именно он сказал Дэви о смерти президента…
Я внезапно покрылся холодным потом. Кто-то в комнате истерически хихикнул, кто-то проронил «Нет!», и наш классный встал и предложил перенести собрание.
Мы стали выходить из здания. Пока я преодолевал три лестничных пролета, я еще не верил. Я просто не мог поверить. Это как если бы Бог умер. Дэви Кантор говорил что-то о внутримозговом кровоизлиянии, но я не верил. Пока не выбрался на улицу.
Было начало шестого, еще вовсю светило солнце. Вечерний час пик был в разгаре. Грузовики, легковушки и трамвай стояли на перекрестке, дожидаясь сигнала светофора. Я быстро пересек улицу, добежал до трамвая и вскочил в него, как раз когда загорелся зеленый. Внутри я сел рядом с дамой средних лет. Она смотрела прямо перед собой и беззвучно всхлипывала. Я осмотрелся. Весь трамвай молчал. В нем было полно народу, а после остановки стало еще больше, но висела полная тишина. Какой-то человек сидел, прижав ладони к глазам. Я выглянул в окно. Люди на тротуарах стояли маленькими группками. Не заметно было, чтобы они говорили. Они просто стояли вместе, как животные, сбившиеся в стадо в поисках защиты. Пожилая женщина шла с ребенком, прижав платок ко рту. Ребенок посмотрел на нее и спросил что-то, но я не слышал, что именно. Я тоже плакал и ощущал сосущую пустоту, как будто я был выпотрошен и внутри меня оставались только жуть и мрак. Я чувствовал себя так, будто это мой отец умер.
Это продолжалось на протяжении всей дороги до дома: тишина в трамвае, всхлипывающие мужчины и женщины, молчаливые группки на тротуарах и дети, тщетно допытывающиеся у взрослых, что произошло.
Маня и отец были дома. Открыв входную дверь, я услышал радио на кухне, бросил учебники в своей комнате и присоединился к ним. Маня готовила ужин и всхлипывала. Отец сидел за столом с пепельным лицом, заострившимися скулами и красными глазами – как в тот день, когда он пришел ко мне в больницу. Я тоже сел за стол и стал слушать диктора. Тот успокаивающим голосом зачитывал подробности смерти президента Рузвельта. Президентом Соединенных Штатов был теперь Гарри С. Трумэн. Я сидел, слушал и не мог поверить. Как это президент Рузвельт мог умереть? Я никогда не думал о нем как о смертном человеке. И как он мог умереть сейчас, именно сейчас, когда война почти закончилась и вот-вот должны были собраться обновленные Объединенные Нации? Как вообще такой человек мог умереть? [56]56
Потрясение 15-летнего Рувима станет более понятыми, если вспомнить, что Франклин Делано Рузвельт (1882–1945) стал президентом в 1932 году, когда Рувиму (как и самому Потоку) было три года, – и, таким образом, вся его сознательная жизнь прошла при Рузвельте.
[Закрыть]
Мы ужинали, слушая радио, – чего никогда раньше не делали: отец не любил, чтобы радио было включено во время еды. Но теперь оно было включено во время еды, и оставалось включенным до конца недели (кроме субботы), и вообще работало все время, пока я, или отец, или Маня находились дома.
Я позвонил было Дэнни в пятницу днем, но он все еще оставался слишком болен, чтобы подойти к телефону. Утро субботы мы с отцом провели в синагоге, где боль утраты явственно отражалась на каждом лице, а после службы мы с друзьями стояли и не знали, что сказать. Отец снова начал кашлять – сухим, глубоким, надрывным кашлем, который сотрясал его хрупкое тело и ввергал меня в ужас. В субботу после обеда мы говорили о президенте Рузвельте и о той надежде, которую он вдохнул в страну в годы Великой депрессии.
– Ты же не помнишь Депрессию, Рувим, – сказал отец. – Это были ужасные дни, черные дни. Поверить не могу, что его больше нет. Это словно…
Его голос дрогнул, он неожиданно всхлипнул. Я смотрел на него, чувствуя себя беспомощным и ошарашенным. Он ушел в свою комнату и не выходил из нее весь день, а я валялся на кровати, сложив руки под головой, и уставясь в потолок, и пытаясь переварить то, что произошло. Но не мог. Я испытывал только опустошенность, страх и безысходность – чувство, которого я никогда раньше не испытывал. Я лежал и размышлял об этом очень долго. Это было бессмысленно. Это было так же бессмысленно, как – подумав об этом, я перестал дышать и вздрогнул, – как слепота Билли. Именно так. Смерть президента Рузвельта – это было так же бессмысленно, как слепота Билли. Я все думал о слепоте Билли и о смерти Рузвельта, а потом уткнулся лицом в подушку и заплакал. Плакал я долго. Потом крепко уснул. Проснувшись, я убедился, что уже темно, а радио на кухне снова работает. Я полежал еще немного, а потом присоединился к отцу. Мы долго сидели. И разошлись почти в полночь.
На следующий день президента Рузвельта похоронили. Школа была закрыта, и мы с отцом просидели весь день на кухне, слушая радио.
Дэнни позвонил мне через несколько часов после похорон. Его голос звучал устало, и он сильно кашлял. Но температура упала, сказал он, и остается нормальной вот уже двадцать четыре часа. Да, смерть Рузвельта – это скверная штука. С родителями все нормально. А вот брат болен. Высокая температура и кашель. Могу ли я заглянуть к ним на неделе? Я не был уверен. Ну а в субботу в таком случае? Да, в субботу я мог бы – мы повидаемся в субботу. Когда мы прощались, он говорил гораздо веселее, и я не понимал почему.
Но в среду я вернулся из школы с температурой, а к вечеру четверга она дошла до 103,6 [57]57
39,4° по Цельсию.
[Закрыть]. Доктор объявил, что у меня грипп, и предупредил отца, что я должен оставаться в постели во избежание возможных осложнений. Я попросил отца позвонить Дэнни и сказать ему об этом. Я провалялся десять дней, а когда наконец вернулся в школу, то оказалось, что столько всего пропустил, что две недели нагонял, не подымая головы и позабросив всю общественную работу. Я занимался даже в субботу после обеда и только в первую неделю мая почувствовал себя достаточно уверенно, чтобы снова начать посещать собрания школьного совета. Потом рабби Сендерс заболел, и одновременно с ним мой отец свалился с тяжелым гриппом, который почти перешел в пневмонию, что меня ужасно напугало. Так что и рабби Сендерс, и мой отец – оба были очень больны в тот майский день, когда из Европы наконец донеслась весть о том, что война закончилась.
Я был в спальне у отца, и мы вместе услышали эту новость по радио у него над кроватью.
– Слава Богу! – воскликнул он, и глаза его увлажнились от радости. – Какую цену пришлось заплатить за Гитлера и его безумцев!
Он откинулся на подушку и закрыл глаза.
И затем, вслед за официальным сообщением о подписании Акта о безоговорочной капитуляции 7 мая [58]58
Акт о безоговорочной капитуляции был подписан дважды: первый раз – поздно вечером 7 мая в Реймсе, в ставке союзников (в США при этом еще был день 7 мая), начальниками штабов; во второй раз, по требованию Сталина, – поздно вечером 8 мая в Берлине (в Москве при этом уже было 9 мая) – главнокомандующими. Днем же окончательной победы в США считается 2 сентября – день подписания капитуляции Японией.
[Закрыть], стали поступать сведения, сначала непроверенные, а несколькими днями позже – уже подтвержденные и бесспорные, о немецких концентрационных лагерях. Мой отец, медленно выздоравливавший, встревоженный и утомленный, сидел в кровати, подложив под спину подушки, и читал газетные статьи об ужасах, творившихся в этих лагерях. Его серое лицо было искажено. Казалось, он не верит всему этому.
Читая мне статью о том, что происходило в Терезиенштадте, куда немцы согнали и уничтожили цвет науки и культуры европейского еврейства, он откинулся на спину и разрыдался как ребенок.
Я не знал, что сказать, и просто смотрел, как он лежал на подушках, закрыв лицо руками. Потом он попросил оставить его одного, и я отправился в свою комнату.
Я не в силах был этого осознать. Количество уничтоженных евреев колебалось от одного до трех-четырех миллионов, и почти в каждой газетной статье делалась оговорка, что счет еще неполон, что общее количество может достигнуть шести миллионов. Я даже представить себе не мог шесть миллионов моих соплеменников уничтоженными. Я лежал и пытался понять, какой в этом мог быть смысл. Но смысла никак не находилось. Мой разум отказывался это принять – смерть шести миллионов человек.
Дэнни позвонил мне через несколько дней, и в следующую субботу я отправился к ним домой. На этот раз мы не изучали Талмуд. Вместо этого отец Дэнни рассказывал нам о европейском еврействе, о людях, которых он знал и которые, возможно, теперь мертвы, о его годах в России, о шайках казаков, которые зверствовали и разбойничали.
– Мир убивает нас, – сказал он тихо. – Ах, как же мир убивает нас.
Мы сидели в его кабинете. Мы с Дэнни – на стульях, он – в своем кресле с прямой спинкой. Его лицо перерезали страдальческие морщины. Легонько раскачиваясь взад и вперед, он тихо, напевно рассказывал нам о своей молодости в России, об еврейских общинах в Польше, Литве, России, Германии и Венгрии, обратившихся ныне в кучи пепла и костей. Мы с Дэнни молча слушали. Дэнни был бледен, он казался напряженным и рассеянным. Он беспрестанно теребил свой пейс и часто моргал.
– Как же мир пьет нашу кровь… Как же мир заставляет нас страдать. Такова воля Всевышнего. Мы должны принять Его волю.
Он надолго замолчал. Потом поднял глаза и тихо добавил:
– Царь Вселенной, как Ты мог допустить такое?
Вопрос повис в воздухе как крик боли. Дэнни не мог меня провожать на этот раз, у него было слишком много уроков, так что я дошел до дома один. Отец слушал радио в своей комнате. Он был в пижаме и в маленькой черной кипе. Диктор говорил про Объединенные Нации. Я сел и тоже стал слушать. Когда выпуск новостей закончился, отец выключил радио и взглянул на меня.
– Как рабби Сендерс? – спросил он тихо.
Я рассказал отцу, о чем рабби говорил с нами.
Отец медленно кивнул. Он был бледен и худ. Кожа на руках и на лице пожелтела, как пергамент.
– Рабби Сендерс спросил у Бога, как Он мог допустить что-то подобное.
Отец взглянул на меня, глаза его потемнели.
– И Бог – ответил???
В голосе его была странная горечь.
Я ничего не сказал.
– Бог ответил ему, Рувим? – повторил отец свой вопрос тем же странным голосом.
– Рабби Сендерс сказал, что это Господня воля. Мы должны принимать Господню волю, вот что он сказал.
Отец задумался.
– Рабби Сендерс сказал, что это Господня воля… – повторил он.
Я кивнул.
– Тебя устраивает такой ответ, Рувим?
– Нет.
Он снова моргнул, и, когда он заговорил, голос его стал мягок, горечь ушла из него.
– Меня тоже не устраивает такой ответ, Рувим. Совсем не устраивает. Мы не можем ждать ответа от Господа. Если ответ существует, мы должны получить его сами.
Я сидел тихо.
– Шесть миллионов убитых, – продолжал он негромко. – Это непостижимо. Это приобретет смысл, только если мы сами дадим этому смысл. Мы не можем ждать ответа Господа.
Он откинулся на подушку и уставился в потолок.
– В мире осталось только одно еврейство. Это мы – американское еврейство. На нас легла колоссальная ответственность. Мы должны возместить утерянные богатства.
Он захрипел и закашлялся. Потом надолго замолчал. И продолжил, прикрыв глаза:
– Теперь нам понадобятся учителя и раввины, чтобы вести за собой людей.
Он открыл глаза и взглянул на меня:
– Еврейский мир изменился.
Голос его упал почти до шепота.
– Безумец порушил наши сокровища. Если мы не восполним их здесь, в Америке, то исчезнем как народ.
Потом снова закрыл глаза и замолчал.
Мой отец долго выздоравливал и только в конце мая смог вернуться к преподаванию.
Через два дня после моего годового экзамена у него случился инфаркт. Скорая увезла его в Бруклинскую мемориальную больницу, и там его поместили в двухместную палату этажом ниже моей глазной палаты.
В первые несколько кошмарных дней слепой паники, когда я просто ничего не соображал, за мной присматривала Маня. А потом позвонил рабби Сендерс и предложил пожить в его доме, пока мой отец не поправится. Как я могу жить на попечении одной только экономки? – сказал он. Не могу же я оставаться в квартире один на ночь. А вдруг, оброни Господь, что случится? Это ужасно для мальчика моего возраста – оставаться одному. Они могут поставить в комнату Дэнни еще одну кровать, и я буду спать там. Когда я рассказал об этом отцу, он сказал, что будет мудро принять приглашение. И велел передать рабби Сендерсу, что он очень благодарен за такую доброту.
Первого июля я собрал чемодан и на такси отправился к рабби Сендерсу. Меня поселили в комнате Дэнни.
Глава двенадцатая
С того дня, когда я переступил порог дома рабби Сендерса, и до того дня, когда мы с отцом отправились в наш домик у Пикскилла, где он должен был набраться сил, я был принят в семье Дэнни как родной. Мать, которой из-за слабого сердца приходилось часто отдыхать, всегда подкладывала добавки мне на тарелку. Сестра Дэнни, очень милая девочка (я обратил на это внимание еще при нашем знакомстве) с темными глазами, длинной черной косой и постоянно жестикулирующими руками, особенно когда она говорила, без конца подначивая нас и называя не иначе, как Давидом и Ионафаном [59]59
Имеется в виду дружба Давида-псалмопевца и Ионафана, старшего сына царя Саула, не отвернувшегося от друга даже тогда, когда Давид впал в немилость у Саула.
[Закрыть]. Брат Дэнни, Леви, за столом по-прежнему ковырял вилкой в тарелке или слонялся по дому, как тень. А отец Дэнни был вечно молчалив и рассеян, его темные глаза смотрели отрешенно и задумчиво, словно были устремлены на море страданий, видимое ему одному. Он ходил согнувшись, как будто на плечах его лежала тяжелая ноша. Под глазами у него образовались темные круги, и порой за обеденным столом он неожиданно начинал плакать, вставал из-за стола и выходил на несколько минут из кухни, а потом возвращался и продолжал трапезу. Никто из домашних никогда не заговаривал с ним об этих неожиданных слезах. Я – тем более, хотя они чрезвычайно пугали и смущали меня.
В этот месяц мы все делали вместе. Вставали незадолго до семи, спускались вниз в синагогу на утреннюю службу с общиной, завтракали с семьей, затем выходили на заднее крыльцо, если позволяла погода, или шли в его комнату, если не позволяла, и все утро занимались Талмудом. После обеда мы уходили в библиотеку и проводили там первые послеобеденные часы. Дэнни читал Фрейда, а я занимался символической логикой. И там, в библиотеке, мы наконец говорили обо всем, о чем не успевали поговорить в течение года. Затем, около пяти, мы садились в трамвай и ехали в бруклинскую Мемориальную больницу навестить моего отца. Потом возвращались домой ужинать, а вечера проводили или в гостиной, болтая с матерью и сестрой Дэнни или спокойно читая (Дэнни в эти вечерние часы читал принесенные мной книги), или, если отец оказывался свободен, поднимались к нему, чтобы изучать Талмуд или дискутировать. Но рабби Сендерс редко оказывался свободен. Поток посетителей, поднимающихся к нему на третий этаж, казался бесконечным, и ко времени ужина он всегда был просто изнурен. Он сидел за столом с мрачным видом, погруженный в свои мысли, а однажды за ужином я увидел, как слезы медленно катятся у него из глаз и теряются в завитках бороды. Но на сей раз он не поднялся из-за стола, а так и сидел, тихо плача, и никто не произнес ни слова. Наконец он вытер глаза платком, судорожно вздохнул и снова принялся за еду.
За весь месяц, что я провел в доме у рабби Сендерса, я ни разу не видел, чтобы он говорил с Дэнни о чем-либо, кроме Талмуда. Между ним и сыном никогда не было простого, домашнего, человеческого разговора. Казалось, что они физически неспособны говорить друг с другом о заурядных вещах. Это очень смущало меня, но я молчал.
Мы с Дэнни много говорили о его увлечении Фрейдом. Мы сидели за нашим столом на третьем этаже библиотеки, окруженные лабиринтоподобными стеллажами, и он рассказывал мне о том, что он прочитал за этот год, и о том, что читает сейчас. Фрейд, очевидно, всерьез озадачил его – выбил его из колеи, как он выразился однажды. Но он не мог бросить его, потому что по мере чтения ему становилось все очевиднее, что Фрейд проник непостижимо глубоко в природу человека. И это смущало Дэнни больше всего. Взгляд Фрейда на природу человека был каким угодно, только не благосклонным, каким угодно, только не религиозным. Он оторвал человека от Бога, как выразился Дэнни, и подженил к Сатане.
Дэнни теперь достаточно знал о Фрейде – настолько действенным оказался выбранным им метод изучения, – чтобы пользоваться фрейдовской терминологией с той же легкостью, с которой он оперировал терминологией Талмуда. В первые две недели июля он потратил часть времени в библиотеке на то, чтобы терпеливо изложить мне основы фрейдизма. Мы сидели за нашим столом: Дэнни – в своем черном костюме, который он носил независимо от погоды, в белой рубашке без галстука, с бахромками, в кипе, с длинными пейсами и с жесткими волосками, которые теперь росли по всему лицу, почти как взрослая борода, я – в безрукавке, летних брюках и в кипе – и беседовали о Фрейде. То, что я тогда услышал, было для меня ново, настолько ново, что я не сразу смог переварить. Но Дэнни был терпелив – так же терпелив, как мой отец, и постепенно я начал понимать психологические построения Фрейда. И тоже был ошарашен. А более всего тем, что Дэнни, казалось, совершенно не отторгал фрейдизма. Как это возможно, спрашивал я себя, чтобы идеи Талмуда и мысли Фрейда умещались в голове одного и того же человека? Мне казалось, что одно непременно должно вытеснить другое. Но когда я сказал об этом Дэнни, он пожал плечами, ничего не ответил и вернулся к своему чтению.
Будь мой отец здоров, я бы обсудил с ним это, но он был в больнице, медленно поправлялся, и я не хотел тревожить его еще и тем, что читал Дэнни. Ему хватало собственных переживаний. Когда бы мы с Дэнни не приходили его навестить, его кровать оказывалась завалена ворохом газет. Он читал все, что только мог найти, о гибели европейского еврейства. И не говорил ни о чем, кроме европейского еврейства и ответственности, лежащей ныне на еврействе американском. Порой он упоминал о важности Палестины как еврейского дома, но больше переживал об американском еврействе и о том, насколько ему сейчас нужны учителя и раввины. Как-то он спросил нас с Дэнни, что мы сейчас читаем. Дэнни честно ответил – Фрейда. Отец, сидевший в своей больничной койке на подушках, посмотрел на него и зажмурился. Он очень исхудал за это время – он и до инфаркта был худее некуда, но после него потерял еще фунтов десять – и стал очень раздражительным. Так что я испугался, что он сейчас ввяжется с Дэнни в спор о Фрейде, но он только вздохнул и покачал головой. Он очень сейчас устал, сказал мой отец, он поговорит с Дэнни о Фрейде в другой раз. Но Дэнни не должен полагать, будто Фрейд – последнее слово в психоанализе, многие великие мыслители не разделяют его идей. После чего вернулся к гибели европейского еврейства. Известно ли нам, спросил он, что 17 декабря 1942 года мистер Иден [60]60
Речь идет о сэре Энтони Идене (1897–1977), министре иностранных дел в кабинете У. Черчилля (1940–1945 годы) и впоследствии премьер-министре.
[Закрыть]выступил в палате общин и представил детальное описание нацистского плана, уже к тому времени осуществлявшегося, «окончательного решения еврейского вопроса» в Европе? А еще – известно ли нам, что мистер Иден, хоть он и грозил нацистам ответными мерами, ни словом не обмолвился о практических шагах, которые надлежит предпринять для спасения евреев от известной ему участи? В Англии проходили митинги, протесты, подавались петиции, писались открытые письма, – словом, были задействованы все механизмы демократии, чтобы побудить британское правительство к каким-то действиям, и не было предпринято ровным счетом ничего. Все сочувствовали, но ничье сочувствие не оказалось достаточно действенным. Британцы впустили некоторое количество евреев – и затем захлопнули двери. Америка тоже не обеспокоилась как следует. Никто не обеспокоился как следует. Мир захлопнул свои двери – и шесть миллионов евреев оказались убиты. Что за мир! Что за безумный мир!
– Кому еще надо действовать, как не нам, американским евреям? – заявил он. – Некоторые говорят, что надо ждать, пока Господь не пошлет нам Мессию. Но мы не можем полагаться на Господа! Мы должны своими руками сотворить Мессию! И заново отстроить американское еврейство! И Палестина должна стать еврейским домом! Мы достаточно настрадались! Сколько нам еще ждать Мессию?!
Моему отцу вредно было так волноваться, но его невозможно было остановить. Он не мог говорить ни о чем, кроме гибели европейского еврейства.
Однажды утром, за завтраком, рабби Сендерс нарушил грустное молчание, вздохнул и без видимой причины принялся рассказывать нам мягким, напевным голосом историю об одном старом благочестивом хасиде, который задумал путешествие в Палестину – Эрец-Исраэль, как он называл ее, используя традиционное название и выделяя голосом «Э» и «ра», – чтобы провести последние годы жизни на Святой земле. Наконец, после долгих мытарств, он добрался до Стены Плача и через три дня умер – молясь у Стены о Мессии, который придет и освободит народ свой. Рабби Сендерс рассказывал эту историю, раскачиваясь вперед и назад, и, когда он закончил, я заметил вполголоса, не упоминая имени моего отца, что сейчас есть люди, которые считают, что пришло время сделать Палестину еврейским домом, а не только местом смерти для благочестивых евреев. Реакция всей семьи оказалась неописуемой – словно бросили горящую спичку в солому. Я прямо ощущал яростный жар, которым мигом сменилась теплота, разлитая за семейным столом. Дэнни окаменел и уставился в тарелку перед собой. Его брат испустил сдавленный стон, а сестра и мать замерли на своих стульях. Рабби Сендерс взглянул на меня, в его глазах вспыхнула дикая ярость, борода затряслась. Он наставил на меня палец, как оружие, и закричал:
– Кто эти люди?! Кто эти люди?! – кричал он на идише, и его слова вонзались в меня как ножи. – Апикойрсим! Гоим! Бен-Гурион и его гоим возродят Эрец-Исраэль?! Они построят для нас Еврейскую землю? Они принесут Тору на эту землю? Гойство они принесут на эту землю, а не Тору! Бог возродит эту землю, а не Бен-Гурион и его гоим! Когда придет Мессия – тогда у нас будет Эрец-Исраэль, Святая земля, а не земля, испорченная еврейскими гоим!
Я был поражен, ошарашен и раздавлен его яростью. Его реакция оказалась для меня настолько неожиданной, что я в буквальном смысле позабыл дышать и теперь ощутил нехватку воздуха. Меня словно бросили в огонь. Молчание, расползшееся за столом вслед за его выпадом, как лишай по дереву, лишь усугубило враждебность. Мне было крайне неуютно – словно с меня сорвали одежду. Я не знал, что сказать или сделать, и просто молча таращился на него.
– Землю Авраама, Исаака и Иакова – возродят еврейские гоим, порченые люди? – закричал он снова. – Нет! Не бывать тому, покуда я жив! Кто это говорит? Кто говорит, что это мыдолжны возродить сейчас Эрец-Исраэль? А как же Мессия? Мы что же, по-твоему, должны позабыть про Мессию? Для того ли шесть миллионов были убиты? Чтобы мы совсем позабыли про Мессию, совсем позабыли про Царя Вселенной? Почему, по-твоему, я забрал мой народ из России в Америку, а не в Эрец-Исраэль? Потому что лучше жить в земле истинных гоим, а не в земле еврейских гоим! Кто это говорит, будто мыдолжно возродить Эрец-Исраэль, а? Я тебе скажу, кто так говорит. Апикойрсим так говорят! Еврейские гоим так говорят! Истинные евреи ничего подобного не скажут!
Повисло долгое молчание. Рабби Сендерс откинулся на стуле, тяжело дыша и дрожа от ярости.
– Пожалуйста, не сердись так, – нежно попросила сестра Дэнни. – Тебе это вредно.
– Простите, – с трудом пробормотал я, не зная, что еще сказать.
– Рувим не сам так думает, – тихо продолжила сестра Дэнни, обращаясь к отцу. – Он просто…
Отец прервал ее сердитым взмахом рук. Затем твердо прочитал благодарственную молитву и вышел из кухни, по-прежнему в ярости.
Сестра Дэнни потупилась в тарелку, ее черные глаза были печальны.
Позднее, когда мы с Дэнни ушли в его комнату, он просил меня подумать десять тысяч раз, прежде чем отпускать подобные замечания в присутствии его отца. С его отцом можно чудесно ладить – пока он не сталкивается с идеей, пришедшей из «порченого мира».
– Откуда мне было знать, что сионизм – это порченая идея? – возразил я. – Господи, меня словно через семь врат ада провели!
– Герцль не носил лапсердак и пейсы. И Бен-Гурион тоже.
– Ты что, серьезно?
– Речь не обо мне. Речь о моем отце. Никогда больше не пытайся говорить с ним о еврейском государстве. Для моего отца Бог и Тора – это очень серьезно, Рувим. Он с радостью пойдет на смерть ради них. Светское еврейское государство для моего отца – это богохульство, нарушение заповедей Торы. Ты дотронулся до живого нерва. Пожалуйста, не делай так больше.
– Хорошо, что я еще не упомянул, что это мой отец говорит. Он бы, наверно, выкинул меня из дома.
– Он бы точновыкинул тебя из дома.
– А он… Как он себя чувствует?
– В смысле?
– Он то и дело плачет. С ним… У вас что-то случилось?
Рука Дэнни потянулась к пейсу и нервно его подергала.
– Шесть миллионов евреев погибло. Он… Я уверен, он все время о них думает. Он очень страдает.








