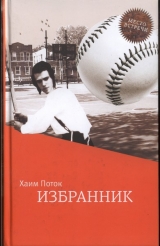
Текст книги "Избранник"
Автор книги: Хаим Поток
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 18 страниц)
– Он, наверно, болен? Ведь твоя сестра сказала…
– Он не болен, – прервал меня Дэнни. Его рука опустилась. – И знаешь, я совсем не хочу об этом говорить.
– Хорошо, – сказал я спокойно. – Только знаешь, что-то мне не хочется заниматься сегодня Талмудом. Пойду-ка я прогуляюсь хорошенько.
Он ничего не ответил. Но лицо его было печально, когда я выходил из комнаты.
Когда я встретился с рабби Сендерсом за обедом, он, казалось, полностью забыл об утреннем инциденте. Но я теперь тщательно выбирал выражения, прежде чем сказать что-либо. И был с ним настороже.
Однажды в конце июля Дэнни заговорил о своем брате. Мы сидели в библиотеке и читали, подперев голову руками, как вдруг он оторвался от чтения и сказал, что глаза снова его беспокоят и что он не удивится, если ему скоро придется носить очки: его брату уже выписали очки, а ведь ему только девять. Я заметил, что не похоже было, чтобы его брат много читал, так зачем же ему очки.
– Чтение здесь ни при чем, – возразил Дэнни. – У него просто слабые глаза, и все.
– А у тебя воспаленные глаза.
– Так оно и есть.
– … словно ты Фрейда начитался.
– Ха-ха.
– А что Фрейд говорит о таких заурядных вещах, как покраснение глаз?
– Он говорит, что им надо дать отдохнуть.
– Гениально.
– Мой брат – хороший мальчик. Болезнь накладывает на него ограничения, но вообще-то он хороший мальчик.
– Он тихий, вот и все, что я могу про него сказать. Он вообще учится?
– Ну, разумеется. Он тоже умом не обижен. Но ему приходится соблюдать осторожность. Отец не может его заставлять.
– Повезло.
– Не знаю. Не хотел бы всю жизнь быть больным. Пусть уж лучше давят. Но он хороший мальчик.
– Сестра твоя тоже очень хорошенькая.
Дэнни, похоже, не услышал моих слов – а если и услышал, то предпочел полностью их проигнорировать. И продолжил разговор о брате:
– Это ведь должно быть ужасно – все время болеть и зависеть от таблеток. Он просто молодчина. И умница.
Он словно с трудом подыскивал слова, и я не мог понять, к чему он клонит. Следующая его фраза меня просто огорошила:
– Из него может выйти прекрасный цадик.
Я уставился на него:
– Что-что?
– Я говорю, мой брат может оказаться прекрасным цадиком, – тихо повторил Дэнни. – Мне в последнее время приходит в голову, что, даже если я не займу место моего отца, я же ведь не разрушу династию. Это место займет мой брат. Я все время говорил себе, что, если я не займу место отца, я разрушу династию. Я убеждал себя в том, что просто обязан стать цадиком.
– Поскольку твой дом не разнесен по кирпичикам, – сказал я осторожно, – я предполагаю, что ты не говорил еще об этом с отцом.
– Нет, не говорил. И не собираюсь. Пока что.
– А когда собираешься? Я на этот день уеду из города.
– Не надо, – сказал он тихо. – Ты будешь мне нужен в этот день.
– Да ладно, я пошутил, – сказал я, холодея при этом от ужаса.
– А еще мне недавно пришло в голову, что мое беспокойство о здоровье брата – чистая показуха. Я никогда не был к нему особо привязан. Он просто ребенок. Я немного жалею его, вот и все. Я действительно беспокоюсь лишь о том, чтобы он оказался достаточно здоров для того, чтобы занять место отца. Когда я это осознал – это, знаешь ли, было нечто! Как тебе, еще не скучно все это слушать?
– Ужасно скучно, – ответил я. – Жду не дождусь, когда ты расскажешь отцу. Вот будет веселуха!
– Тебе придется подождать, – глухо сказал он. – И быть рядом со мной. Ты будешь мне очень нужен.
– Давай лучше о твоей сестре поговорим, для разнообразия.
– Я тебя уже слышал. Давай не будем говорить о моей сестре, если ты не возражаешь, а поговорим лучше о моем отце. Хочешь знать, как я отношусь к моему отцу? Я им восхищаюсь. Я не знаю, чего он пытается от меня добиться этим диким молчанием, которое он установил между нами, но я им восхищаюсь. Я считаю его великим человеком. Я уважаю его и полностью доверяю ему, вот почему я готов жить в этом молчании. Я не знаю, почему я доверяю ему, но это так. И жалею его тоже. Он в умственной западне. Он живет в ней с рождения. Я никогда не хотел жить в такой же западне, как он. Я хочу иметь возможность вздохнуть. Возможность думать и высказывать то, что я думаю. Сейчас я тоже в западне. Ты знаешь, каково это – жить в западне?
Я медленно покачал головой.
– Да и откуда тебе знать… Это самое отвратительное, изматывающее, гнетущее чувство в мире. Каждая моя жила вопит, чтобы высвободиться. Мой разум рвется наружу. Но я не могу. Не сейчас. Но однажды я это сделаю. И я хочу, чтобы ты был в этот день рядом со мной. Мне нужна будет помощь друга.
Я ничего не сказал. Мы долго сидели в молчании. Затем Дэнни медленно закрыл своего Фрейда.
– Моя сестра обручена, – сказал он тихо.
– Что?
– Отец обещал выдать ее за сына одного из своих последователей, когда ей было два года. Это старый хасидский обычай – обручать детей. Она выйдет замуж, едва ей исполнится восемнадцать. Я думаю, нам пора идти к твоему отцу.
Больше мы с Дэнни никогда не говорили о его сестре.
Неделей позже мы с отцом уехали в наш домик у Пикскилла. Пока мы там отдыхали, Америка разрушила Хиросиму и Нагасаки атомными бомбами и война с Японией завершилась.
Я не рассказал отцу о своем последнем разговоре с Дэнни, и в том году у меня было много ночных кошмаров, в которых рабби Сендерс кричал, что я отравил разум его сына.
В сентябре мы с Дэнни поступили в колледж Гирша. Я подрос до пяти футов и девяти дюймов – на дюйм меньше Дэнни [61]61
175,2 см и 177,8 см.
[Закрыть]– и начал бриться. Дэнни не сильно изменился внешне за этот последний школьный год. Единственное отличие – он начал носить очки.
КНИГА III
Глава тринадцатая
К концу первой недели занятий в колледже Дэнни почувствовал себя глубоко разочарованным. Оказалось, что в семинарии и колледже Шимшона Рафаэля Гирша под психологией понималась одна лишь экспериментальная психология, и декан факультета, профессор Натан Аппельман, на дух не переносил психоанализ вообще и Фрейда в частности.
Дэнни отзывался о профессоре Аппельмане и экспериментальной психологии, не выбирая выражений. Мы встречались по утрам перед моей синагогой и вместе шли на трамвайную остановку. И в течение двух месяцев во время этих наших трамвайных путешествий он не говорил ни о чем другом, кроме как об учебнике по психологии, который он читал (не «изучал», разумеется, а «читал»), и о крысах с лабиринтами в психологической лаборатории. «Не успеешь оглянуться, как они запишут меня к бихевиористам, – жаловался он. – Какое отношение все эти крысы и лабиринты имеют к разуму?»
Я не очень понимал, кто такие бихевиористы [63]63
Бихевиоризм – от behavior( англ.) – «поведение», направление американской психологии начала XX века, согласно которому предметом психологии является поведение, а не сознание.
[Закрыть], и не хотел растравлять его горе просьбами объяснить. Мне было жаль его, особенно потому, что самому мне в колледже все ужасно нравилось. Я восхищался своими учебниками и своими преподавателями, а он, похоже, все глубже и глубже погружался в уныние.
Колледж находился на Бедфорд-авеню. Это было шестиэтажное здание белого камня, занимавшее половину квартала на оживленной улице, застроенной высокими домами. Шум уличного движения свободно входил через окна в наши аудитории. Позади самого колледжа находился обширный спортзал бурого кирпича, а через перекресток, на другой стороне улицы – католическая церковь, перед которой на лужайке стоял большой крест с фигурой распятого Иисуса. По вечерам на кресте зажигались зеленые огоньки, которые прекрасно просматривались с крыльца нашего колледжа.
Первый этаж здания занимали помещения администрации, актовый зал и большая синагога, частично заставленная длинными столами и стульями. Весь второй этаж был отведен под библиотеку – прекрасную библиотеку со стеллажами-лабиринтами, живо напоминающую мне третий этаж публичной библиотеки, в которой мы провели с Дэнни столько времени. Библиотека была оборудована яркими флуоресцентными лампами, которые, как я сразу же обратил внимание, не мигали и не меняли цвет, и в ней работали прекрасно обученные библиотекари. Еще здесь был большой читальный зал, с длинными столами, стульями и огромным собранием справочной литературы. На белой стене хорошо выделялся портрет маслом Шимшона Рафаэля Гирша – знаменитого ортодоксального немецкого раввина XIX века, который в своих трудах и проповедях последовательно выступал против реформистского иудаизма своего времени. Третий и четвертый этажи занимали современные аудитории с белыми стенами и большие, прекрасно оборудованные лаборатории – химическая, физическая и биологическая. Аудитории были и на пятом этаже, и там же размещалась психологическая лаборатория – с крысами, лабиринтами, экранами и всевозможными приборами для измерения аудиовизуальных реакций. На шестом этаже находились спальни для иногородних студентов.
Это было строго ортодоксальное учебное заведение, с молитвами три раза в день и раввинами европейской выучки: все они носили бороды, а многие – долгополые сюртуки. Первую половину дня, с девяти до трех, мы изучали только Талмуд. С трех пятнадцати до шести пятнадцати или семи пятнадцати, в зависимости от расписания, мы могли выбирать самостоятельно предметы из обычной программы колледжа. По пятницам с девяти до часа мы занимались светскими предметами; по воскресеньям в это же время – Талмудом.
Я обнаружил, что мне очень нравится такое расписание. Оно четко распределяло мое время и позволяло сосредоточиться и на Талмуде, и на светских предметах. Протяженность учебного дня – это был другой вопрос; я часто засиживался за учебниками до часу ночи. Однажды отец вошел ко мне без десяти час и, обнаружив, что я изучаю раздел «Речная камбала» из учебника биологии, поинтересовался, не собираюсь ли я пройти четырехлетнюю программу за год и велел немедленно отправляться в постель. Я и отправился – через полчаса, закончив раздел.
Грусть и разочарование Дэнни тем временем все нарастали, несмотря на то что студенты его талмудического класса смотрели на него в остолбенении с разинутыми ртами. Он попал в семинар раввина Гершензона, самый продвинутый в колледже, а я – в семинар, следующий за ним по уровню сложности. На второй неделе занятий он прошел собеседование на талмудическом факультете и был допущен в качестве арбитра на всех талмудических диспутах между студентами. И он очень многому учился у рабби Гершензона, который, по словам Дэнни, любил разбирать две строки по три дня. Он быстро оказался предводителем немногочисленных студентов-хасидов – тех, кто тоже ходили в темных костюмах без галстуков, в бородах и пейсах. Примерно половина моего выпускного класса тоже поступила в этот колледж, а сверх того я вполне сдружился еще со многими студентами-нехасидами. Я не особо общался со студентами-хасидами, но почтение, с которым они относились к Дэнни, просто бросалось в глаза. Они обращались с ним так, словно он был новым воплощением Бешта, их студентом-цадиком, так сказать. Но все эти почести не приносили ему ни толики удовольствия, не могли скрасить его разочарования профессором Аппельманом. Это так его удручало, что по окончании первого семестра он стал даже поговаривать о том, не сменить ли ему специализацию. Он представить себе не может, что четыре года будет гонять крыс по лабиринтам и проверять реакцию добровольцев на резкие вспышки и раздражающие звуки, сказал он мне как-то. За свою семестровую работу по психологии он получил «В», потому что запутался в нескольких математических уравнениях на экзамене. Он был разочарован. Какое отношение экспериментальная психология имеет к человеческому разуму? – вопрошал он.
Дело было на зимних каникулах. Дэнни сидел на моей кровати, а я сидел за столом и размышлял, чем я могу ему помочь, такой несчастный вид у него был. Но я мало что смыслил в экспериментальной психологии, так что все, что я мог сделать, – предостеречь его от смены специализации посреди года: кто знает, может, во втором семестре начнется что-то такое, что ему понравится.
– Тебе могут когда-нибудь понравиться намеренные ошибки моего отца? – ответил он раздраженно.
Я медленно покачал головой. Рабби Сендерс перестал уснащать свои субботние проповеди специальными ошибками для сына с той самой недели, как мы пошли в колледж, но память о них была еще свежа. Никогда я не понимал этой вашей истории с ошибками, отвечал я ему, и так и не смог к ней привыкнуть, хоть и наблюдал много раз.
– Так с чего ты взял, что если долго заниматься тем, что ненавидишь, ты это в конце концов полюбишь?
Мне нечего было сказать, кроме как предостеречь еще раз от смены специализации посреди курса.
– А почему ты просто не поговоришь с профессором Аппельманом? – спросил я.
– О чем? О Фрейде? Однажды я заикнулся о Фрейде во время занятия и услышал в ответ, что догматический психоанализ имеет такое же отношение к психологии, как колдовство – к науке.
«Догматические фрейдисты, – заговорил Дэнни голосом профессора Аппельмана (я не слышал никогда, как говорит профессор Аппельман, но в голосе у Дэнни появились профессорские нотки), – догматические фрейдисты – это прямые наследники средневековых лекарей догалилеевой эпохи. Все, что их занимает, – подтверждение в высшей степени сомнительных теоретических построений с помощью аналогий и экстраполяций. На опровержения и контрольные эксперименты они не обращают внимания». Такое вот у меня оказалось введение в экспериментальную психологию. И с того времени я гоняю крыс в лабиринтах.
– А он правду говорит?
– Кто?
– Профессор Аппельман.
– Какую правду?
– Что фрейдисты – догматики.
– Господи, да чтобы последователи гения – и не оказались догматиками? Им было из-за чего становиться догматиками. Фрейд – гений.
– Они что, из него цадика сделали?
– Очень смешно, – горько сказал Дэнни. – Ты сегодня необыкновенно любезен.
– Я думаю, тебе надо просто поговорить по душам с профессором Аппельманом.
– О чем? О гениальности Фрейда? О том, что я ненавижу экспериментальную психологию? Знаешь, что он однажды сказал?
Дэнни снова напустил на себя профессорский вид:
– «Господа, психология может считаться наукой только в том случае, если ее гипотезы поверятся лабораторными экспериментами и последующей математической обработкой результатов». Математической! Может, мне еще рассказать ему, как я математику ненавижу? Зря я на этот курс записался. Это тебе надо было на него записаться!
– Знаешь, по-моему, он прав, – сказал я спокойно.
– Кто?
– Аппельман. Если фрейдисты действительно не желают подтверждать свои теории в лабораторных условиях – они и впрямь догматики.
Дэнни уставился на меня, его лицо окаменело.
– И давно ты так прозрел насчет фрейдизма? – спросил он яростно.
– Я ничего не смыслю в фрейдизме, – ответил я спокойно. – Но кое-что смыслю в индуктивной логике [64]64
Логика перехода от знания единичного к знанию общему.
[Закрыть]. Напомни мне, пока каникулы, я устрою тебе небольшую лекцию. Если фрейдисты…
– Проклятье! – взорвался Дэнни. – Я о фрейдистах и не заикался. Я о самом Фрейде говорил. Фрейд – ученый. Психоанализ – научный инструмент изучения разума. Какое отношение крысы имеют к человеческому разуму?
– Почему ты не спросишь об этом у Аппельмана?
– А что, спрошу! – ответил Дэнни. – Возьму и спрошу. Что я теряю? Хуже, чем сейчас, уже не будет.
– Точно! – отозвался я.
Наступило короткое молчание. Дэнни сидел на моей кровати и мрачно смотрел в пол.
– Как сейчас твои глаза? – спросил я осторожно.
Он откинулся на кровати, упершись в стену:
– По-прежнему беспокоят. Не очень-то очки помогли.
– А ты у врача был?
Дэнни пожал плечами:
– Врач говорит, что очки должны помочь, к ним надо просто привыкнуть. Не знаю. Ладно, поговорю с Аппельманом на следующей неделе. Самое худшее – вылечу с курса.
Он грустно улыбнулся.
– Вот ведь глупость какая. Два года читать Фрейда – и заниматься экспериментальной психологией.
– Как знать, – возразил я. – Экспериментальная психология тебе тоже может однажды понравиться.
– Ну да. Всего-то делов – полюбить математику и крыс. Ты придешь к нам в субботу?
– По субботам после обеда я занимаюсь с отцом.
– Что, каждую субботу занимаешься?
– Да.
– Отец спросил меня на прошлой неделе, по-прежнему ли мы с тобой друзья. Он не видел тебя два месяца.
– Я изучаю Талмуд с отцом.
– Закрепляете материал?
– Нет, он учит меня критическому анализу.
Дэнни взглянул на меня с изумлением, потом ухмыльнулся:
– Хочешь опробовать критический анализ на рабби Шварце?
– Нет.
Рабби Шварц был моим учителем Талмуда. Это был старик с длинной седой бородой. Он носил черный долгополый сюртук и беспрестанно курил. Это был замечательный талмудист, но он прошел выучку в европейской ешиве, и я не думаю, что он одобрил бы научно-критический метод изучения Талмуда. Я однажды заикнулся на занятии о возможной текстологической конъектуре, и он подозрительно на меня уставился. Не уверен, что он вообще понял, о чем я говорю, настолько чужда ему была сама эта мысль – что в тексте Талмуда возможны какие-то исправления.
Дэнни спустил ноги с кровати:
– Ну, удачи тебе с критическим анализом. Только не пытайся его опробовать на рабби Гершензоне. Он прекрасно его знает и просто ненавидит. Когда мой отец сможет с тобой повидаться?
– Не знаю.
– Я пошел. Что там твой отец делает?
Стук пишущей машинки отчетливо доносился из-за стены все время нашего разговора.
– Очередную статью заканчивает.
– Скажи ему – мой отец передает ему привет.
– Спасибо. А вы с отцом сейчас разговариваете?
Дэнни замешкался перед ответом:
– Вообще-то нет. Там словечко, сям. Разговором это не назовешь.
Я ничего не сказал.
– Ладно, мне действительно пора, – сказал Дэнни. – Уже поздно. Увидимся в воскресенье утром у твоего шула.
– Ладно.
Я проводил его до дверей и стоял, прислушиваясь к стуку его набоек на лестничной клетке. Потом хлопнули входные двери, он ушел.
Я вернулся к своей комнате и увидел отца, стоящего на пороге кабинета. Он был сильно простужен и носил теплый свитер с шарфом вокруг шеи. Это была его третья простуда за пять месяцев. И первый раз за несколько недель, когда он вечером остался дома. Он был вовлечен в сионистское движение и теперь все время пропадал на собраниях, где говорили о роли Палестины как исторической родины евреев и собирали средства для Еврейского национального фонда. Кроме того, он преподавал по понедельникам вечером историю политического сионизма на курсах для взрослых при нашей синагоге, а по средам вечером читал лекции по истории американского еврейства на еще одних курсах для взрослых – в ешиве. Домой он редко попадал раньше одиннадцати. Я слышал на лестничной клетке его усталые шаги, потом он шел на кухню за стаканом чаю и заходил ко мне на несколько минут – рассказать, где он был и что делал этим вечером, и напомнить, что передо мной не стоит задача пройти четырехлетний курс за год, мне пора в кровать, а вот ему еще надо посидеть в кабинете, подготовиться к завтрашним урокам. В последние три месяца он стал относиться к своим урокам с невероятной серьезностью. Он всегда готовился к занятиям, но теперь в этом появилась какая-то маниакальность. Он все записывал и громко прочитывал, будто желая убедиться, что не упущено ни одной детали, ни одного нюанса, – словно от того, чему он учит, зависит будущее. Я даже представить себе не мог, когда он ложится спать, – как бы поздно ни ложился я, он все еще оставался в кабинете. Он так и не набрал вес, потерянный в больнице, все время чувствовал себя усталым, лицо было бледным, а глаза слезились.
Сейчас он стоял в дверях кабинета в шерстяном свитере, шарфе и черной кипе. На ногах у него были тапочки, а брюки смялись от долгого сидения за машинкой. Он заметно устал, и голос его несколько раз пресекся, пока он спрашивал, о чем это мы с Дэнни так горячо спорили. Ему даже через дверь было слышно, добавил он.
Я рассказал о несчастьях Дэнни с профессором Аппельманом и с экспериментальной психологией.
Он выслушал, потом прошел в мою комнату и со вздохом сел на кровать.
– Итак, – сказал он, – Дэнни обнаружил, что Фрейд – не Бог.
– Я посоветовал ему обсудить это хотя бы с профессором Аппельманом.
– И?
– Он поговорит с ним на следующей неделе.
– Экспериментальная психология… – пробормотал мой отец. – Совсем я ничего об этом не знаю.
– Он говорит, в ней много математики.
– Ах, ну да. Ведь Дэнни не любит математику.
– Он говорит, что просто ненавидит. И очень подавлен. Ему кажется, что он зря потратил два года, читая Фрейда.
Отец улыбнулся и покачал головой, но ничего не сказал.
– Этот профессор Аппельман похож на профессора Флессера, – сказал я.
Профессор Флессер – это был мой учитель логики, убежденный эмпирик и враг того, что он называл «обскурантистской континентальной философией», к которой он относил все, что было произведено философией германской – от Фихте до Хайдеггера, делая исключение для Файхингера и еще одного-двух имен.
Отец поинтересовался, что же общего у двух профессоров, и я передал ему слова Дэнни о том, что профессор Аппельман соглашался считать психологию наукой только тогда, когда ее гипотезы поддавались математическому анализу.
– А профессор Флессер придерживается того же мнения касательно биологии, – подытожил я.
– Вы говорите о биологии на занятиях по символической логике? – удивился отец.
– Мы обсуждаем индуктивную логику.
– Ах да. Конечно. Но утверждение о математизации гипотез выдвинул Кант. Это одно из программных утверждений логических позитивистов из Венского кружка.
– Какого какого кружка?
– Не сейчас, Рувим. Очень поздно, и я очень устал. Иди в постель. Отсыпайся впрок, пока у тебя каникулы.
– Ты еще долго будешь работать, аба?
– Да.
– Ты совсем о себе не заботишься. У тебя совершенно измученный голос.
– Проклятая простуда, – вздохнул он.
– А доктор Гроссман в курсе, что ты так много работаешь?
– Доктор Гроссман переживает обо мне немного больше, чем нужно, – улыбнулся он.
– Когда у тебя следующее обследование?
– Скоро. Да я прекрасно себя чувствую, Рувим. Ты переживаешь прямо как доктор Гроссман. Подумай лучше о своих уроках. Со мной все хорошо.
– Сколько, по-твоему, у меня отцов?
Он ничего не сказал и только несколько раз сморгнул.
– Я просто хочу, чтобы ты относился ко всему спокойнее.
– Сейчас не время относиться спокойнее, Рувим. Ты следишь за тем, что происходит в Палестине?
Я медленно кивнул.
– Как можно к этому относиться спокойнее? – Хриплый голос отца стал подниматься. – Погибшие ребята из «Хаганы» и «Иргуна» [65]65
«Хагана» – отряды самообороны еврейских поселенцев в Палестине. Позднее из них выросла армия Израиля.
«Иргун» – радикальная сионистская организация в Палестине (1931–1948), боровшаяся как с арабами-погромщиками, так и с «британскими оккупантами». При провозглашении государства Израиль самораспустилась по требованию израильского правительства.
[Закрыть]– они спокойно относились?
Он говорил о том, что происходило в эти дни в Палестине. Два англичанина, майор и судья, были похищены «Иргуном» – еврейской террористической группировкой, действовавшей в Палестине, и удерживались в качестве заложников. Дело было в том, что один из членов «Иргуна», Дов Грунер, был схвачен англичанами и приговорен к повешенью – и «Иргун» объявил, что в случае исполнения приговора заложники будут немедленно обезглавлены. И это была только последняя строка растущего перечня актов терроризма против британской армии в Палестине. И если «Иргун» сосредоточился на терроре – взрывал поезда, нападал на полицейские участки, перерезал коммуникационные линии, – то «Хагана» продолжала нелегально переправлять евреев в обход морской блокады, установленной британскими судами по распоряжению британского Министерства по делам колоний, попытавшегося «запечатать» Палестину с целью недопущения дальнейшей еврейской иммиграции. Редкая неделя проходила теперь без актов терроризма по отношению к британцам. Когда мой отец читал газетные сообщения обо всем этом, лицо его принимало мученическое выражение. Он ненавидел насилие и кровопролитие, но запрет британских властей на еврейскую иммиграцию возмущал его еще больше. «Иргун» проливал кровь ради будущего еврейского государства, и моему отцу трудно было осуждать те ненавидимые им акты насилия, которыми пестрели первые полосы газет. И разумеется, газетные заголовки еще подстегивали его сионистскую деятельность и побуждали еще громче, яростнее оправдывать свои усилия по продвижению идеи создания еврейского государства и сбору средств на ее реализацию.
Вот и сейчас он начал заводиться, и я, чтобы сменить тему, передал ему привет от рабби Сендерса и добавил, что рабби удивляет мое долгое отсутствие.
Но отец, кажется, меня совсем не слышал. Он сидел на кровати, глубоко погруженный в свои мысли. Мы долго молчали. Затем он пошевелился и неслышно вздохнул:
– Рувим, ты знаешь, как учат раввины о том, что Господь сказал Моисею перед самой его смертью?
Я уставился на него.
– Нет, – услышал я свой голос.
– Он сказал Моисею: «Ты тяжко трудился. Ты заслужил покой».
Я смотрел на него и ничего не говорил.
– Ты больше не мальчик, Рувим, – продолжал отец. – Твой ум развивается просто на глазах. И сердце тоже, конечно. Индуктивная логика. Фрейд. Экспериментальная психология. Математизация гипотез. Критический анализ Талмуда. Еще три года назад ты был ребенком. Но после того дня, как Дэнни попал в тебя мячом, ты стал настоящим гигантом. Ты этого не видишь, я вижу. И это прекрасное зрелище. А теперь послушай, что я тебе скажу.
Он прервался на мгновение, словно тщательно обдумывая свои слова, затем продолжил:
– Люди не вечны, Рувим. С точки зрения вечности наша жизнь короче мгновения ока. Впору задаться вопросом – чем ценна она для человека? В мире столько боли. Зачем же нужно так страдать, если жизнь не более чем мгновение ока?
Он снова замолчал, глаза его затуманились. Затем он продолжил:
– Я усвоил много лет назад, Рувим, что мгновение ока – это само по себе ничто. Но то самое око, что мигает, – это что-то. Продолжительность жизни ничтожна. Но человек, который проживает эту жизнь, – вот ончто-нибудь да значит. Он может заполнить этот крохотный отрезок смыслом, так что его значение окажется неизмеримым, хотя длительность – ничтожной. Ты понимаешь, что я хочу сказать? Человек должен наполнить свою жизнь смыслом, смысл не вкладывается в нее автоматически. Это трудная работа – наполнить жизнь смыслом. И вот этокажется мне еще недоступным твоему пониманию. Жизнь, наполненная смыслом, заслуживает покоя. Я хочу заслуживать его, когда меня уже здесь не будет. Понимаешь?
Я кивнул, чувствуя, как холодею. Отец впервые заговорил со мной о собственной смерти, и его слова словно наполнили комнату серой мглой, застилающей глаза и запирающей дыхание.
Отец взглянул на меня и вздохнул:
– Я, пожалуй, был слишком резок. Прости меня. Я не хотел тебя расстраивать.
Я не знал, что сказать.
– Я проживу еще много лет, с Божьей помощью, – добавил он, стараясь улыбнуться. – С таким врачом и с таким сыном я, пожалуй, доживу до глубокой старости.
Серая мгла начала рассеиваться. Я глубоко вздохнул и ощутил, как холодный пот струится по шее.
– Ты сердишься на меня, Рувим?
Я покачал головой.
– Я не хотел тебя пугать. Я просто хотел объяснить – я занимаюсь теми вещами, которые считаю очень важными сейчас. Без них моя жизнь не имела бы смысла. Просто жить, просто существовать – какой в этом прок? Муха тоже живет.
Я молчал. Мгла полностью рассеялась. Я обнаружил, что мои ладони тоже покрыты холодным потом.
– Извини, – тихо сказал он. – Кажется, я тебя смутил.
– Ты меня испугал.
– Прости.
– Пожалуйста, сходи проверься.
– Хорошо.
– Ты меня очень напугал такими разговорами. Ты уверен, что с тобой все в порядке?
– У меня сильная простуда. Но в остальном все в порядке.
– Когда ты сходишь провериться?
– Я позвоню завтра доктору Гроссману и договорюсь на следующую неделю. Идет?
– Идет.
– Вот и отлично. Мой юный логик удовлетворен. Хорошо. Давай теперь поговорим о более приятных вещах. Я тебе не успел рассказать, но вчера я встречался с Джеком Роузом, и он дал мне чек на тысячу долларов для Еврейского национального фонда.
– Еще тысячу долларов?
Джек Роуз был другом детства моего отца, они прибыли из России в Америку на одном корабле. Сейчас он стал богатым меховщиком, очень далеким от религии. Но полгода назад сделал моему отцу тысячедолларовое пожертвование на нашу синагогу.
– Странные вещи творятся, – сказал отец. – И это замечательно. Джек вошел в Строительный комитет своей синагоги. Да, представь себе, он ходит в синагогу. Он делает это не для себя, уверяет он, а для своих внуков. Он помогает построить новое здание, чтобы его внуки могли ходить в современную синагогу и получить хорошее еврейское воспитание. И это стало происходить в Америке повсеместно. Это даже стали называть религиозным возрождением.
– Не могу себе вообразить Джека Роуза в синагоге…
Он несколько раз бывал у нас дома. И всякий раз мне казалось, что его открытое неуважение всех еврейских традиций отвратительно. Это был коротышка с розовым круглым лицом, всегда с иголочки одетый и всегда с огромной дорогой сигарой во рту. Однажды я спросил у отца, как они могут оставаться друзьями, ведь их взгляды почти по всем важным вопросам настолько различаются. Он ответил недовольной гримасой. Честное выражение несогласия во взглядах никогда не сможет разрушить дружбу. «Как ты еще не понял этого, Рувим?» Теперь у меня было искушение сказать отцу, что Джек Роуз, возможно, хочет деньгами успокоить нечистую совесть, но я удержался, а вместо этого сказал не без сарказма:
– Не завидую я его раввину.
Отец слегка покачал головой:
– Напрасно. Его раввину можно позавидовать, Рувим: американские евреи начали возвращаться в синагоги.
– Боже, смилуйся над нами, если синагоги заполнятся такими, как Джек Роуз!
– Они заполнятся такими, как Джек Роуз. И это задача раввинов – воспитать их. Это будет твоей задачей, если ты станешь раввином.
Я посмотрел на него.
– Еслиты станешь раввином, – повторил отец, ласково улыбаясь.
– Когдая стану раввином, хочешь ты сказать.
Отец кивнул, продолжая улыбаться:
– Из тебя вышел бы прекрасный профессор в университете. Мне бы очень хотелось, чтобы ты стал университетским профессором. Но по-моему, ты уже все решил. Верно?
– Да.
– Даже в синагоге, полной джеков роузов?
– Даже в синагоге, полной джеков роузов. С Божьей помощью.
– Америке нужны раввины.
– Ну, это лучше, чем стать боксером.
Он удивленно на меня посмотрел.
– Не обращай внимания. Неудачная шутка.
– Выпьешь со мной чаю?
Я согласился.
– Пошли. Выпьем еще чайку и поговорим о приятных вещах.
И мы пошли на кухню – пить чай и беседовать. Отец рассказал мне о своей сионистской деятельности, о речах, им произносимых, и деньгах, им собираемых. По его словам, в ближайшие год-два кризис в Палестине придет к логическому завершению. Нас ждет еще большее кровопролитие, предупредил он, пока англичане не доверят решение проблемы Организации Объединенных Наций. Многие американские евреи просто не понимают, что происходит. Английские газеты не рассказывают всей правды. Евреям сейчас надо читать прессу на идише, если они хотят следить за тем, что происходит в Палестине. Американские евреи должны знать больше о проблеме еврейского государства, и поэтому его сионистская группа задумала провести большой митинг в Мэдисон-сквер-гарден. Афиши развесят на этой неделе, а в «Нью-Йорк-таймс» появится большая реклама. Само мероприятие намечено на конец февраля.








