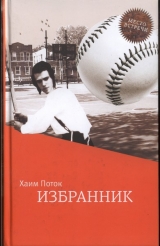
Текст книги "Избранник"
Автор книги: Хаим Поток
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 18 страниц)
Глава семнадцатая
В сентябре начался последний год нашего обучения в колледже. Как-то за обедом я поделился с Дэнни свежим умеренно антихасидским анекдотом, и он громко рассмеялся. Тогда, не подумав, я повторил шутку одного из наших соучеников: «Цадик сидит абсолютно молча, не произнося ни слова, а его последователи вокруг внимательно слушают». Смех будто схлопнули. Лицо Дэнни окаменело.
Осознав, что я коснулся больной темы, я похолодел и забормотал бессмысленные теперь извинения.
Он надолго замолчал. Его глаза казались затуманенными, обращенными внутрь. Потом он заметно расслабился и слабо улыбнулся.
– В этой шутке больше смысла, чем ты думаешь. Молчание можно слушать, Рувим. Я начал понимать, что молчание можно слушать и постигать. У него есть размер и глубина. Оно что-то говорит мне. Я обжился в нем. Оно говорит. И я могу его слушать.
Он говорил нараспев. В точности как его отец.
– Не понимаешь?
– Нет.
Он кивнул:
– Я и не надеялся.
– Что это значит, «молчание говорит»?
– Надо захотеть слушать его, тогда ты услышишь. Это странное, прекрасное вещество. Оно не всегда говорит. Порой оно кричит, и в нем слышна вся боль мира. Его больно слушать. Но необходимо.
Когда он так заговорил, я снова похолодел.
– Я совсем тебя не понимаю.
Он слабо улыбнулся.
– Вы с отцом не говорили в последние дни?
Он покачал головой.
Я совсем его не понимал, но он был таким мрачным и таким странным, что мне совсем не хотелось продолжать этот разговор, и я решил сменить тему.
– Тебе надо завести девушку, – сказал я. – Очень бодрит. И помогает от душевных страданий.
Сам я уже регулярно ходил на свидания, вечерами в субботу.
Он грустно на меня взглянул:
– Мне уже выбрали жену.
Я уставился на него.
– Старая хасидская традиция, ты что, забыл?
– Со мной такого никогда не будет, – произнес я ошарашенно.
Он мрачно кивнул:
– Вот еще одна причина, по которой мне нелегко будет вырваться из западни. Это касается не только моей семьи.
Я не знал, что ответить. Повисла долгая неловкая пауза. А потом мы вышли из-за стола и молча отправились на занятие к рабби Гершензону.
Бар мицва брата Дэнни, прошедшая ранним утром в третью неделю октября в моем присутствии, была простой и безыскусной. Утренняя служба началась в семь тридцать – достаточно рано, чтобы мы с Дэнни не опоздали на занятия, – и Леви был вызван читать благословение из Торы. После службы последовал небольшой кидуш, со шнапсом, тортиками и печеньем. Все провозгласили «лехаим» – «за жизнь», а потом разошлись. Рабби Сендерс тихо спросил меня, почему я не прихожу больше его проведать, и я снова ответил, что теперь по субботам после обеда мы с отцом изучаем вместе Талмуд. Он неопределенно кивнул и медленно отошел, подавшись вперед всем телом.
Леви Сендерс вытянулся и похудел. Он смутно походил теперь на Дэнни, только с черными волосами и темными глазами. Кожа на лице и на кистях у него оставалась белой, почти прозрачной, под ней были ясно различимы веточки вен.
В нем было что-то безнадежно-хрупкое – казалось, что порыв ветра способен его опрокинуть. Но в то же время темные глаза обжигали каким-то внутренним огнем, свидетельствующим об упорстве, с которым он цеплялся за жизнь, и о том, что он все больше и больше осознает: отныне и до конца дней всякое его дыхание будет зависеть от регулярно глотаемых им таблеток. Эти глаза говорили, что он готов бороться за жизнь любой ценой, не обращая внимания на боль.
Словно чтобы подчеркнуть непрочность бытия Леви Сендерса, на следующий же после бар мицвы день ему стало очень плохо, и его увезли в бруклинскую Мемориальную больницу. Дэнни позвонил мне, пока мы ужинали, как только «скорая» отъехала от крыльца, и в голосе его была паника. Мне особо нечего было сказать по телефону, и я спросил, хочет ли он, чтобы я приехал. Нет, отвечал он, у матери истерика, и он должен быть с ней. Он только хотел, чтобы я знал. И повесил трубку.
Отец услышал тревогу в моем голосе и тоже вышел из кухни, чтобы поинтересоваться, что случилось.
Я объяснил.
Мы вернулись за стол. У меня пропал аппетит, но я все равно ел, чтобы порадовать Маню. Отец заметил, как я был расстроен, но ничего не сказал. После еды он пришел в мою комнату, сел на кровать (я сидел за столом) и спросил, в чем дело, почему я так расстроился из-за болезни Леви Сендерса, ведь он уже и раньше болел.
И тогда я рассказал ему о намерениях Дэнни получить докторскую степень по психологии и не становиться наследственным цадиком после своего отца. И добавил, чувствуя, что настало время полной откровенности, что Дэнни испытал приступ паники из-за болезни брата, потому что без Леви для него окажется невозможным покинуть отца: он не хочет совсем разрушать династию.
Слушая, отец все больше и больше мрачнел. Когда я закончил, он долго сидел молча, с убитым лицом.
– Когда Дэнни рассказал тебе это? – спросил он наконец.
– В то лето, когда я жил в их доме.
– Так давно? Он так давно это решил?
– Да.
– И ты ничего мне не говорил?
– Это была наша тайна, аба.
Он хмуро на меня посмотрел:
– Дэнни представляет, какую боль это причинит его отцу?
– Он ужасно боится того дня, когда ему придется это сказать. Боится за них обоих.
– Я знал, что это должно произойти… Как это могло не произойти?
Он строго на меня посмотрел:
– Рувим, давай как следует разберемся. Что в точности Дэнни собирается сказать рабби Сендерсу?
– Что он хочет получить докторскую степень по психологии, а не занять его место.
– Намеревается ли Дэнни порвать с иудаизмом?
Я уставился на отца:
– Я никогда его об этом не спрашивал…
– Борода, пейсы, одежда, цицит – собирается ли он сохранить все это в докторантуре?
– Я не знаю, аба. Мы никогда с ним об этом не говорили.
– Рувим, Дэнни не сможет стать психологом, пока он выглядит как хасид.
Я не знал, что на это ответить.
– Очень важно, чтобы Дэнни в точности представлял, что он скажет своему отцу. Он должен предвосхитить те вопросы, которые возникнут у рабби Сендерса. Поговори с Дэнни. Пусть он заранее в деталях поймет, что он скажет отцу.
– За все это время мне в голову не приходило у него спросить.
– Дэнни сейчас подобен человеку, ждущему выхода из тюрьмы. У него только одно желание – выйти из тюрьмы. Что бы ни ждало его снаружи. Он не задумывается, что произойдет в следующую минуту после той, когда ему придется сказать отцу, что он не собирается ему наследовать. Понимаешь?
– Да.
– Ты поговоришь с ним?
– Разумеется.
Отец хмуро кивнул, его лицо выражало беспокойство.
– Я так давно не говорил с Дэнни… – сказал он тихо и замолчал. Потом слабо улыбнулся: – Не такое это простое дело – быть другом, верно, Рувим?
– Да уж.
– Скажи мне, Рувим, Дэнни и рабби Сендерс так и не разговаривают?
Я покачал головой и пересказал отцу слова Дэнни о молчании.
– Что это может значить, аба, – слушать тишину?
Казалось, этот вопрос смутил его еще больше, чем известие о нежелании Дэнни становиться цадиком. Он выпрямился на кровати, его тело напряглось.
– Ох уж мне эти хасиды, – пробормотал он, почти что себе под нос. – С чего они взяли, что вся тяжесть мира лежит только на их плечах?
Я поглядел на него в недоумении. Никогда раньше не слышал, чтобы он говорил о ком-то с таким презрением.
– Это один из способов воспитания – сказал он наконец.
– Что?
– Молчание.
– Я не понимаю.
– Я не могу тебе объяснить. Я сам не очень хорошо это понимаю. Но то, что мне об этом известно, мне не нравится. Это практиковалось в Европе в некоторых хасидских семьях. – Голос его стал тверже. – Есть способы получше научить ребенка состраданию.
– Я не…
– Рувим, я не могу тебе объяснить то, чего я сам не понимаю. Рабби Сендерс воспитывает Дэнни определенным образом. Я не хочу больше об этом говорить, это меня раздражает. Поговори с Дэнни, хорошо?
Я кивнул.
– А теперь мне надо еще кое-что доделать.
И он вышел из комнаты, оставив меня в недоумении.
Я хотел поговорить с Дэнни на следующий же день, но когда мы встретились, он был в такой панике по поводу брата, что я не рискнул передать ему слова моего отца. Доктора диагностировали болезнь его брата как дисбаланс состава крови, вызванный тем, что он съел что-то не то, сказал он мне за обедом. Он был бледен, мрачен и беспрестанно моргал. Ему подбирают новые таблетки, и ему придется оставаться в больнице, пока врачи не убедятся, что таблетки подходят. И ему теперь надо будет очень следить за тем, что он ест. Дэнни был хмур и несчастен весь день и потом всю неделю.
Леви Сендерса выписали из бруклинской Мемориальной больницы в следующую среду после обеда. Мы встретились с Дэнни на следующий день за обеденным столом и ели молча. С братом все в порядке, сказал он наконец, и все успокоились. Но мать слегла с высоким давлением. Доктора говорят, – она просто переволновалась из-за Леви и все, что ей нужно, – это покой, скоро ей станет лучше.
Еще он мне тихо сказал, что собирается послать заявки на получение стипендии на обучение в докторантуре по психологии в три университета – в Гарвард, в Беркли и в Колумбию. Я поинтересовался, как долго он сможет держать это в тайне.
– Не знаю, – ответил он не без напряжения в голосе.
– Скажи своему отцу все прямо сейчас. И покончи с этим.
Он мрачно уставился на меня.
– Мне не нужны его вспышки ярости за каждым ужином, – сказал он раздраженно. – Все, что я от него получаю, – это молчание или вспышки. Хватит с меня этих вспышек.
Тогда я передал ему свой разговор с отцом. По мере того как я говорил, его лицо делалось все беспокойнее.
– Я тебя не просил отцу рассказывать, – прошипел он наконец.
– Мой отец держал от меня в тайне ваши встречи в библиотеке, – напомнил я. – Не бойся, он не скажет.
– Никому больше не рассказывай.
– И не собираюсь. Так что мне ответить отцу? Собираешься ли ты соблюдать ортодоксальный иудаизм?
– Я тебе давал хоть какой-то повод подумать, что я намереваюсь бросить ортодоксальный иудаизм?
– А что ты ответишь отцу, если он спросит тебя про бороду, про лапсердак, про…
– Он не спросит.
– А если спросит???
Он нервно потянул за пейс:
– Как ты себе это представляешь – что я буду практикующим психологом и выглядеть при этом как хасид?
Честно говоря, я и не ожидал другого ответа. Потом мне пришла в голову другая мысль.
– А что, если твой отец увидит письмо, которое придет в ответ на твое заявление о поступлении в докторантуру?
Он уставился на меня.
– Я как-то об этом не подумал, – сказал он медленно. – Мне надо будет его перехватить.
Он поколебался, потом лицо его снова затвердело.
– Нет. У меня не выйдет. Почта приходит позже, чем я ухожу в колледж.
Глаза его наполнились настоящим страхом.
– Поговори-ка ты с моим отцом, – сказал я.
Дэнни пришел к нам домой тем же вечером, и я провел его в кабинет к отцу. Тот быстро повернулся от стола и пожал Дэнни руку.
– Давненько не встречались, – сказал он, широко улыбаясь. – Очень рад тебя снова видеть, Дэнни. Садись.
Сам он пересел от стола в кресло рядом с нами, которое попросил меня принести из кухни.
– Не сердись на Рувима за то, что он мне рассказал. Я привык хранить тайны.
Дэнни нервно улыбнулся.
– Ты расскажешь отцу в день своего раввинского посвящения?
Дэнни кивнул.
– Девушка тут тоже замешана?
Дэнни снова кивнул, искоса бросив на меня взгляд.
– Ты откажешься на ней жениться?
– Да.
– И твоему отцу придется все объяснять ее родителям и всей общине.
Дэнни промолчал, его лицо напряглось.
Отец негромко вздохнул:
– Это будет очень неловкая ситуация. Для тебя и для твоего отца. Ты точно решил не занимать места отца?
– Да.
– Тогда ты должен в точности знать, что говорить ему. Продумай, что ты скажешь. Продумай, о чем он спросит. Что будет его больше всего волновать после того, как услышит о твоем решении. Ты понимаешь меня, Дэнни?
Он медленно кивнул.
Наступило долгое молчание.
Затем отец подался к его креслу и тихо спросил:
– Дэнни… Ты умеешь слушать тишину?
Дэнни уставился на моего отца. Его синие глаза в испуге распахнулись. Он бросил на меня взгляд, потом снова перевел его на отца. И медленно кивнул.
– Ты сердишься на отца?
Дэнни покачал головой.
– Ты понимаешь, что он делает?
Дэнни замешкался. Потом снова покачал головой. Его глаза были широко раскрыты и отрешенны.
Отец снова вздохнул.
– Однажды он с тобой объяснится, – сказал он тихо. – Он объяснит тебе это. Потому что захочет, чтобы ты нес это и дальше, со своими детьми.
Дэнни нервно заморгал.
– Никто не в состоянии тебе помочь, Дэнни. Это касается только тебя и твоего отца. Но продумай как следует, что ты ему скажешь и о чем он тебя спросит.
Отец вышел с нами к двери квартиры. Я слышал, как набойки на каблуках Дэнни простучали по лестнице. Потом он ушел.
– Так что это такое – слушать тишину, аба?
Но отец ничего не ответил. Он ушел в кабинет и закрыл дверь.
На свою просьбу о зачислении в докторантуру со стипендией Дэнни получил положительный ответ из всех трех университетов. Письма приходили по почте и оставались нетронутыми на столике в прихожей до его возвращения из колледжа. Он сказал мне об этом в начале декабря, на следующий день после третьего письма. Я спросил у него, кто обычно достает почту из ящика.
– Отец, – отвечал он со смущенным видом. – Когда приходит почтальон, Леви в школе, а мама не любит взбираться по лестнице.
– На конвертах был обратный адрес?
– Ну конечно.
– Как же он не сообразил?
– Я не понимаю! – сказал Дэнни с отчаянием в голосе. – Чего он ждет? Почему ничего не говорит?
Меня поразил его страх, и я не нашелся что ответить.
Через несколько дней Дэнни объявил мне, что его сестра беременна. Они с мужем пришли и объявили об этом родителям. Отец улыбнулся впервые со времени бар мицвы Леви, добавил Дэнни, а мать всплакнула от радости. Я спросил, дал ли его отец как-то понять, что ему известно о планах Дэнни.
– Нет.
– Совсем никак?
– Нет. Я не получаю от него ничего, кроме молчания.
– А с Леви он тоже молчит?
– Нет.
– А с сестрой?
– Тоже нет.
– Не нравится мне твой отец. Совсем не нравится.
Дэнни ничего не сказал. Только часто заморгал.
Через несколько дней он передал мне, что его отец интересуется, почему я больше не прихожу к ним по субботам.
– Он говорил с тобой?
– Нет, не говорил. Это не разговор.
– По субботам я изучаю Талмуд.
– Я знаю.
– Я не очень расположен с ним встречаться.
Он кивнул с невеселым видом.
– Ты уже выбрал, в какой университет пойдешь?
– В Колумбийский.
– Почему ты не поговоришь и не покончишь с этим?
– Я боюсь.
– Какая разница? Если он намерен выкинуть тебя из дому, он сделает это в любом случае, когда бы ты ему ни сказал.
– Я получу диплом и посвящение в июне.
– Ты можешь у нас пожить. Ах нет – ты не можешь есть нашу еду.
– Я мог бы пожить у сестры.
– Вот!
– Я боюсь. Я боюсь его вспышки ярости всякий раз, как мне надо с ним заговорить. Господи, как же я боюсь!
Отец ничем не смог мне помочь, когда я заговорил с ним об этом.
– Рабби Сендерс должен сам все объяснить, – спокойно ответил он. – Я не могу объяснить то, что не до конца понимаю. Я не поступаю так с моими ученикам и не поступлю с сыном.
Через несколько дней Дэнни снова передал мне вопрос своего отца, почему я больше к ним не прихожу.
– Я постараюсь, – ответил я.
Но старался я не очень сильно. Я видеть не хотел рабби Сендерса. Я ненавидел сейчас его так же сильно, как в ту пору, когда он установил между нами с Дэнни молчание.
Недели шли, и зима медленно превращалась в весну. Дэнни работал над своим дипломным проектом по экспериментальной психологии, касающимся взаимосвязи усилия и скорости обучения, а я писал пространный диплом по логике высказываний долженствования. Дэнни с головою ушел в работу. Он исхудал и помрачнел, кожа да кости, и перестал говорить о молчании между ним и отцом. Казалось, он кричал самой своей работой. Только беспрестанное помаргивание указывало на его глубоко упрятанный страх.
Накануне начала пасхальных каникул он сказал мне, что его отец снова спрашивает, почему я больше к ним не прихожу. Может быть, я смогу заглянуть на Песах? Особенно он хотел бы меня видеть в первый или второй день Песаха.
– Я постараюсь, – ответил я уклончиво. Не имея на самом деле ни малейшего намерения стараться.
Но вечером, когда мы беседовали с отцом, он сказал мне с неожиданной резкостью:
– Почему ты не сказал мне, что рабби Сендерс просит тебя прийти?
– Да он всю дорогу просит.
– Рувим, когда кто-то просит тебя о разговоре, ты должен с ним поговорить. Как ты этого еще не понял? Как ты не извлек урока из того, что происходило у вас с Дэнни?
– Он зовет меня изучать Талмуд, аба.
– Ты уверен?
– Когда я к нему прихожу, мы только этим и занимаемся.
– Только изучаете Талмуд? Как же ты быстро забываешь!
Я уставился на него.
– Он хочет поговорить со мной о Дэнни… – сказал я, холодея.
– Ты пойдешь к ним в первый день праздника. В воскресенье.
– Почему он не сказал мне?
– Рувим, он сказал тебе. Но ты не слушал.
– Столько недель…
– Слушай в следующий раз. Слушай, когда тебе говорят.
– Может, мне прямо сейчас сходить?
– Нет. Они сейчас заняты приготовлениями к празднику.
– Я пойду в субботу.
– Рабби Сендерс просит тебя прийти в Песах.
– Но мы же по субботам Талмудом занимаемся.
– Ты пойдешь в Песах. У него должны быть причины звать тебя именно в Песах. И в следующий раз слушай, что тебе говорят, Рувим.
Он был очень зол – так же зол, как много лет назад, в больнице, когда я отказался говорить с Дэнни.
Я позвонил Дэнни и сказал, что приду в воскресенье.
Он уловил что-то в моем голосе.
– Что-то не так? – спросил он.
– Все нормально, – ответил я, – увидимся в воскресенье.
– Точно все нормально?
Его голос был напряжен и подозрителен.
– Точно.
– Приходи часам к четырем. Моему отцу надо будет отдохнуть после обеда.
– К четырем, хорошо.
– Точно все нормально?
– Увидимся в воскресенье, – ответил я.
Глава восемнадцатая
Днем в первый день Песаха я прошел под распускающимися на нашей улице платанами и свернул на авеню Ли. Было тепло, ярко светило солнце, и я неторопливо шел мимо домов и магазинов, пока не дошел до синагоги, в которой мы молились с отцом. Там мне встретился однокашник, и мы немного поболтали. Затем я пошел дальше и свернул наконец на улицу, на которой жил Дэнни. Ветви платанов на ней образовывали сплошную крону, сквозь которую пробивалось яркое солнце, испещрявшее тротуары узорами. Я видел, как из лопающихся почек выглядывали молодые листочки. Месяцем позже, распустившись, они образуют густую завесу, через которую не пробьется ни один лучик, но пока что солнце свободно проходило через листву, обливая золотом тротуары, прогуливающихся женщин и играющих детей. Я шагал и вспоминал, как впервые, годы назад, шел по этой улице. Этому времени подходит конец. Через три месяца, когда эти листья станут широкими и жесткими, наши жизни разделятся, как ветки у меня над головой, самостоятельно ищущие путь к солнцу.
Я медленно поднялся по широкому каменному крыльцу дома Дэнни и через двустворчатые деревянные двери вошел внутрь. В коридоре было темно и пусто. Двери синагоги оставались открыты. Я заглянул. Пустота полнилась эхом: «ошибки», гематрия, талмудические вопросы – ответы, рабби Сендерс, впившийся взглядом в мой левый глаз. Ты не знаешь еще, что это такое – быть другом. Критический анализ, ах! Твой отец соблюдает заповеди. Не так-то просто быть настоящим другом. Вкрадчивое, беззвучное эхо. Синагога казалась мне теперь очень маленькой и просто неряшливой – на что я совсем не обратил внимания в первый раз, когда здесь оказался. Подставки под молитвенники были сколочены кое-как, стены нуждались в покраске, голые лампочки выглядели ужасно, а их черные провода напоминали поломанные сучья. Каким эхом наполнится для меня кабинет рабби Сендерса? Сердце мое сжималось от предчувствий.
Я подошел к лестничной площадке и позвал Дэнни. Мой голос разнесся по притихшему дому. Я прислушался и позвал его снова. С третьего этажа донесся стук набоек, он приближался, и вот уже Дэнни смотрел на меня сверху лестницы – тощая, костлявая, почти призрачная фигура с бородой и пейсами в черном атласном лапсердаке.
Я медленно взошел по лестнице, мы поздоровались. Он выглядел утомленным. Мать отдыхает, сказал он, брат куда-то ушел. Они с отцом занимаются Талмудом. Его голос звучал устало, бесцветно, с едва заметной ноткой страха. Но в глазах хорошо читалось то, что скрывал голос.
Мы поднялись на третий этаж. Дэнни замешкался перед дверью в кабинет отца, словно не желая туда снова заходить. Потом открыл ее, и мы шагнули внутрь.
С того времени, когда я был здесь последний раз, минул почти год, но внутри ничего не изменилось. Тот же массивный стол черного дерева с застекленным верхом, тот же красный ковер, те же застекленные полки, плотно набитые книгами, тот же резкий запах книжной пыли, та же одинокая лампочка под потолком. Ничего не изменилось. Ничего, кроме самого рабби Сендерса.
Он сидел за столом в своем прямом кресле с красной кожаной обивкой и смотрел на меня. Его борода почти полностью поседела, а сам он подался вперед, как будто на его плечах лежала какая-то тяжесть. Его лоб взрезали глубокие морщины, темные глаза словно наполнились невидимым страданием, а пальцы правой руки рассеянно теребили длинный седой пейс.
Он тихо поприветствовал меня, но не протянул руки. У меня создалось впечатление, что рукопожатие было физическим усилием, которого ему бы хотелось избежать.
Мы уселись у стола, Дэнни – справа, я – слева. Лицо Дэнни оставалось безжизненным, замкнутым. Он нервно дергал себя за локон.
Рабби Сендерс слегка подался вперед и положил руки на стол. Медленно закрыл лежавший перед ним Талмуд, по которому они с Дэнни занимались. Потом глубоко вздохнул. Этот прерывистый вздох наполнил тишину в комнате, как ветер.
– Ну, наконец-то, Рувим, наконец-то ты ко мне пришел.
Он говорил на идише, его голос подрагивал.
– Простите меня.
Он кивнул. Его правая рука стала оглаживать седую бороду.
– Ты возмужал. Когда ты сидел на этом месте впервые, ты был мальчиком. Теперь ты мужчина.
Дэнни, казалось, только сейчас заметил, что он выделывает со своим пейсом. Он опустил руки на колени и замер, глядя на отца.
Рабби Сендерс смотрел на меня и слабо улыбался, покачивая головой.
– Мой сын, мой Даниэл, тоже стал мужчиной. Это великое счастье для отца – видеть, как его сын становится мужчиной.
Дэнни дернулся в кресле, потом снова замер.
– Что ты собираешься делать после выпуска?
– Останусь еще на год, чтобы получить смиху.
– А затем?
– Стану раввином.
Он бросил на меня взгляд и часто заморгал. Мне показалось, что он на мгновение напрягся, как от приступа боли.
– Значит, ты станешь раввином… – пробормотал он, обращаясь скорее к себе самому, чем ко мне. Потом помолчал немного и продолжил: —Да-да, конечно… я помню…
Он снова вздохнул и покачал головой, его серая борода двигалась взад-вперед.
– Мой Даниэл получит смиху в июне… М-да… В июне… М-да… Его смиха…
Слова повисали в воздухе бесцельно и бессвязно. Наступила долгая напряженная тишина.
Он медленно подвинул правую руку к лежащему перед ним закрытому Талмуду и провел пальцами по еврейским буквам названия, оттиснутым на корешке. Затем сцепил кисти на обложке Талмуда. Его тело следовало за движениями рук, а длинные пейсы покачивались по сторонам постаревшего лица.
– Ну-с, – продолжил он так тихо, что я с трудом разбирал слова, – в июне мой сын Даниэл и его друг пойдут разными дорогами. Они теперь мужчины, а не мальчики, а у мужчин пути расходятся. Ты пойдешь одним путем, Рувим. А мой сын, мой Даниэл, он… Он пойдет другим.
Я увидел, как у Дэнни отвисла челюсть, а все тело дернулось. Расходятся, мелькнуло у меня в голове! Он сказал – расходятся! Значит, он…
– Я знаю, – пробормотал он, словно читая в моих мыслях. – Я давно это знаю.
У Дэнни вырывался тихий, полузадушенный стон. Рабби не смотрел на него. Он ни разу не взглянул на него. Он говорил с Дэнни через меня.
– Рувим, я хочу, чтобы ты внимательно выслушал то, что я тебе скажу.
Его уста сказали «Рувим», но глаза сказали «Даниэл».
– Ты не поймешь этого. Ты можешь никогда этого не понять. И всегда будешь ненавидеть меня за то, что я сделал. Я знаю, что ты чувствуешь. Разве я не вижу этого в твоих глазах? Но я хочу, чтобы ты меня выслушал.
«Когда человек приходит в мир, – продолжал он, – в нем только искра божественного. Эта искра – это Бог, это его душа. Все остальное – зло и мерзость, которые покрывают его как скорлупа. Эту искру нужно лелеять как сокровище, ее нужно питать и раздувать в огонь. Ее нужно научить стремиться к другим искоркам, преодолевать скорлупу. Все может стать скорлупой, Рувим. Все. Безразличие, лень, жестокость и гениальность. Да, даже блестящий ум может стать скорлупой, что загасит искру.
Рувим, Царь Вселенной благословил меня гениальным сыном. И проклял тем, что я должен его растить. Ах, кто бы понимал, что это значит – иметь гениального сына! Не толкового сына, Рувим, а – гениального! Иметь Даниэла – мальчика, чей ум подобен драгоценному камню. Ах, какое это проклятье, какая мука – растить Даниэла, чей ум – как жемчужина, как солнце. Однажды, Рувим, когда Даниэлу было четыре года, я увидел, как он читает историю в книжке. И я ужаснулся. Он не прочитал историю, он проглотил ее, как глотают еду или воду. В моем четырехлетием Даниэле совсем не было души, а был только ум. Это был один ум, помещенный в тело без души. То, что он читал, было грустной историей на идише, о бедном еврее, который изо всех сил пытался попасть в Эрец-Исраэль прежде, чем он умрет. Ах, как он настрадался, этот человек! И мой Даниэл наслаждалсяэтой историей, наслаждалсяэтими печальными станицами, потому что, закрыв книжку, он впервые осознал, какой памятью наделен. Он взглянул на меня с гордостью и повторил всю историю слово в слово, и зарыдал я в сердце своем. Я вышел и возопил Царю Вселенной: „Что сделал ты со мной? Такой ли ум нужен мне в сыне? Сердценужно мне в сыне, душанужна мне в сыне, состраданиехочу иметь в сыне моем, справедливость, милосердие, умение сопереживать и разделять боль, вот чтохочу я для сына моего, а не такой ум без души!“»
Рабби Сендерс остановился и глубоко, прерывисто вздохнул. Я попытался сглотнуть – но рот мой был словно набит песком. Дэнни сидел, прикрыв глаза правой рукой, его очки были подняты на лоб, а плечи тряслись. Он беззвучно плакал. Отец не глядел на него.
«Мой брат был таким же, как Даниэл. Что это был за ум! Что за ум! Но он не был таким же, как Даниэл. Мой Даниэл, слава Богу, здоров. А брат мой долго-долго болел. Его ум сжигала жажда знаний. А тело было бессильно против болезни. И наш отец растил его не так, как он растил меня. А когда он достаточно окреп, чтобы уехать в ешиву учиться, было уже слишком поздно.
Когда он уехал в Одессу, я был еще ребенком, но я помню, на что был способен его разум. Но это был холодный разум, Рувим! Почти что жестокий, не затронутый движениями души. Высокомерный, заносчивый, нетерпимый к менее блестящим умам, рвущийся к знаниям, как самозванец рвется к власти. Он не принимал боли, он был безразличен и нетерпелив к страданиям. Даже недуги собственного тела этот ум презирал. После того как мой брат уехал в ешиву, больше мы не виделись. В Одессе он попал под влияние какого-то маскиля [71]71
«Маскиль» (мн. «маскилим») – сторонники еврейского просвещения и эмансипации.
[Закрыть], уехал во Францию и стал знаменитым математиком, университетским профессором. Он погиб в Аушвице, в газовой камере. Я узнал об этом четыре года назад. Он умер евреем. Не соблюдавшим заповеди, но и не выкрестом, слава тебе Господи. Мне хочется верить, что перед смертью он понял наконец, сколько страданий в этом мире. Я на это надеюсь. Это спасет его душу.Рувим, выслушай же то, что я собираюсь тебе сказать, и запомни это. Ты стал мужчиной, но могут пройти годы, прежде чем ты поймешь мои слова. А может, и вообще никогда не поймешь. Но имей терпение выслушать меня.
Когда я был совсем юн, мой отец, да покоится он в мире, стал будить меня посреди ночи. Я был совсем ребенком, я начинал плакать, но он все равно будил меня и начинал рассказывать о разрушении Иерусалима, о мучениях народа Израиля, и я снова плакал. Это продолжалось не один год. Однажды он взял меня в больницу – ах, что это был за опыт! – и часто водил меня к беднякам, к нищим, вел при мне с ними беседы. Со мною отец никогда не разговаривал – только когда мы учились. Он учил меня молчанию. Учил вглядываться в себя, черпать в себе силы, проверять свои поступки своей душой. Когда его последователи спрашивали, почему он никогда не разговаривает со своим сыном, он отвечал, что не любит говорить, – слова жестоки, слова лукавы, они разрушают то, что в сердце, они скрывают сердце, а сердце говорит через молчание. Понимать чужую боль можно, лишь испытав свою, говорил он, оборотившись внутрь себя и найдя собственную душу. Познать боль очень важно, говорил он. Только это избавляет от гордыни, от заносчивости, от безразличия. Учит, насколько хрупки мы и ничтожны, как зависим от Царя Вселенной. Постепенно, очень постепенно начал я понимать его слова. Годами молчание смущало и пугало меня, хоть я всегда верил ему и никогда не роптал на него. И когда я достаточно подрос, чтобы это понять, он объяснил мне, что цадику важно, как никому, знать что такое боль. Цадик должен знать, что этот такое – страдать за свой народ, сказал он. Он должен взвалить на себя их боль и нести ее. Всегда. Он должен повзрослеть раньше времени. Он должен плакать – он должен всегда плакать в своем сердце. Даже веселясь и танцуя, он должен плакать о страданиях своего народа.
Ты не понимаешь меня, Рувим. Я по глазам твоим вижу, что ты меня не понимаешь. Но мой Даниэл теперь понимает. О, теперь он хорошо это понимает.
Рувим, я не хотел, чтобы мой сын стал подобен моему брату, да покоится он в мире. Лучше мне совсем не иметь сына, чем иметь гениального сына, лишенного души. Я взглянул на своего четырехлетнего Даниэла, и я сказал себе: „Как мне научить этот ум, чт о значит иметь душу? Как мне научить его чувствовать боль? Как научить захотетьпринять на себя страдания ближнего? Как мне добиться этого и не потерять моего сына, которого я люблю как самого Царя Вселенной? Как мне добиться этого так, чтобы он, Господь оборони, не отвернулся от Царя Вселенной и его заповедей? Могу ли я выучить моего сына так, как выучил меня мой отец, и при этом не отвратить его от Торы?“ Ведь это Америка, Рувим. Это не Европа. Мир здесь открыт. Здесь есть библиотеки, книги, школы. Великолепные университеты, в которых никто не думает о квоте на евреев. Я не хотел отвратить моего сына от Бога, но я не хотел, чтобы он вырос умом, лишенным души. Когда он был еще мальчиком, я уже понимал, что не смогу удержать его от того, чтобы он отправился в большой мир за знаниями. Я понимал, что это может отвратить его от того, чтобы занять мое место. Но я не мог допустить, чтобы он полностью отвернулся от Царя Вселенной. И должен быть уверен, что его душа станет душой цадика – независимо от того, кем он станет в жизни».
Он закрыл глаза, казалось, полностью ушел в себя. Его руки дрожали. Воцарилось долгое молчание. Слезы катились по крыльям носа и исчезали в бороде. Он судорожно вздохнул, потом открыл глаза и уставился на лежащий перед ним Талмуд.








