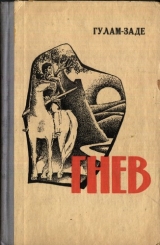
Текст книги "Гнев. История одной жизни. Книга вторая"
Автор книги: Гусейнкули Гулам-заде
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 19 страниц)
И я вспомнил: очень странным показался мне этот «мулла» тогда, в кабинете Махмуд-хана-Новзари. Недаром я принял его за переодетого европейца. Для такого негодяя не жалко было бы потратить парочку пуль из револьвера.
...Когда мы уходили из дома Фейзмамеда, нас провожал Курбан-Нияз.
– А где сейчас этот «мулла»? – спросил я, когда мы оказались на улице.
– Из Мешхеда исчез...
– Напакостил – и в кусты! – мне почудилось, что после этих слов Аббас заскрипел зубами.
– Да, – вздохнул Курбан-Нияз. – Ловко сделал свое грязное дело, но торжествовать победу ему рановато... Наши ребята, кажется, напали на след подлеца. Если это действительно так, то... Ну, мне пора возвращаться. Не обижайтесь, ребята – у меня срочное дело. Я бы тоже не прочь навестить Абдулло-Тарчи, да некогда.
Мы расстались. Курбан-Нияз шагнул в темноту, и его плотная, коренастая фигура почти мгновенно растворилась в густом мраке. Но через минуту он вновь догнал нас.
– Гусейнкули, – Курбан Нияз старался отдышаться от быстрого бега, – чуть не позабыл...
И он протянул согнутый конверт.
– Письмо от Парвин.
Стоит ли говорить, что от изумления и нежданной радости на какое-то мгновение я оцепенел.
– От Парвин? Ты знаком?..
– Нет, тут другое: были в Миянабаде и Боджнурде наши люди. Случайно встретили Парвин, а она, узнав, что те из Мешхеда и даже знают тебя, передала письмо.
Курбан-Нияз снова ушел. Мы отправились в чайхану Абдулло-Тарчи. Торопимся. Я теряю всякое терпение... в кармане письмо. Ее письмо!.. В темноте я не могу прочесть письмо. И письмо молчит. А молчание это несказанно угнетает, жжет и тревожит меня. Поскорей бы в светлую комнату! Уличные фонари на мое несчастье тоже уже дней десять в Мешхеде не горят.
В довершение ко всему и чайхана Абдулло-Тарчи оказалась закрытой. Где он живет? Мы не знаем. Тяжело на душе. Через весь город шагаем к своим казармам.
...Потом я все же дорвался до письма. Читаю и читаю, а точнее – перечитываю. В десятый... сотый раз.
«...Дорогой Гусо, – пишет Парвин, и у меня в ушах стоит ее голос, – я проклинаю войну. Она разлучила нас. Я, видно, самая несчастная на свете.
Бабушка настаивает, чтобы я вышла замуж за Лачина. Одно твердит: двадцать лет для девушки критический возраст!..
И Лачин наступает. Проходу не дает... Грозится, что если добровольно не соглашусь, возьмет меня силой. Слышишь, Гусо? А мне никто кроме тебя не нужен...
...Прошлой ночью, мой дорогой Гусо-джан, я видела тревожный сон. Представь себе: сидим мы с тобой в нашем саду под яблоней, беседуем. Вдруг поднялся страшный ветер. Сильный и горячий... Мгновенно пожухли листья на деревьях, стали падать на землю недозревшие плоды. Мне захотелось пить...
Ты побежал за водой. Убежал и пропал. Долго ждала я тебя, но ты так и не вернулся. От ужаса и страха у меня зашлось сердце... и я проснулась.
До самого утра потом не сомкнула глаз. Что это?.. Чувство тревоги и беспокойства не покидают меня до сих пор.
Милый мой Гусо, в сердце у меня тревога. Не случилось бы с тобою чего. Приезжай поскорей. Слышишь? Я жду тебя, мой единственный».
Разве мог я уснуть, не написав Парвин ответа, не успокоив бедняжку?.. И я взялся за перо.
«...Ненаглядная моя Парвин! Любовью своей ты охраняешь меня от разных невзгод и беды! Не волнуйся, милая Парвин, не беспокойся... Я вернусь!
Целую тебя, обнимаю...»
В ССЫЛКЕ
Внезапно набежавшие облака заволокли небо над Мешхедом. Погода к дождю. А еще вчера стояла ясная, тихая погода, и никто ничего мрачного не ожидал.
– Ождан Гусейнкули-хан! – вызвал меня дежурный офицер. – Вас требуют в штаб. Немедленно!
– Слушаюсь!
Вызов этот ничего хорошего мне не сулит, но, посоветовавшись с Аббасом, я иду в штаб. Неподчинение приказу может повлечь за собой самые дурные последствия. Я – военный, а в армии дисциплина – прежде всего. Уставы строги, а в такое тревожное время карают полевые суды. Гляди в оба!..
Под суд, правда, я не попал, но в штабе мне вручили приказ генерал-губернатора Гусейн-Хазала о моем переводе из Мешхеда в Калат сроком на три года. Это – ссылка.
Калат – затерявшийся в горах Северного Ирана пограничный район, почти изолированный от внешнего мира. Я никогда не бывал в Калате, но много плохого слышал о нем. Там невыносимые климатические условия: летом испепеляющая жара, духота, а зимой суровый холод и сырые ветры. В довершение ко всему в Калате нет источников пресной воды и ее туда возят. Летом от гнилой воды ходит зараза...
Возвращался из штаба я медленной, разбитой походкой. Одолевали горькие мысли: и почему меня всю жизнь преследуют неприятности, беды и разочарования? Ребенком в поисках куска хлеба я терпел унижения и обиды, сердце мое терзали безутешные слезы матери и сестер. Я повзрослел, а невзгоды все равно не оставляют меня. Тяжелым камнем в душе легла утрата друзей Рамо, Ахмеда, Аскера... Да и любить по воле судьбы я должен в разлуке. И все же я верю в свою звезду.
Вечером с Аббасом мы зашли к Арефу. Выслушав нас, учитель сказал:
– Враги иранского народа понимают, что дни каджарской династии сочтены, но добровольно покидать престол тираны не думают. Они стараются сохранить свои позиции. И делают это любыми средствами. Гусейнкули, помни, что революция продолжается! И ты нужен ей. Не беда, что тебе придется жить в Калате. Там тоже дело найдется. Мы наладим с тобою связь. Постарайся сплотить вокруг себя верных людей.
– Хорошо, учитель, – говорю я дрогнувшим голосом и чувствую, как глаза мои наполняются слезами, а сердце гневом к врагам народа. – Клянусь, всегда буду верен делу революции!
До Мешхеда провожает меня Аббас. В местечке Ходжа-Рабин мы посидели в чайхане. Точнее – в саду, который в теплые погожие дни превращается в чайхану.
Аббас угощает меня шашлыком и хмельным напитком абеджов – самодельным пивом. Разговариваем мало, больше молчим.
– А как там дела у Парвин? – вдруг спрашивает меня Аббас, опуская на ковер недопитую кружку.
– Не знаю. Хочу написать ей письмо.
– Она у тебя добрая, умная... поймет.
– А может быть ее лучше взять к себе! Как ты думаешь, Аббас?
– В Калат?
– Да.
– Ты сдурел!.. Не вздумай. В этой дыре, говорят, можно лишиться ума, превратиться в дикобраза!
– Знаю, но нет сил больше жить в разлуке.
– Послушай, Гусо-джан, – Аббас понижает голос до полушепота. – Тебя в Калат никто не сопровождает? Нет. Отлично! Значит, никто не узнает, куда ты подался: в Боджнурд, Калат или в Тегеран...
– Нет, Аббас, я нужен в Калате. Очень нужен.
– Кому? Кавам-эс-Салтане?
– Арефу. Партии «Адалят»...
Аббас молчит. Он согласен со мною. Мы еще повоюем, и враги народа сполна ответят за кровь Рамо, Таги-хана, Аскера и сотен других сынов Ирана.
Вечереет. Мы с Аббасом на прощание крепко обнимаемся.
– Счастливого пути, Гусо!
– Всего тебе доброго, Аббас-джан! Не падай духом. Будь готов к новым боям! Не забывай друзей.
...Икбал грызет удила и размашистой рысью несет меня по узкой горной тропинке. Горы здесь высокие. Чтобы взглянуть на их вершины, приходится придерживать шапку рукой.
Оглянувшись, вижу: Аббас стоит на прежнем месте и все машет мне рукой. Ох, как тяжела для нас обоих эта разлука! Многое довелось нам пережить вместе, и всегда в своей дружбе мы были честными. Горе пополам, и радости делили пополам.
Похрапывает, торопится Икбал. Куда? Что ждет нас с тобой, мой верный друг, впереди? Не знаешь?.. Не знаю и я.
В сумерках тропинка привела в прохладную тенистую долину. Пахнет дымком, подгоревшим чуреком и еще чем-то удивительно знакомым с детства. Так пахло, помню, летним вечером в Киштане...
Где-то поет, выводит до слез знакомую мелодию свирель. Это возвращаются в селения пастухи. Целый день они бродили по головокружительным обрывам, рисковали в любую минуту сорваться в пропасть, а сейчас их ждет родной очаг.
В душе я позавидовал этим незнакомым ребятам. Знаю, что бедны они и обездолены, но случаются в их жизни минуты, когда забывают они о своей нищете, и течет, плещется беспокойной речной волной по ущельям и горным долинам вот эта мелодия – сама боль сердец и безысходная душевная тоска.
У околицы горного селения мне повстречался преклонных лет, но еще довольно крепкий и бодрый старик-пастух в мохнатой туркменской шапке.
– Салам алейкум!
– Валейкум эссалам! – ответил он.
– Хей, папаша, я из Мешхеда, направляюсь в Калат. Далеко ли еще до этого райского места?
– Не так близко. И мой тебе совет, дорогой человек, заночевать в нашем селении. Ночью в горах опасно, всякое может случиться.
– Неужели здесь так много хищников?
– И хищников немало. Но есть чудовища и пострашнее...
– Опасней тигра?
– Да, – и старик, понизив голос, добавил:– Каджарские псы рыщут по всем дорогам и тропинкам. Оставайся у нас, переночуй.
– Спасибо, отец, за добрый совет. А как называется ваше селение?
– Мехрабад.
...На рассвете, когда окрестные горы еще плавали в сладкой полудреме, а Мехрабад, свернувшись зеленым калачиком у подножья отвесной скалы, безмятежно спал, я покинул гостеприимный дом пастуха-туркмена.
Летом в горах Северного Ирана почти всегда стоят погожие дни: частые грозовые дожди умывают испещренные вековыми морщинами серые лица гор, отшумит ливень – и в чистом, высоком небе поют жаворонки, а внизу, между мохнатых валунов, суетятся многочисленные обитатели гор: зверьки, насекомые, черепахи, змеи.
Ехать по узкой горной тропе в такое время – великое наслаждение. За каждым уступом, за каждым поворотом тебя ждет новое открытие, дивные дали и живописные картины.
Икбал, чутко всхрапывая и прядая ушами, идет быстрым шагом, а когда тропинка спускается в долину, переходит на рысь.
Впереди – созданная самой природой крепость. Две огромные горы с плоскими вершинами разделены узким, в несколько шагов проходом. Это – знаменитые калатские ворота. Другого пути в Калат нет. Со всех сторон неприступные скалы.
Через горные ворота протекает неглубокая, но довольно бурная речушка. Икбал потянулся было к воде, но пить не стал, недовольно фыркнул и зашагал осторожно по голышам на дне речушки. В нос бил резкий, неприятный запах нефти. Она плавает масляными сизыми пятнами в заводях, покрывает жирным слоем прибрежные камни.
За воротами – долина. На правом берегу речушки селение. Оно приютилось под шатром многовековых могучих чинар. У самого въезда в селение расположилась дымная чайхана. Я привязал коня к игдовому дереву и вошел в чайхану.
В довольно просторном помещении с низким прокопченным потолком ели, курили, пили бедно одетые люди. Все сосредоточенно слушают молодого человека – щупленького, немощного на вид. Голос у заморыша однако зычный. Говорит он скороговоркой, но четко и громко: читает поэму «Лейла и Меджнун». Увидев меня, паренек умолк, и все невольно обратили на меня внимание.
– Мир и здоровье вам, – поприветствовал я по-курдски собравшихся.
– И тебе того же! – ответил за всех широкоплечий и могучий, как шумевшая за окном чинара, старик,– Ты курд?
– Да.
– А откуда родом?
– Из Киштана.
– На своем веку я во многих местах бывал, – мелкой рябью побежали по лбу у старика морщинки, – а Киштана не слышал.
– Это под Миянабадом.
– А-а? Там живут курды?
– Да. Там целое княжество со своим войском.
– Они тоже шииты?
– Конечно.
– Куда только не забрасывает судьба курдов. Эй, хозяин, угости приезжего человека обедом! – крикнул старик чайханщику.
Болезненный юноша продолжал чтение. Затаив дыхание, собравшиеся слушали вечно молодую легенду о любви. Закусив, я бесшумно покинул чайхану. Людей так увлек рассказ о приключениях двух влюбленных, что никто не обратил внимания на мой уход.
По левому берегу речушки вьется, петляет между громадных лысых валунов дорога. Шумят на ветру сады; тенистые, с нагнувшимися до земли под тяжестью плодов ветвями.
А вот и центр Калата – городок Кабуд Гумбад. Узкие и кривые улочки, слепые глинобитные домики. И ни души на улицах, хотя полуденный зной уже спал, и солнце вот-вот коснется хребтины гор.
В центре Кабуд Гумбада возвышается мечеть со знаменитым голубым, – под цвет небосвода минаретом. Об этом минарете я наслышался всяких былей и небылиц еще с детства. Говорят, что в дни больших мусульманских праздников он раскачивается; что если прочесть непонятные надписи, которыми испещрен минарет от самой земли до подоблачной вершины, то можно без труда предсказывать все события; что взобравшемуся на минарет видна Мекка... Многое говорят. Но кто прочтет эти таинственные слова? Кто дерзнет взобраться по скользкой и гладкой как стекло стене под самые облака? А качается минарет и в самом деле. Всегда. Если долго смотреть на его маковку не мигая, то кажется, что минарет начинает качаться... Чудеса востока. Сколько их еще не разгаданных!..
– Паренек!– я остановил прохожего. – Ты не скажешь, где здесь пограничная застава?
Моя форма внушает почтение, и юноша бодрым голосом, подражая военным, говорит:
– В конце этой улицы! Рядом с двухэтажным домом.
По этим приметам я быстро достиг цели. Во дворе пограничной заставы меня повстречал офицер средних лет в форме лейтенанта.
– Господин лейтенант! Ождан Гусейнкули-хан по приказу штаба прибыл в ваше распоряжение.
– Меня зовут Аликпер, – офицер протянул мне руку. – Дорогой Гусейнкули-хан, вы прибыли мне на смену, а не в мое распоряжение. Вам придется командовать заставой.
– Приказ, дружище! По состоянию здоровья я должен покинуть Калат, а добровольно сюда никто и никогда не приходил. Да и не придет, могу тебя заверить.
Аликпер знакомит меня с заставой. Он торопится, ему не терпится покинуть ненавистный и страшный Калат. Лейтенант показал мне казарму, познакомил меня с солдатами, передал ключи от склада с боеприпасами и оружием.
– Крепость Калат, – старательно, но торопливо объясняет Аликпер между делом,– это огромный каменный мешок. Попасть в этот мешок можно лишь двумя путями: тем, которым воспользовался ты, да с севера – через ворота Нефта. Но северный путь более трудный, и ведет он к границе, так что этой тропой почти никто не ходит. А вот пограничникам без этого пути не обойтись.
На следующий день Аликпер повел меня в местечко Нефта. Это военный городок. Мирного населения здесь нет. Мы стоим с лейтенантом на холме.
– В той голубоватой дымке, – Аликпер указывает на север, где до самого горизонта простирается равнина, выжженная солнцем, там Туркменистан... Россия. Из их населенных пунктов ближе всего к нам Каахка и Теджен. А во-он железная дорога, поезд видишь?
По серой равнине далеко-далеко зеленоватой гусеницей ползет поезд, время от времени пуская в небо черные клубы дыма.
– Господин лейтенант, а вы здесь давно?
– Третий год.
– А почему именно в Калат вас послали?
– Это мне вместо подарка, – смеется Аликпер.
– Подарок?
– Да. Когда кровожадный Кавам-эс-Салтане отправил полтысячи жандармов в Гилян против Ходоу-Сердара, я имел неосторожность вот так же, как сейчас, малознакомому человеку сказать, что это – братоубийство. Ровно через два дня я получил «повышение» и был направлен сюда. Спасибо начальству за внимание и заботу.
– Не понимаю, почему все боятся этого уголка в горах. И почему именно Калат стал местом ссылки. С первого взгляда здесь настоящий курорт: речка, горы, сады...
– Э-э, дорогой Гусейнкули-хан, – машет рукой Аликпер. Поживешь... узнаешь. Калат – это самое проклятое место на земле, рассадник малярии. Вода здесь пополам с нефтью. Летом злой и колючий зной, а зимой – холод. Местные жители ко всему этому чудом привыкли, а вот новичкам здесь погибель. Редко кто переносит эти лишения.
Офицер, вместо которого я приехал, сошел с ума, а до него двое пустили себе пулю в лоб. Я – первый, кто перенес калатские муки. Повредил себе нутро, но жив... Желаю и тебе выжить. Больше ничего не хочу тебе пожелать. Главное – выжить!..
Прощаясь со мною перед отъездом, Аликпер успел шепнуть на ухо:
– Будь поосторожнее с местным управителем. Мирза-Ибрагим-Бузург-заде родом из Мешхеда. Он был вхож к Кавам-эс-Салтане. И до сих пор, по-моему, они поддерживают связь. Ну, господин ождан, мне пора. Будь здоров... Желаю тебе поскорей унести отсюда ноги!..
«Да, – размышлял я на следующее утро, когда Алик-пера уже и след простыл, а я головою отвечал за неприкосновенность государственной границы,– веселые деньки ожидают меня. Но выжить надо...»
Помня строгий наказ Арефа, я решил побыстрей пустить здесь корни. Нужны были знакомые, друзья. Без этого человеку нигде не прожить. Сколько раз судьба меня бросала в незнакомые места, и всюду – одно и тоже: обзаводись знакомыми, привыкай к местным обычаям и нравам, а главное – присматривайся к людям, умей отличить врагов от друзей...
...Начал я, конечно, с солдат. С ними-то мне придется тянуть нелегкую лямку пограничной службы, – среди них в первую очередь я и должен подыскать верных друзей, единомышленников. Началась беспокойная, изнурительная служба на границе. Было всякое.
– Господин ождан! – передо мною по стойке смирно вытянулся кудрявым тополем совсем еще молоденький паренек, – сержант Азим-заде по вашему приказанию явился.
– А как тебя зовут?
– Фархад.
– Ну и отлично! Ты покажешь мне, Фархад, участок границы, который охраняет наша застава.
– Слушаюсь, господин ождан!
И мы отправились на границу. Фархад шел впереди, ловко лавируя между камнями и густыми, щетинистыми зарослями ежевики. Каждый куст, каждый камешек на этом участке знакомы Фархаду, он может обойти все посты с закрытыми глазами,
Фархад молчалив, как кошка, ловок, осторожен и чуток. Всюду даже на голом каменистом грунте он может заметить следы, безошибочно сказать: когда и кто, зверь или человек пошел здесь. Был он наделен природой каким-то особым органом чувств, какого нет у простых смертных. Словом, Фархад– настоящий воин границы. Да и попутчик надежный... может часами не проронить ни слова. Придумай-ка лучшего попутчика в горах!..
Быстро познакомился я с границей и с людьми.
Прослужил я к тому времени в Калате без малого год, знал уже многих местных жителей и чувствовал себя здесь старожилом, как Фархад-джан...
– Господин ождан...
– Есть у меня в Калате друг. Он совсем молодой, но друг мой отлично знает окрестные горы. Он нам во многом поможет. Вам надо познакомиться с ним...
– А чего ж ты?.. Мог бы привести его к нам.
– Он, господин, ождан,– Фархад вдруг смутился,– он стеснительный парень. Я звал его, а сегодня попробую еще...
Вечером Ширзаде, так звали юного друга Фархада, пришел на заставу. Мы познакомились.
И голосом, и внешним видом, да и манерами паренек походил на девушку: хрупок, тонок в кости и ужасно застенчив. Разговорились, сидя в моей комнате за чаем. Оказывается, Ширзаде служит конюхом и слугой одновременно у зажиточного чиновника Манучехра. Чиновник этот – сорокалетний тегеранец – живет вдвоем с молодой женой, первой красавицей Калата. Да, водилась такая в этом медвежьем углу.
– Ты здешний? – спрашиваю я паренька.
– Нет. Я из Ахмедабада.
– Это недалеко от Катана? – Фархад подливает гостю чай.
– Нет. Есть другой Ахмедабад. По другую сторону пустыни Деште-Кевир. Недалеко от Кермана.
– А как же ты оказался в этих дебрях? – меня заинтересовала судьба пугливого паренька...
– Голод и нищета заставили меня исколесить весь Иран. И только здесь улыбнулось счастье: господин Манучехр дал работу, приютил... Да и жена его уважает меня.
– И много он тебе платит?
– Три тумана в месяц. Столько мне нигде еще не платили. Добрые у меня хозяева.
– Слишком толстый у твоего хозяина зад, – говорит Фархад, – чтобы он был частным человеком.
Ширзаде покраснел, его смутила грубоватая прямота друга.
– Нет, они хорошие...– вяло промямлил Ширзаде.
А через неделю после нашего разговора весь Калат узнал, сколько стоит «честность» и «порядочность» Ману-чехров. Фархад неожиданно сообщил мне:
– Господин ождан, я пятый день не вижу Ширзаде...
– Странно. Он обещал прийти на заставу.
– Нет его...
– Сходи-ка, Фархад, к нему. Пригласи на охоту. Он знает хорошие места.
Возвратился Фархад на заставу мрачнее грозовой тучи.
– Что случилось? – спрашиваю я.
Фархад молча машет рукой и уходит в казарму. Я – за ним.
– Где Ширзаде?
– Ширзаде арестован. – И это правда?
– Да. Уже три дня в тюрьме...
– За что?
– Ай!– отмахивается Фархад. – Оказался мерзавцем, а я дружил с ним...
– Расскажи толком, что случилось?
– Позорное дело, господин ождан. Грязное... Он надругался над своей хозяйкой. Подлец... Эти люди приютили его... Он ел их хлеб-соль...
– И что с ним теперь будет?
– Наказание.
– А когда будут судить его?
– Говорят, в субботу...
Я почему-то в глубине души не верю, что стеснительный и робкий как девушка Ширзаде оказался способным посягнуть на верность красавицы хозяйки. Впрочем, в тихом омуте черти как раз и водятся. Как на грех, в последнее время Ширзаде частенько бывал на заставе и многие знали об этом. Стоит ли мне появляться на суде? Неприятно будет слушать горькую правду о мерзком поступке человека, к которому я почему-то с первого дня нашего знакомства проникся уважением. «Нет, – решил я потом, – на суд нужно пойти. Не исключено, что здесь произошло какое-то недоразумение. Возможна и подлость со стороны смазливой красотки, умеющей показать свои редкие женские прелести. Суд все выяснит».
Я отложил охоту, которую намечал на субботу, и мы с Фархадом отправились в суд.
– Граждане заседатели! – голос судьи Сейд-Мир-Ка-зима, самодовольного, тучного мужчины с обвислыми плечами, писклявый, неприятный. – Правоверные мусульмане-шииты! Вам предстоит сегодня разобрать дело гнусного преступника Ширзаде. Он нарушил священный закон шариата, гнусно и коварно обесчестил многоуважаемую Ха-лиду-ханым, оскорбил мусульманина Манучехра!.. Все вы знаете, что это такое... какое страшное преступление совершил этот человек... Госпожа с трудом пережила это надругательство... и телесное, а еще больше духовное! Прости аллах!
– Манучехра обидел? – выкрикнул кто-то из зала. – Знаем! И жену и самого толстяка!
Раздался смех, собравшиеся зашушукались, зашевелились. Сейд-Мир-Казим смутился было, умолк, но быстро нашелся.
– Я говорю сейчас о преступнике Ширзаде и прошу слушать меня! А тех, кто будет мешать суду, я удалю из зала. Граждане заседатели, я обращаюсь к вам: есть ли у кого вопросы по существу... по вопросу надругательства над женой... Ну вы знаете!
– Есть! – поднялся по левую руку судьи плешивый остроносый старикашка. – Я не вижу в зале суда пострадавшую госпожу...
– Халиды-ханым здесь нет, – поторопился с ответом судья. – Но по шариату при разборе подобных дел присутствие женщины не обязательно.
– Я понимаю,– согласно кивнул старикашка. – Но хотелось бы... Пострадала бедняжка!..
– Какие будут мнения о мере наказания?.. Разбуженным ульем загудел зал. На лицах у присутствующих гнев и негодование.
– Я предлагаю,– говорит седой, крупный в кости старик лет семидесяти,– сжечь его поганое тело на костре!
– Повесить мерзавца вниз головой на самой высокой из калатских чинар, – предлагает женщина с грудным ребенком на руках. – Пусть видят все, что ждет насильников, тех, кто забыл святое писание и законы наших предков.
От материнского крика проснулся и заплакал ребенок. Женщина торопливо сунула ему в рот длинную дряблую полупустую грудь, опутанную толстыми синими венами, и, не закончив речи, ушла в конец зала, поближе к двери.
– Рубить негодяя на куски! Медленно и тупым топором рубить!..– Глаза мужчины средних лет горят гневом, он сжимает кулаки, и я знаю: дай ему сейчас волю, он и в самом деле изрубит на куски несчастного Ширзаде.
– Убить поганца!..
– Пусть каждый житель Калата бросит в негодяя камень!
Толпа неистовствовала. Люди негодовали.
– Господа! Правоверные! – пищит судья стараясь перекрыть нарастающий рокот зала. – Согласно святому писанию... Тише! Согласно святому писанию, прежде чем вынести приговор, мы должны выслушать и обвиняемого...
– Что может сказать потерявшая честь и совесть скотина?
– Казнить!
– Казнить!
– Нет! Мы нарушим шариат!– Сейд-Мир-Казиму все же удалось перекричать всех негодующих, и в зале мало-помалу утихли.
Поднялся бледный, с посиневшими, как у мертвеца, губами, Ширзаде. Трясущимися руками он держится за перила, ограждающие позорную скамью. Я смотрю на его тонкие, хрупкие, как у девушки, пальцы, и мне становится жаль Ширзаде. Но вместе с тем понимаю, что за изнасилование беззащитной красотки он должен понести заслуженную кару.
Зал притих. Установилась страшная, предгрозовая тишина, от которой стыло сердце и бегали по спине вдоль позвоночника мурашки.
– Мусульмане, – голос несчастного дрожит. – У меня в Ахмедабаде мать. Старая она, одинокая...
– Вспомнил о матери, кобель!
– Знала бы она, что ты говоришь!..
– Тихо, мусульмане!– обозленным комаром зудит Сейд-Мир-Казим.
– Я прошу... – по лицу Ширзаде катятся и падают на пол крупные и светлые, как вызревший, виноград, слезы. Я хочу передать маме... Я прошу суд выделить для выяснения дела несколько женщин... Только женщинам я могу все рассказать и больше никому...
Ну и задал же нам друг Ширзаде всем загадку. По залу пролетел весенним шаловливым ветерком язвительный шепоток. Судья, посоветовавшись с заседателями, пригласил из зала десять пожилых женщин и указал им на дверь в соседнюю с судебным залом комнату. Туда же прошел и обвиняемый. Страсти в зале еще больше накалились. Что же в самом деле происходило? Что задумал бледнолицый «насильник»?
Несколько минут зал молчал, ждал. Молчали и там, за дверью... И вдруг – взрыв изумления.
– Ви-ий!..
– Вах-эй!..
Одна за другой из комнаты в зал вбегали женщины и, схватившись за головы, пробивались к выходу. Судья и заседатели в недоумении встречали и провожали их растерянными взглядами.
– Что такое?!
– Что такое придумал этот негодяй, захотевший обладать честной женщиной?
– А где же он сам?..
– Скажите толком, в чем дело? Вопросам не было конца.
– Это девушка! – внесла ясность одна из делегаток. – Переодетая девушка!.. Прелестная, с нежными телесами.
– Как так?!
– А вот так! Сама видела...
Теперь за голову схватился Сейд-Мир-Казим:
– Тьфу! И как же я поверил этой тегеранской потаскухе!.. Красавица... вертихвостка!
Зал клокочет кипящим котлом.
– Вот это фокусы!
Чей-то суровый голос покрыл все выкрики:
– Зачем дурачат нас?..
– Успокойтесь! – судья вытирает с мясистого лба обильный пот. – Сейчас она все объяснит... Девушка... значит, вы эту красавицу не трогали?..
От изумления мой Фархад разинул рот. Вот так штука, – столько дней и ночей бродили мы с Ширзаде по горам, охотились и не знали, с кем имеем дело.
– Я дочь известного в Радкане Теймур-бека. Зовут меня Гульпари, – голос бедняжки дрожит, и сама она трепещет как одинокое деревцо на буйном осеннем ветру. – Отец хотел выдать меня замуж за старика, который богаче отца. Я плакала... умоляла родителей, но ничего не вышло. И я переоделась в мужское, ушла подальше от родных мест...
Рассказала Гульпари и о том, что произошло между нею и Халидой-ханым. Оказывается, хозяйка давно уже поглядывала масляными глазками на паренька-слугу. Проходу ему не давала.
– А в прошлый понедельник, – продолжала Гюльпари, – Халида-ханым в одном нижнем белье пришла ко мне з комнату... Ласкалась... Набивалась... Получив отказ, она подняла крик на весь дом. Прибежал хозяин. И дальше люди все знают.
Дня через три после этого надолго запомнившегося жителям Калата судебного разбирательства Халида-ханым под улюлюканье и плевки жителей Калата отбыла в Тегеран. Покинул вскоре Калат и господин Манучехр. Говорили, что он поселился в Мешхеде.
Время, как вода в калатской речушке, течет быстро. Не успели оглянуться – подкатила осень. Поплыли, поблескивая под ярким, но уже не жарким солнцем паутины, пожелтели, налились медью листья в садах. Ночи стали прохладными.
Ранним утром возвращаемся мы с Фархадом на заставу. Всю ночь провели на границе: обходили посты. Устали, измучились от недосыпания. Уже с полчаса молчали. Первым заговорил Фархад:
– На кой черт мы здесь и от кого охраняем границу?
– Как от кого?
– Да. От большевиков что ли?
Я улыбаюсь наивности юного друга. А улыбка моя злит Фархада, и он горячится еще больше:
– Мы ждем нападения с севера. Нас уверяют богатеи, что большевики – дикари, большевики – звери. А если разобраться...
Мы часто видимся с краснозвездными пограничниками и знаем, что нападать на нас они не собираются. Нарушают границу не большевики, а бывшие баи, басмачи, контрабандисты и английские шпионы... Одни бегут через рубеж к нам, а другие как гадюки ползут из наших темных уголков.
– Нет, дорогой Фархад, – разъясняю я, – граница все-таки нужна. Не будет пограничников, еще больше полезет в Советскую Россию диверсантов... Те, которые боятся Советов, они и наши враги...
На заставе меня ожидал сюрприз: дежурный вручил мне сразу два письма. До этого я писем не получал, кажется целую вечность. А тут вдруг сразу два. И от кого... От Парвин и Арефа. Вскрыл и то, и другое. Взялся было за боджнурдское, но вижу – в мешхедском всего навсего несколько строк. Решил его прочесть в первую очередь.
«Здравствуй, Гусейнкули-хан! Письмо твое получили. Ты, как всегда – молодчина. Так держи и дальше. У нас новостей много. Хороших, правда меньше. Писать о них не буду. Приедут к тебе гости– они все расскажут.
Служи верно народу, своей родине. Ареф».
Письмо Парвин – в пять страниц. А почерк мелкий-мелкий.
Читаю письмо, и строчки плавают в слезах радости, которые я никак не могу сдержать. Да и как не радоваться, как не плакать, если пишет моя Парвин, моя радость, моя жизнь!.. Последние строчки письма заучиваю наизусть.
«...Я всегда с тобой, Гусо-джан. Только смерть разлучит нас. Жду тебя. Обнимаю и крепко целую тебя. Навеки твоя Парвин».
Гости, о которых писал Ареф, явились в Калат через несколько дней. Как-то вечером, возвратившись с границы, мы с Фархадом сидели в моей комнатушке и говорили о всякой всячине, как это делают уставшие люди перед тем как уснуть. Вошел дежурный по заставе:
– Господин ождан! У ворот вас ждут двое неизвестных. Один в штатском, другой – в жандармской форме. Впустить?
– Я встречу сам!..
У ворот (о, какой сюрприз!) меня ждали Курбан-Нияз и Субхан-Рамазан-заде. Тот самый Субхан, с которым я познакомился в мешхедском ресторане «Баги-Милли». Теперь его не узнать. Военная форма ему идет куда больше, чем доспехи официанта. Во всяком случае сейчас он выглядит бравым воином.
– Вах-эй! Если бы ко мне пожаловал сам пророк Мухаммед, я бы меньше удивился.– Мы крепко обнялись.– Идемте, идемте ко мне.
Я познакомил гостей с Фархадом, и мы просидели до поздней ночи, вспоминая общих знакомых и Мешхед.
– А как твои дела, Субхан-джан?
– Идут,– Субхан улыбается.– Служу верой и правдой шах-ин-шаху и родному Ирану.








