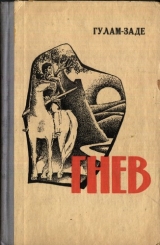
Текст книги "Гнев. История одной жизни. Книга вторая"
Автор книги: Гусейнкули Гулам-заде
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 19 страниц)
ДЕНЬ ПЕЧАЛИ
Стоял январь, но днем было совсем не холодно.
По небу плыли светлые облака, и тени от них скользили по холмам, покрытым бурой высохшей травой.
Деревья стояли голые, ветер посвистывал в ветвях, на убранных полях прыгали черные вороны, их истошный крик был слышен далеко.
Эскадрон двигался по дороге не спеша. Кони шли легко, позванивали удилами, трясли гривами, – застоялись в Боджнурде и как хотелось им пройтись рысью. Но нам незачем было спешить, да и путь предстоял долгий.
Подполковник Довуд-хан ехал впереди и был молчалив, угрюм, о чем-то думал, хмуря брови. Видимо, поездка в далекий неспокойный район, даже на должность правителя, не очень-то радовала его.
А мы с Пастуром ехали рядом и говорили обо всем, не таясь. Салар-Дженг рекомендовал его как своего друга, характер у Пастура оказался мягкий, и мы быстро сошлись с ним.
Он впервые подробно рассказал мне о Салар-Дженге. Полное имя его было Салар-Дженг-Олиак-Бовенд. Отец его – крупный помещик и член меджлиса – враждовал с шахом и был повешен. Салар-Дженг принадлежал к партии «Падашизм» – «Возмездие» и намеревался вести решительную борьбу с правительством.
– Он получил неплохое образование, много читал,– говорил Пастур, покачиваясь в седле. – Ищет пути к национальному освобождению народа. Мы вместе ищем.
– И нашли? – спросил я.
Он печально улыбнулся. Подумав, вдруг оживился. Лицо его приобрело одухотворенное, страстное выражение. Oн медленно и выразительно сказал:
– Четыре года назад один наш, иранский, коммунист, имя его Султан-заде, подготовил доклад о положении в стране. Его, как и нас; интересовал вопрос как быть в создавшейся обстановке. Знаете, что ответил Ленин? Он написал на его докладе что об этом надо подумать и поискать конкретных ответов. Как видите, друзья: у каждой страны свой путь к свободе и нам надо на месте искать эти конкретные ответы!
– Так, может быть, Ленин все продумает и подскажет нам? – нерешительно проговорил я.
Пастур долго молчал, и я не решался нарушить это молчание. Потом он посмотрел на меня опечаленным и суровым взглядом и тихо сказал:
– Ленин умер. Эта тяжелая весть недавно дошла до нас... Москва, все честные люди прощаются в эти дни с великим человеком.
Я был поражен известием. О Ленине я знал давно, слышал, что он много сил приложил для того, чтобы совершилась Октябрьская революция... знал, что он стоит во главе первого государства рабочих и крестьян. И хотя сведения о Советской России доходили до нас редко, скупо и были порой очень противоречивыми, мы все же знали, что там происходит что-то грандиозное, небывалое... Не раз мы с Аббасом поглядывали на север и думали о том, что хорошо бы посоветоваться с Лениным о нашем житье-бытье!..
А Ленин, оказывается, и о нас думал, искал конкретных ответов на важные для нас вопросы.
И вот Ленина нет в живых... Эта нежданная весть меня поразила как черная молния. Нет, не хотелось в это верить. Ленина не должна касаться смерть. Он защитник всех трудовых людей земли.
– Как же так? – в какой уже раз спрашивал я растерянно. – Ведь он был еще не так стар...
– Да, до глубокой старости он не дожил, – вздохнул Пастур. – Не дали ему дожить... Несколько лет назад в него стреляли враги народа, тяжело ранили. Потом он болел...
Словно тяжелый камень лег на сердце. И мысли спутались. Как же так, неужели могло такое случиться?.. К нам подъехал Аббас.
– Что с тобой, Гусо?– спросил он тревожно.– У тебя лицо какое-то...
– Умер Ленин, – едва выговорил я.
Аббас крепко вцепился мне в руку, заглянул в глаза, не веря моим словам.
Мы долго ехали молча. Наконец, Пастур сказал:
– Завтра Ленина будут хоронить. В этот день решено на пять минут остановить все работы. Трудящиеся будут прощаться с Лениным. Надо сказать об этом солдатам.
– Вы разве коммунист? – спросил Аббас.
– Нет, – спокойно ответил Пастур, – но это не имеет значения. Ленин для всех нас – Ленин!..
Мы переночевали в небольшом селе и утром снова двинулись в путь. По сухой дороге глухо стучали копыта коней, и пыль стелилась по степи, относимая слабым ветром.
Солнце поднималось все выше, становилось теплее. Но тепло не радовало меня. Пастур и Аббас тоже были хмуры и молчаливы.
Я все время старался представить себе Москву. Там, наверное, сейчас было холодно, лежал снег... А ведь снега я не видел уже который год и не мог представить себе заснеженного города. Да и Москвы я никогда не видел, она в моем воображении была похожа на Мешхед, с узкими улочками, минаретами, шумными пестрыми базарами... И еще я не знал, как русские прощаются с дорогими людьми... Мне представлялась большая комната, в которую входят, оставляя обувь у порога и не снимая шапок, а посредине на носилках лежит он, завернутый в белое... И женщины голосят на своей половине. Их плач всегда трогал меня.
Мы делали привалы, обедали, отдыхали и снова ехали по нескончаемой пыльной дороге, по горным тропинкам и каменистым ущельям. А солнце клонилось к западным горным хребтам. Пастур часто поглядывал на часы. И вдруг сказал мне:
– Остановите эскадрон и скомандуйте «смирно».
К нам подскакал Довуд-хан.
– В чем дело? Почему встали?
Я на минуту растерялся, а Пастур очень спокойно, негромко, но так, что его услышали в колонне, сказал:
– Сейчас в Москве хоронят Ленина!..
У Довуд-хана даже усики задергались, слюна полетела, когда он закричал, срываясь на визг:
– Какой Ленин? Вы коммунист, изменник!.. Пастур подъехал к нему вплотную и проговорил с угрозой:
– Я готов за все нести ответ, а сейчас прошу вас, господин подполковник, помолчать пять минут...
И, видимо, Довуд-хан понял, что сейчас ничего не сделаешь, солдаты не послушаются его, и он молча отъехал в сторону.
А эскадрон стоял в узком ущелье и всадники не шелохнулись в седлах, не промолвили ни слова все эти пять горестных, печально-торжественных минут. Только один Довуд-хан поехал по дороге, не оглядываясь, и все мы видели его удалявшуюся фигуру. И я вдруг подумал, что в этом есть свой смысл: мы все здесь за одно, а подполковник против нас и никогда не будет с нами – простыми людьми, сынами трудового народа.
Пастур достал свои вороненые часы, откинул крышку, посмотрел на циферблат. Потом медленно спрятал часы и сказал:
– Можно ехать дальше.
И снова глухо застучали по твердой земле копыта наших коней, позванивали уздечки, побрякивали котелки: все было как и прежде, только лица солдат долго еще были тихими и сосредоточенными.
– Подполковник может нас теперь под трибунал... – тихо сказал я Пастуру. – Он не терпит и боится малейшей крамолы.
Пастур казался совершенно спокойным. И ответил он не сразу, помедлив, словно взвешивая каждое слово:
– Мне ровным счетом наплевать на то, что думает обо мне и что может сделать мне эта бездарная и темная личность! Но я думаю, он просто побоится сообщать про сегодняшний случай. А если и решится, то я пойду под суд с чистой совестью, чувствуя не вину, а заслугу перед народом!.. А вы не боитесь?
Нет, в этот момент я чувствовал какой-то особый прилив сил, готовность пойти на любые жертвы во имя правого дела.
Довуд-хана мы нагнали уже возле самого Семельгана. Он ни с кем не заговорил, как будто и не заметил нас вовсе. Только когда въехали в поселок, он бросил Пастуру:
– Можете следовать к месту назначения. Я не задерживаю вас.
Пастур вскинул руку к козырьку и отъехал. Вскоре он прощался со мной и Аббасом.
– Мы еще увидимся,– сказал он нам.– Думаю, в этом будет необходимость... А вы будьте посмелее. Жизнь смелых любит!
СЛЕЗЫ НАРОДА
И снова потянулись томительно однообразные, похожие один на другой дни патрульной службы. На этот раз в Семельганской долине. Это благодатный край, словно созданный для счастья людей. И земля здесь плодородная, черноземная, и сады тучные, и вода с гор бежит прозрачная и студеная, и климат мягкий. Словом – живи на этой земле, трудись и радуйся! И когда мы впервые увидели местных жителей – стройных, сильных и гордых мужчин, прекрасных женщин, от которых глаз не отвести, – так и подумали: вот место на земле, где человек достоин называться человеком, где царствует труд, уважение друг к другу, мир и согласье. Но стоило нам поближе познакомиться с этими людьми, и мы поняли, как обманчиво первое впечатление: были они такими же несчастными, как и их братья в других краях страны.
– Когда был повешен Моаззез-хан, когда правительственные войска в пороховом дыму прошли по Курдистану, громя феодалов, мне думалось, что на смену феодализму придет более совершенный и справедливый строй, – задумчиво сказал мне Аббас. – А посмотри, что делается вокруг! Кровь и слезы, страдания и душевные муки. горе...
– И гнев, – подсказал я. – Ты заметил, как они смотрят на нас?
Аббас печально покачал головой. Потом вдруг судорожно стал расстегивать ворот.
– Стыдно, Гусо, стыдно носить эту форму! Позорно выполнять приказы тех, кто жестоко угнетает народ, кто...
Разговор этот шел в казарме, и нас могли услышать. Я крепко сжал руку друга.
– Перестань, Аббас. Ты же знаешь, что иначе нельзя. Нам надо сохранять силы, связи, выиграть время для борьбы...
Он вырвал руки и раздраженно сказал:
– Сохранять силы!.. Проходят месяцы, годы, а мы служим трону, как холуи тянемся перед такими ничтожествами, как Довуд-хан.
Я понимал его состояние, но чем мог утешить?
– Давай напишем письмо учителю Арефу, – сказал я, – расскажем, что здесь творится, посоветуемся.
– Согласен – сказал он, успокоившись, – давай напишем письмо.
Уединившись, мы начали писать Арефу.
– С чего же начнем?– спросил Аббас. – Может, с рассказа того старика?
– О земле, на которую не ступала нога завоевателя?
– Да, с этого и начнем.
Мудрый старик говорил о мечте народа, выраженной в легенде.
...Мы встретились с ним несколько дней назад. Было это у подножия горы, с которой низвергался грозный, клыкастый и могучий водопад. По краям водопада гора поросла кустарником, на котором в эту пору не было ни одного листочка. Вода пробила в скале глубокую впадину, растеклась, образуя озерко, а потом устремлялась в долину по неширокому руслу, усеянному гладкой галькой. У озерка видны были следы множества копыт – сюда крестьяне пригоняли скот на водопой. Удивительный старик тоже привел сюда небольшую отару овец. Они толкались, суетились у воды, потом стали пить, а он, как величавое изваяние, стоял в стороне, облокотясь на сучковатую палку. На вид ему было лет семьдесят. Высокий, сухощавый, с седой бородой, он был похож на древнего мудреца, каких изображают в книжках. На нас он словно бы не обратил внимания, терпеливо ждал, когда напьются овцы. Мы сами подошли, поздоровались по-курдски:
– Салам, баво джан!.. Здравствуй, отец!..
Он глянул на нас из-под седых нависших бровей, – и нам как-то неловко стало от колючего недоброго взгляда чабана.
– Салам, – сердито ответил старик. – Если вы курды, то как могли допустить, чтобы священную эту землю топтали враги вашего народа?
И столько горечи и презрения было в его голосе, что. мы опустили глаза.
– Не надо нас винить, баво джан! – ответил я. – Мы люди подневольные, нам приказывают – мы идем... делаем.
Глаза старика сверкнули.
– Вам приказывают грабить и без того бедных людей– и вы грабите! Посмотрите, что осталось в домах у крестьян – только голые стены. Лошадей, ковры, ценности – все вымели солдаты! Вот эта отара – все, что удалось спасти жителям селения. Так может быть, вы и последних овец угоните? Забирайте – подавитесь!..
– Мы понимаем ваш гнев, баво джан! – возразил Аббас, – но мы не собираемся грабить вас и отбирать овец. которые принадлежат здешним крестьянам. Мы тоже осуждаем действия правительственных войск, которые прошли тут перед нами. Конечно, участников мятежа следовало наказать, но брать последнее у трудовых людей – это недопустимо! Старик покачал головой.
– Вы осуждаете, а сами служите в тех же войсках...
– А что мы можем сделать? – развел я руками,– другого выбора пока нет...
– Да, жить можно по-разному, ребята, – снова покачал головой старый чабан. – Вы знаете, что ни один завоеватель не ступал на эту землю?.. Даже всесильный Искандер... Александр Македонский не смог войти в Семель-ган: каждый, кто мог держать оружие, встал на защиту родной земли, все дороги, все тропинки были перекрыты, много славных сынов Семельгана полегло тогда, но врага не пустили. А теперь с нами случилось то же самое, что и с нашим земляком Сохрабом, – он все земли прошел, ни от кого не знал поражений... а убил его родной отец...
– Баво джан, – обратился к нему Аббас, – мы читали «Шахнаме» и знаем о подвигах Сохраба. Но разве он родился здесь?
– Конечно, – с гордостью ответил старик, – это всем известно. Рустам на пути в Туран останавливался в нашей долине, влюбился в красавицу Шамана, женился на ней, и она родила Сохраба. Он вырос, поехал искать отца, и тот, не зная, что перед ним родной сын, убил его в схватке!..
– Так вы говорите, что эта печальная история снова повторяется? – спросил Аббас.
– Истину говорю – повторяется, – старик кивнул с достоинством. – Мы не пустили на свою землю чужестранцев, а губят нас свои же братья. Подумайте об этом.
Овцы напились и теперь щипали скудную, желтую траву на склонах горы. Старый чабан взмахнул палкой, крикнул, и отара потянулась по дороге в долину.
– До свидания, баво джан! – сказали мы, но гордый старик даже не оглянулся. Для всех нас это была очень памятная встреча.
...И вот теперь мы решили описать эту встречу в своем послании Арефу.
– Пиши ты, – сказал Аббас, – у тебя слог лучше.
Я взял перо и стал писать, а Аббас подошел к окну. И остановился, думая о чем-то.
– Ну, вот послушай,– сказал я, закончив свое послание.
Он слушал, не перебивая, потом сказал:
– Можно было и покороче. Но ничего, учитель поймет!.. Теперь надо про настроения солдат в эскадроне добавить... фактов побольше.
– Надо бы Пастура, – высказал я давнюю мысль,– -все-таки удивительный он человек. Как он тогда с Довуд-ханом столкнулся!
Но Аббас не согласился со мной.
– Если фамилию не называть, то все равно ничего не будет ясно, а называть опасно – мало ли что, – сказал он.
Я вздохнул и согласился, что называть фамилию в письме нельзя А про то, как прощались мы с Лениным, все-таки написал...
Утром, как обычно, мы выехали в патрульный объезд. Ночью прошел небольшой дождь, и земля была влажная, над горами клубился туман, небо было затянуто тучами. Ветер гнул черные ветви деревьев, забирался под одежду, и мы ехали согнувшись в седлах, сутулясь, пряча лица.
Черные поля тянулись по обе стороны дороги и были пустынны и печальны, словно заброшенные людьми.
Показались глинобитные домики селения. Летом, наверное, это прекрасное место: у каждого дома был разбит сад, и все село утопало в зелени. Но сейчас здесь было неуютно, пожалуй, оттого, что солнце не показывалось и дул студеный ветер. Людей не было видно, и только у крайней кибитки женщина набирала хворост, сложенный под навесом. Одной рукой она прижимала к себе уже большую охапку, а второй все подкладывала, видимо, готовясь топить печь. Нас не видала, занятая своим делом. Была она немолода, из-под платка выбивалась седая прядь.
Услышав топот копыт, она оглянулась, резко выпрямилась и изменилась в лице. Хворост посыпался ей под ноги. Секунду она смотрела на нас широко раскрытыми глазами – и вдруг дико закричала, бросилась бежать по грязной улице.
Аббас посмотрел на меня недоуменно. Я тоже ничего не понял. На крик женщины из домов выходили люди. Ее подхватили под руки и увели, успокаивая.
Улица снова опустела, но я чувствовал, что за нами наблюдают десятки глаз.
– Тут творится что-то неладное,– сказал Аббас,– надо выяснить, в чем дело.
Во дворе одного дома, за глиняным, размытым дувалом мы увидели старика, совсем дряхлого. Он смотрел на нас слезящимися глазами и беспрерывно тряс головой, может, от болезни, а может, приветствуя нас. Поздоровавшись с ним почтительно, как подобает со старшими, мы спросили, что это за женщина тут кричала и не случилось ли чего в селе?..
Продолжая кивать, старик заговорил хриплым, дребезжащим голосом:
– А вы не обижайтесь на нее, сыночки, не обижайтесь... Больная она. Не в себе. Вот и кричит неизвестно почему... А мы все народ смирный, все налоги исправно платим, власть всем сердцем уважаем!.. А женщина больная, не обращайте на нее внимания...
– Что же с ней?– спросил я.– Может быть, ее надо показать врачу, в Боджнурд отправить?
– Зачем ей врач, сынок? Она, когда солдат не видит, то совсем почти здоровая, по хозяйству все делает... без солдат ее болезнь не берет... Спасибо, сыночки, не надо ей врача.
– А почему она так солдат боится?
– Обидели ее. Тут до вас войска проходили... Только у тех... штаны синие... Вот штанов синих она теперь особенно боится. Эх, эти штаны!..
– Это были гвардейцы из Тегерана, – сказал мне Аббас.
– Из Тегерана, сынки, из Тегерана, – подхватил старик, еще сильнее тряся головой. – Они самые, в синих штанах!.. Налетели среди белого дня с криком, свистом, стрельбой... Стали девок и молодых бабенок хватать, кто под руку подвернется. А у нее, у этой, значит женщины, сын был единственный, мужа-то лет десять назад сердар Моаззез-хан зарубил. Сын за мать заступился, а они, значит, его погубили... С тех пор и находит на нее... Но вы не думайте, она женщина смирная.
– И много ваших погибло? – играя желваками, спросил Аббас.
– Много, ох как много, дети мои! – вздохнул старик. – Как из села поедете, так по левую руку кладбище увидите. Все свежие могилки, значит, после того проклятого дня появились.
Аббас стеганул коня и поскакал через село по опустевшей улице. Мы поехали следом. Все молчали. Я видел, что рассказ старика взволновал солдат до глубины души, заставил задуматься.
На окраине села, на пригорке, огороженное низеньким дувалом раскинулось кладбище. Много поколений сельчан нашли здесь последний приют. Мы подъехали к Аббасу, который понуро сидел, на исхудавшем коне, и тоже остановились. Я насчитал много свежих холмиков. Над ними развевались на ветру разноцветные лоскутки, привязанные к воткнутым в землю веткам.
Никто не сказал ни слова. Только когда село скрылось из глаз, Аббас промолвил сквозь зубы:
– Отольются извергам горькие слезы народа!
Вечером, когда мы вернулись в казарму, дневальный сообщил, что меня спрашивал какой-то человек... с седыми усами... Обещал опять зайти. Я долго ломал голову, кто это здесь мог знать меня? Так ничего и не придумал. А человек тот действительно пришел. Меня вызвали, и я вышел за ворота, накинув шинель. Под фонарем стоял Пастур и улыбался...
– Откуда вы? – удивился и обрадовался я. Посмеиваясь, он ответил:
– Я же говорил, что мы встретимся. Сейчас я из Мораве-Тепе. Еду в Боджнурд. Салар-Дженг попросил меня передать вам письмо.
Он достал из кармана небольшой пакет и протянул мне.
– Теперь я частенько буду проезжать через Семель-ган, – добавил он. – Когда буду возвращаться в Мораве-Тепе, разыщу вас. Сможете письмо Салар-Дженгу передать? Только вот так, на виду, встречаться нам нельзя. Я дам знать, где нам лучше встретиться. Ну, пока до свидания! В Боджнурд никаких поручений не будет?
– О, если можно, я напишу коротенькую записку, – обрадовался я.
Пастур засмеялся.
– Зачем же коротенькую! Я подожду.
Быстро вернувшись в казарму, я взял лист бумаги и написал: «Дорогая моя, любимая... Драгоценное сокровище... милая Парвин! Мне так тяжело в разлуке, так хочется увидеть тебя, обнять, прижать к груди. Единственное, что утешает меня, – это друзья, соратники, единомышленники. А их, оказывается, повсюду много. Один из них и передаст тебе это письмо. Нас много, а будет еще больше, и я верю, мы добьемся своего, добудем свободу своему народу. И тогда уже ничто не сможет нас разлучить, любимая моя! До свидания. Целую много и крепко!..»
Пастур терпеливо ждал меня за воротами.
– Это я вручу,– заверил он меня.– На словах что-нибудь передать?
Я смутился. Но, набравшись храбрости, сказал:
– Передайте ей, что я верен клятве и всегда буду ждать!..
– Передам, Гусейнкули-хан,– серьезно произнес Пастур.
Оставшись один, я стал читать письмо.
«Дорогой друг Гусейнкули-хан, – писал Салар-Дженг. – Это письмо вам передаст надежный и верный товарищ, настоящий патриот. Можете говорить с ним обо всем, не таясь. Он в курсе всех событий. Время от времени он будет навещать вас, и через него вы будете получать весточки от меня.
У нас в Мораве-Тепе жизнь идет, наверное, так же, как и у вас в Семельгане. Служим трону верой и правдой, хотя эта служба становится совершенно невыносимой. Да и вокруг творится такое, что стыдно в глаза смотреть. Народ мечтал о свержении феодализма и надеялся на добрые перемены, а попал, как говорится, из ярма в ярмо!.. Так называемые освободители грабят простой народ самым подлым образом, в иных домах даже кошмы не осталось. Слезы не высыхают на глазах женщин, а мужчины в гневе сжимают кулаки. Да только что они могут сделать против оружия?..
Живут здесь в основном туркмены, народ гордый и красивый. Они долго были независимы, а теперь изнывают под пятой шаха...
Думается мне, что долго так продолжаться не может, народный гнев найдет выход. А мы в эти тревожные дни должны разъяснять людям, что происходит на нашей многострадальной земле. Пусть и солдаты и крестьяне поймут, что без борьбу не добиться свободы и счастья!.. Нужно призывать народ к борьбе с угнетателями!
Передавайте привет Аббасу и всем друзьям.
Напишите, какое у вас настроение, что намереваетесь предпринять».
Что ж, пожалуй, Салар-Дженг прав, долго так продолжаться не может. Грянет взрыв, и надо быть готовыми к этому.








