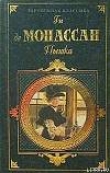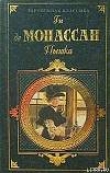Текст книги "Голоса за стеной"
Автор книги: Григорий Глазов
Жанры:
Детская проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 15 страниц)
– Мне совсем хорошо, дорогая, когда ты не замечаешь моего существования, – сухо сказал Вартан и ушел к обрыву.
– Или вот… Володя. Еще один пример. Тоже благополучная жизнь, аспирантура, писал диссертацию, жена – химик, казалось бы, есть с кем поговорить. О чем? О тряпках? А здесь каждый с удовольствием обсуждает любую его новую идею. Правда, Володенька? Не задеваю уже нашего дорогого Кошкина.
– И правильно делаешь, – отозвался тот.
– И что меня не задеваешь – тоже правильно делаешь, – вставил Кося-Юра.
– Или Кира… Какая же статистика, котеночек? – Она обращалась к Вовику, но Грише и всем остальным было понятно, кому это адресовано. – Все эти разговорчики – анахронизм. Вечная любовь, верность до гроба – это все для каменного века…
– Ты плохо знаешь историю, – холодно перебил Кошкин. – Прости, что прерываю. Именно в каменном веке индивидуальная верность и не требовалась, даже наоборот – была вредна. Верность, ревность… Там нужна была иная верность – коллективная.
– Ну пусть не каменного, пусть какого-то там другого… все равно устарело. Теперь каждый может прокормиться самостоятельно, одинокой женщине с ребенком помогает государство… И все. Значит, самая главная необходимость в семье – экономическая – отпала.
– Ты полагаешь, главное это? Интересная мысль. По крайней мере, интересная своей абсурдностью. А как же родительский инстинкт?
– Тысячи отцов бросают детей, и инстинкт им, как видишь, не мешает.
– Да, но всего отцов сотни миллионов.
– И матери бросают.
– Хочешь создать, стройную теорию на исключениях?
– А я тебе говорю, что семья в ее нынешнем виде устарела! Вот такая семья, как у нас, – это я понимаю! Общая работа, общие интересы… а общие финансы у нас даже где-то на третьем плане. Так ведь?
Кошкин не ответил, только усмехнулся, словно этой усмешкой обнаруживал все контрдоводы, несчетное их количество, трудно отыскиваемые и еще труднее формулируемые, но уничтожающие Людино построение от конька крыши до самого фундамента. Вместо Кошкина возразил Володя:
– Людочка, даже наша семья, хотя и без ущерба для целого; все же тяготеет к установлению индивидуальных связей. – Тут же он смешался. – Не истолкуй меня банально…
– Да, я понимаю, в вашем представлении я способна истолковывать такие вещи только банально…
И разговор остался неоконченным. Он ничего не прояснил, и даже сама Люда ничего от этого разговора не выгадала, она, желавшая выглядеть сильной, тоже оказалась только женщиной. Отвергала идеалы, но не могла допустить, чтобы ей поверили слишком всерьез и до конца. Потому что это не было правдой до конца. Потому что никто не хочет очень уж отличаться от людей, такое не доставляет особой радости. Потому что радости в подобном действительно нет.
Если бы Гриша был сторонним наблюдателем, он бы это отметил. Но все происходящее слишком касалось его, холодной логике не было места, он способен был, думать лишь о том, что остается всего только один завтрашний день, и как он сложится – неизвестно, и, быть может, сегодняшнее свидание было последним, и нового никогда больше не будет…
От этой мысли сделалось не по себе, потом стала сильно болеть голова, он подумал, что перегрелся.
Но он напрасно испугался за завтрашний день. О нем-то еще можно было не тревожиться…
Бабушка с внуком дошли до конца аллеи и вернулись обратно, она села на скамейку, малыш забрался с ногами и стоял, перевалившись через решетчатую спинку, глядя на поблекшую траву, усыпанную листьями, и сжимая в ручонке ниточку от шарика. Ветер рвал шарик у него из рук.
Родионов и Гриша сели на скамейку напротив. Владимир Иванович глядел на шарик, курил и пытался как-то направить мысли, но они перескакивали с предмета на предмет, и он все никак не мог понять, о чем ему еще говорить с Гришей. История оказалась самой банальной, каких сотни; такая же история может щелкнуть по лбу и собственного сына, да и вообще всякого идеалиста, которого по-доброму не предостерегли при подходе к тому возрасту, с которого начинается активная жизнь…
Вот какой случай…
И ведь не спросишь даже у него – неужто в двадцать три года эта красавица у него первая?
Да, в общем, незачем и спрашивать. Пусть не первая, тут дело не в количестве… Ну, допустим, и было что-то наспех…
Ветер гнал над головой клочья облаков, рвал из рук мальчугана воздушный шарик.
Гриша сидел, уставясь на этот же шарик, но видел совсем другое… Он видел Люду, которую никто не очернит в его глазах. И разве есть за что чернить? За то, что она такая, как есть? Разве человек виновен в том, что он таков, каков есть? Виновны преступники. А за любовь нельзя быть в ответе, потому что – любовь.
Они снова увиделись в своем укромном уголке, пришли туда не сговариваясь. Гриша явился позже и, увидев сидящую Люду, кинулся к ней, шептал сумасшедшие слова. Она молча гладила его волосы, поникшие, как перепутанные травинки, и на его мольбы качала головой. Сейчас их связывала нежность, и Грише казалось, что этого достаточно навсегда. Но Люда была опытнее и знала, что ей этого хватит ненадолго. Было больно, что чувство к нему не кончилось с отпущенным для него сроком, но оно кончится неизбежно. Ну еще неделя, ну месяц… в конце концов, даже год. Год тоже ничего не решает. А после расставания ссадины заживают легко. Она это знает наверняка. Да и у него заживет. Жаль его, но и себя жаль… А Кошкина разве не жаль? Всех жаль, что поделаешь, так устроена жизнь…
…Так устроена жизнь, – думал Владимир Иванович. – А мы ей еще и помогаем, и вот… Бывает, и зрелым людям выпадает такое испытание. Но зрелых к жизни привязывает не одна только любовь, у них много всяких нитей, и, если даже рвется одна, делу не конец.
А Гриша… что его привязывает? Работа нелюбимая? Рисование, которому он отдаться не может? Разве что любовь к родителям, он ведь человек долга, а сыновняя любовь вообще такая вещь, что… Кто его знает, может, и вытянет.
Пусть посидит, подумает, это в любом случае хорошо…
Черт возьми, материалы же надо готовить главному инженеру в Москву! Ну да бог с ним, обождет, там ничья жизнь от этого не зависит.
Гриша был так расстроен, что безропотно дал Люде увести себя из их укромного места. Когда они отошли шагов на двадцать, Люда обернулась, с полминуты глядела на таинственные переплетения зеленых веток, потом сказала:
– Если приедешь еще в Сочи, не води сюда никого. Хорошо? А впрочем… ерунда все это…
Она не захотела идти в лагерь, и весь этот последний вечер они тихо просидели у моря, у печального красного солнца; иногда Люда что-нибудь рассказывала с преувеличенным оживлением, а Гриша молчал и, стиснув челюсти, мелко вздрагивал; с моря дул ветерок и было прохладно, но он дрожал не от прохлады…
Утром, на заре, он уже был в лагере. Геологи, позавтракав, скатывали палатки. Не было шуток, не было привычного оживления: все деловито, кратко, слаженно. Они снова вступали в привычную полосу – не праздные курортники, а рабочий механизм, детали которого великолепно пригнаны друг к другу. Девушки убирали мусор с места стоянки. Вартан и Володя, уминая коленями, паковали один тюк, Кося другой. Над обрывом стоял газик районной геологической экспедиции. Кошкин, сидя на сложенных палатках, писал благодарственную записку ее начальнику. Вовик таскал в газик связки книг. Затем каждый бросил с обрыва в море по монетке. Вартан бросил две – за себя и за Кошкина. Потом они двинулись к морскому вокзалу – точно такие же, какими увидел их Гриша двадцать дней назад: бородатые Вартан и Кося, смешливый Вовик, деликатный Володя, непоколебимый Кошкин, так же экзотически выглядели их небрежные наряды. Но не для Гриши. Он видел теперь не романтическое целое, а каждого отдельно, и только отдельно, даже тех, кого не успел разгадать, как Марину или Коею, и, видя их отдельно, он плелся рядом с ними и не верил, что сейчас они уедут – и больше никогда он их не увидит… никогда больше не увидит Люду… и Кошкина… и Киру с ее тревожными глазами… и спокойного мудреца Вартана… и опять Люду… и сто тысяч раз Люду…
– Дай-ка закурить, старик, – сказал Кошкин. – Спасибо. А ты когда едешь? Значит, еще три дня? М-да… многовато…
Они дошли до морвокзала, автобус-экспресс в аэропорт уже ждал. Геологи стали прощаться с Гришей. Первым подошел Вартан, протянул руку – и вдруг обнял его и поцеловал. Так по очереди прощался Гриша со всеми, и все целовали его. Остались только Люда и Кошкин. Кошкин хмуро отступил в сторону и кивнул Люде. Она сняла с себя белую в голубой горошек косынку, повязала ее на шею Грише, погладила по щеке и крепко поцеловала в губы.
– Прощай, Алешенька.
И поднялась по ступенькам. Оцепеневший Гриша молча стоял у двери.
Подошел Кошкин и энергично тряхнул его за руку.
– Прощай, старик. Займись рисованием всерьез, даже если тебе придется туго. Хоть я в этом, честно говоря, ничего и не понимаю, но есть в тебе что-то… какой-то свой аромат. И еще… уезжай сегодня же. На самолет ты билет не достанешь, а на поезд запросто. Нечего тебе уже здесь делать.
Он вошел в автобус и сел рядом с Косей. Через открытые форточки Гриша услышал, как он сразу же сказал Люде что-то едкое. Люда молча поднялась и пересела к окну, возле которого стоял Гриша. Она глядела на него сквозь пыльное стекло без улыбки, склонив лицо, прямые белые волосы закрывали ее щеки, растопыренной ладошкой она упиралась в стекло.
Автобус тронулся. Люда не подняла руки, только поворачивала голову по мере того, как автобус медленно выруливал к повороту. Гриша попытался улыбнуться, но у него ничего не вышло. Люда нахмурилась и закусила губу. Автобус громче взревел мотором и прибавил ходу. Люда растаяла за мутным стеклом. Навсегда.
Гриша вздрогнул, Родионов повернулся к нему, несколько секунд они глядели друг другу в лицо – каждый из них, они это поняли, думал о недосказанной концовке. Гриша нисколько не был уверен, что Владимир Иванович додумал ее такой, какой она была в действительности, но это и неважно, он ведь и сам недопонял всего, что произошло, а важным вдруг он ощутил то, что Владимир Иванович был возле него, хоть и не понимая – был. И быть может, самым решающим доводом в продолжающемся заочном споре с Людой, доводом, опровергающим ее тезис о вечном одиночестве всякого живого существа, явилось это угрюмое упорство пожилого человека, который был возле него, был с железной надежностью.
Потом Гриша подумал, что даже для безмолвного присутствия нужно очень много души и что Владимир Иванович из сказанного и недосказанного понял, вероятно, гораздо больше, чем это может показаться.
А Родионов, с отвращением посасывая сигарету, размышлял о том, что ничего не умеет понять в человеческой душе. Вот она как будто распростерта – а что в ней видно? Почти ничего. А свои дети? Как-то доступнее надо с ними быть, проще…
– Ты вот что, – сурово начал Владимир Иванович и осекся: опять этот повелительный тон, авторитетность, всезнание…
Тяжелая рука стиснула Грише колено, он удивленно поднял глаза.
– Дитя ты, Капустин, дитя… Ну, ладно… С переживанием своим если хочешь остаться – оставайся, но знай: не по-мужски это. А если хочешь с ним расстаться – иди к людям, не таись. Ты хлопец умный, с тактом, не мне тебя учить, как в трех словах все объяснить. Тебя любят, значит, поймут. И лишнего не спросят.
Гриша молчал.
На состоявшемся в пятницу профсоюзном собрании отдела главного технолога многие недовольно высказывались в адрес Родионова: он усугубил тесноту, неизвестно для какой цели освободил от обитателей крохотную комнатенку группы товаров народного потребления, а всю эту группу в пять человек переселил в общую залу. В комнатенке маляры срочно делали ремонт, а электрики монтировали мощный рассеянный свет. Цель этих манипуляций для всех оставалась тайной.
Первым выступал Бревко. Он рубил воздух ладонью, а физиономия его, обычно вялая, выражала самое горячее негодование. За Бревко начали подниматься женщины. Тема тесноты и обиды стала превращаться в доминирующую, угрожая деловому ходу собрания, которое планировалось вовсе не ради этого, а ради обсуждения недостатков в работе и трудовой дисциплины. Поэтому Родионов без промедления попросил слова.
Ясно было видно, что он не готов к объяснению: вторично выйдя к ораторскому пятачку, Владимир Иванович с минуту стоял молча и потирал ладонью подбородок. Наконец сказал:
– В этой комнате будет располагаться группа сопроводительной технической документации, ей без отдельного помещения не обойтись…
– А мы, значит, обойдемся? – спросила Нина Матвеева, начиная подниматься со стула.
Матвеева человек опасный не только как член цехкома, ответственный за охрану труда, но и как женщина неистовая, собственной волей изгнавшая первого мужа, вовсе не алкоголика, а просто веселого, иногда выпивающего человека, и железной рукой державшая второго, который у нее даже пикнуть не смел. Поэтому когда Владимир Иванович увидел ее медленно распрямляющуюся фигуру и устремленные на него светлые немигающие глаза, он заторопился в наивной надежде обернуть дело шуткой.
– Вот какие вы… – сказал он, ненатурально усмехаясь и качая головой. – Премию за экспорт получать хотите, а поступиться немного ради сопроводительной документации…
– Хоть немного? – Матвеева уже стояла в полный рост. – Условия работы – это, по-вашему, немного?
Женщины одобрительно зароптали. Владимир Иванович, перед лицом стихии теряя последнюю надежду утихомирить ее, сказал, что редакторам и художникам в общей зале работать просто невозможно.
– Каким редакторам, каким художникам? – голос Матвеевой обретал силу. – Набираете всяких, создаете им условия, а своим и так сойдет?
– Да никого мы не набираем, – раздражаясь, сказал Родионов.
– Ну а кто же будет сидеть в этих апартаментах? – нападала Матвеева. – Мы два года просим о ремонте – и все бесполезно, а здесь в два дня навели такой лоск! Кто же там сидеть будет, что за счастливцы?
– Счастливец Капустин, – громко сказал Бондарь и дурашливо прикрыл ладонью макушку. Капустина на собрании не было.
– А ты молчи, умник, – огрызнулась Матвеева и с обиженным лицом повернулась к Родионову. – Так кто же все-таки?
– Ну Бондарь будет, Капустин, – повторил Родионов.
Наступила пауза.
Матвеева вдруг села и сказала плачущим голосом:
– Вечно вы, Владимир Иванович… Сказали бы сразу… – И, так как Родионов по-прежнему стоял, ожидая еще вопросов, добавила: – Председатель, ты что, уснул? До ночи нам здесь сидеть? Веди собрание!
Работа над каталогом началась, как только Гришу, Бондаря и самую опытную на заводе копировщицу Юлю вселили в их новую комнатенку. Бондарь длительно и со смаком устраивался на новом месте, восхищался видом из окна на поросшую лесом лощину за оградой завода (прежде, из залы, они видели только заводскую котельню с приземистой и толстой кирпичной трубой), потом стал увешивать стены изречениями и картинками из жизни кинозвезд и животных и долго мотался между кабинетом замдиректора, отделом снабжения и складом, добывая себе какое-то особое кресло, вращающееся и регулируемое по высоте.
Юля устроила в хорошем месте принесенный с собой цветок, нашла место электрочайнику и повесила зеркало.
А Гриша, едва внесли его стол и поставили к окну, смахнул с него пыль, сел на первый попавшийся стул и принялся за работу.
Но на этом исчерпалось все, что он сделал быстро.
С неторопливостью, которая, ввиду всеобщей спешки, особенно раздражала наблюдателей, Гриша зарисовал детали прибора в том положении, которое они занимают в работе. Затем он собрал эти детали в полурасчлененные узлы, сгруппировал мелкие детальки возле крупных, базовых.
Все это он выполнил в карандаше, а второй этап, кроме того, повторил в туши, тщательно исправляя малейшие ошибки по нетерпеливым замечаниям Елизара Ильича, который готов был все эти ошибки простить как несущественные, ради быстроты исполнения. Но тихий, послушный Гриша внезапно заупрямился и сказал, что халтурить не станет.
При этом присутствовал Родионов, и Елизар Ильич очень удивился и уставился на Владимира Ивановича, словно тот отвечал за дерзкое высказывание своего подчиненного.
Но Владимир Иванович никак на это не реагировал и сказал Грише, чтобы он не обращал внимания ни на советы, ни на понукания и работал так, как сам понимает.
Когда полурасчлененные узлы были нарисованы тушью, тени на них наведены и каждую деталь, казалось, можно потрогать, Гриша расположил листы с узлами в таком порядке, чтобы они образовали объемную схему собранного прибора, и пригласил заводского фотографа. Фотограф сделал снимок монтажа и напечатал его. На этом метровом отпечатке Гриша стал завершать работу.
Теперь его дни протекали в обществе доброжелательной и сдержанной Юли и доброжелательного, но несдержанного Бондаря, который с помощью русско-испанского словаря нахально переводил названия деталей и узлов на испанский язык, подолгу консультировался по телефону с каким-то другом-лингвистом и почти непрерывно чертыхался. Едва в комнатенку заглядывал Владимир Иванович, Бондарь произносил монологи, заставляющие Гришу краснеть.
– Вот он стоит перед вами, скромный герой труда, в своем зачуханном халате и надраенных черных ботинках, с кистями и красками в перепачканных руках… – к краскам Гриша даже не прикасался, для этой работы они были не нужны. – …многостаночник умственного труда, гроза халтурщиков из художественного и антихудожественного фондов, апостол внешнеторговых связей, сокращающих большие расстояния между народами и континентами…
– Михаил, прекрати, – оборвал Владимир Иванович.
– И непостижим этот человек, безвозмездно отдающий свой творческий труд, ибо радость его и плата – в высоком сознании выполненного долга и в умножении… – не унимался Бондарь.
– Прекрати, я тебе сказал.
– Сейчас… в умножении койкомест на северных и южных курортах страны, а также в детских садах и яслях. И когда наш скромный герой, проснувшись утром и поев каши, пойдет на работу, он будет радостно думать о том, что во всем, что охватывает глаз, есть частица и его вдохновенного… во, нашел нужное слово… его вдохновенного труда. Вот! А как по-испански «бугель»?
Чем дальше Бондарь уходил в работу, тем реже находил время для монологов. С бугелем, который, как подсказал по телефону друг-лингвист, был словом голландского происхождения, можно было не церемониться. Но дальше пошли техницизмы русские, и с ними пришлось туже. «Коромысло» обошлось Бондарю множеством скороговоркой набормотанных слов, неудобопроизносимых по-русски и непереводимых на другие языки. Но еще труднее дался перевод сравнительно простого слова «пята». Кроме бытового значения, иных указаний в словаре не было.
– Не могу, не могу! – стонал Бондарь и осторожно шлепал себя кулаком по лбу. – Не могу халтурить при самом Григории Капустине. «Пята» имеет одно значение – и все. Хоть бы дополнили самым элементарным – дескать, орудие угнетения мужей. О, я несчастный!..
Родионов заглядывал во вновь созданное бюро по два-три раза в день. Он был доволен: не столько даже неправдоподобно быстрым, несмотря на внешнюю Гришину медлительность, продвижением работы, сколько сосредоточенным спокойствием и деловитостью, царившими здесь. Юмор Бондаря был примитивен, но все же это был юмор, Владимир Иванович больше не обрывал Бондаря, даже когда тот нес чепуху. Веселая чепуха – и ладно.
После десяти дней работы без выходных дело стало близиться к концу. Бондарю осталось только скомпоновать текст, уже отредактированный с помощью знакомого лингвиста, а Грише кое-где растянуть композицию, наложить тени и еще раз пройтись по всему рисунку, чтобы выполнить все требования полиграфистов. Поэтому нисколько не странно прозвучало желание Гриши остаться работать ночью, тем более, что у Бондаря дел было еще часов на пятнадцать и он заявил, что ему надоело тянуть это удовольствие.
Копировщица Юля окончила работу и около семи вечера ушла, позаботившись о том, чтобы снабдить мужчин едой, питьем и куревом по меньшей мере на два дня. (И правильно сделала, к утру они все съели и почти все выпили).
Владимир Иванович, уходя домой, запротестовал было против этого аврала и попытался убедить авральщиков, что лучше нормально работать два дня. Но они заявили, что их стремление увидеть сей труд завершенным слишком велико, чтобы откладывать такое удовольствие на целые сутки. А Бондарь кроме того нетерпеливо подмигнул начальнику, словно намекая на некие воспитательные цели.
Родионов с несвойственной ему нерешительностью послонялся по комнатке, убедился, что от окна не дует, оставил зачем-то Бондарю и Грише свои спички и лишь после этого ушел.
Перед тем как уснуть вспомнил благодарный Гришин взгляд, когда топтался в комнатке, ища перед уходом, чем бы еще снабдить авральщиков, чтобы не терпели ни в чем нужды…
Утром он спешил на завод больше обычного, но при входе наскочил на главного инженера, который увлек его за собой в штамповочный цех, так что в отдел Владимир Иванович попал уже в десятом часу. Не заходя к себе, он открыл дверь бюро сопроводительной технической документации и замер: со стены повыше Гришиной головы, с женского портрета, с уже знакомого ему ангельского лица, обрамленного ровно спадающими белыми волосами, на него смотрели безмятежно голубые глаза.
Гриша поднял голову, скосил взгляд наверх и зябко повел плечом. А Бондарь, коротко стрельнув зрачками, пропел:
– Вот, закругляемся. Ну, не молодцы ли мы?
– Молодцы, – буркнул Владимир Иванович, осторожно выкашливая ставший в горле ком. – Еще какие. Дай вам бог здоровья. Как закончите – заходите ко мне оба, – только и сказал он, выходя, и в дверях столкнулся с Бревко.
– Ух ты! – со всей своей непосредственностью восхитился Бревко. – Это кто ж такая?
Закрывая за собой дверь, Владимир Иванович слышал ядовитый ответ Бондаря:
– Это, Бревко, женщина, в которую каждый из нас был влюблен хоть однажды в жизни. Но ты со своей замечательной тупостью даже собственной любви ухитрился не заметить. Иди, не мешай работать.
Владимир Иванович одобрительно выпятил губы, выпустил дверную ручку и энергичным шагом двинулся по коридору. Как никогда ему хотелось работать весело и споро.
Через год, в сентябре, возвращаясь из очередной встречи с однополчанами, Владимир Иванович Родионов умер: заснул в купе поезда, взволнованный, умиротворенный и радостный, что повидал друзей, и не проснулся.
Хоронили его в прозрачный сентябрьский день, было еще солнечно и тепло, летала паутина, желтизна осени едва коснулась деревьев и травы. Народу на кладбище было много.
Гриша Капустин стоял в стороне и не мог сосредоточиться на словах, которые произносили у отверстой могилы выступавшие от завода, от ветеранов войны. Это были обычные хорошие слова о хорошем человеке, но ничего нового в них для Капустина не было, ничего нового о Родионове они ему не сказали; Капустину казалось, что он знал о Родионове нечто иное – большое и важное, чего не знали эти люди. Потом слово предоставили фронтовому товарищу Родионова – писателю Евгению Аникееву. Он приблизился к свеженаваленной земле, на которой стоял гроб, и, глядя куда-то мимо, сказал:
– Вот… умер Володя Родионов… – как-то странно развел руками, пожал плечами, снял очки, за которыми оказались маленькие, очень близорукие глаза, и молча, не стесняясь, заплакал, размазывая слезы по щекам и, махнув рукой, отошел.
Капустин почувствовал, как перехватило горло, хотел глубже вздохнуть и не смог: что-то сдавило грудь. Осторожно выбравшись из толпы, он подался прочь. Потом никак не мог вспомнить, где бродил и что видел, домой заявился ночью, тихонько разделся и завалился спать…
А еще через год Гриша Капустин поступал в художественное училище. На собеседование, где должен был проходить конкурс рисунка, он пришел с большим черным футляром, в каком обычно носят чертежи.
Когда его пригласили к столу, где восседала комиссия, он так и подошел с этим черным футляром.
– С чем же вы к нам пожаловали, молодой человек? – спросил его плотный лысый мужчина в коричневом замшевом пиджаке.
Гриша открыл футляр и извлек оттуда два листа. Один, уже пожелтевший от времени, затолкал обратно, второй протянул экзаменатору. Тот развернул, далеко отстранил в вытянутых руках и, наклонив голову, долго разглядывал портрет Родионова. Потом сказал:
– В общем неплохо, молодой человек… Неплохо… Но слишком ординарная натура. Понимаете? Нет в ней… как бы вам сказать… Личность, видимо, ординарная, – и он протянул Грише лист. – Покажите еще что-нибудь. Я видел у вас там еще что-то.
Гриша молча обвел взглядом рыхлое лицо человека в замшевом пиджаке, какое-то время посидел на краешке стула, затем поднялся.
– Нет… Нет у меня больше ничего… – он стал заталкивать свернутый трубочкой портрет Родионова в футляр.
– Как нет? А вот это что? – экзаменатор показывал на пожелтевший лист, торчавший из футляра.
– Это так… ничего… До свидания, – качнув головой, Капустин вышел из класса, в котором на стенах висели карандашные рисунки античных атлетов, их гипсовые изваяния стояли на полках…
– Ну что, Гришенька? – спросила мама, ожидавшая его в сквере.
– Опять провалился я, мама, – смущенно улыбнулся Гриша.
– Ты им все показал? И тот портрет… этой, как ее…
– Все, мама, все…
– Ты не огорчайся, сынок.
– Ну что ты, мама!..
И они пошли через сквер по дорожке, посыпанной мелким хрустящим гравием.