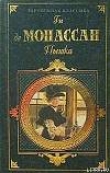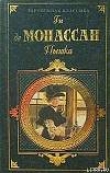Текст книги "Голоса за стеной"
Автор книги: Григорий Глазов
Жанры:
Детская проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 15 страниц)
Идеализм… Хорошо это или плохо? Он никогда не задумывался над этим. Почему-то вспомнил Гришу Капустина. Этот парень занимал его тем, что был не стереотипен, выделялся из общего ряда, судя по разговорам с ним, казался непримитивным, но… Идеализм… Тут надо додумать до конца, это важно не для одного Капустина, не одни лишь тонкие и художественные этим болеют; болеют и обыкновенные, не так, быть может, опасно, зато уродливо…
Родионов остановился, повернулся спиной к ветру, прикурил.
Вчера сын, заметив, что он сам с собой разговаривает, спросил:
– Пап, ты что там репетируешь? Монологи какие-то?
– Да это я так… – смутился он.
– Смотри, пап, свихнешься, – грубовато пошутил сын. На большее понимания не хватило…
В сквере, в киоске, продавали лимоны. Родионов стал в очередь. Двигалась она медленно. Сквер был окаймлен высокими, могучими липами. И Родионов вспомнил, что эти-то липы сажали, когда он был еще студентом-второкурсником, более тридцати лет назад, на воскреснике, где был вместе с Галей. Ходил тогда еще во флотской форме. Он любил Галю… А женился на другой… Да, это те самые липы… Господи, жизнь пролетела!.. Какими они стали!.. Пытался угадать, которые из лип сажал он, но не смог. Огорчился. И, плюнув на лимоны, ушел из очереди…
Покуривая, плелся через сквер по аллее, посыпанной мелким гравием…
Идеализм… Хорошая штука… Но как найти ему разумную меру? Живешь десять, двадцать, пятьдесят лет – и никогда не задаешь себе вопросов иной раз очень полезных. Надо, чтоб прямо в лоб стукнуло, тогда прозреваешь. Не слишком, правда, и прозреваешь, только для следующих вопросов. А их поздно задавать, на них отвечать пора, свои дети уже подросли и ждут ответов. Готов отвечать? Черта с два!.. Когда детки отклеиваются от папаш-мамаш и уходят в самостоятельность, они тогда такие караси-идеалисты, что не приведи господь! А чуть столкнутся с реальной жизнью – и сразу с ног долой. Прививки им, что ли, делать ослабленным вирусом реальной жизни, чтобы не так болезненно она воспринималась?
Капустин – он, конечно, такой, немного чересчур, немного не от мира сего. Но разве он один? Идеализм этот почти в каждом. В одном побольше, в другом поменьше. И не мудрено: от воспитания. А кого же воспитывать? Реалистов или как они там называются, которые пальцами так это быстренько делают, словно пробуют на ощупь, – этих, что ли? Эти сами по себе воспитываются. Но хоть их в мире большинство, все равно погоду не они делают. На хороший человеческий идеализм усилия затрачиваешь вагонами, а в результате в обыкновенном индивидууме соберется этого идеализма зернышко. Но какое зернышко! Когда голод, война, безумие, когда все идет под откос, что тогда удерживает людей в людском обличий, как не это зернышко? Что им помогает побеждать всякие там инстинкты и проявлять тот самый массовый героизм, про который уже вроде и говорить неловко? И без которого, вполне может быть, от рода человеческого давно бы уже остались одни рожки да ножки…
А если человек от рождения идеалист… природа людей все-таки тоже кое-чем наделяет… и воспитание этот врожденный идеализм еще усилит – тогда получается такой вот Гриша, парень, конечно, золотой, однако не для себя, для людей. Нежизнеспособен. Все понимает буквально – без поправок на реальность, на физиологию, на темные стороны души. И все потому, что идеализма у него не зернышко, а вся душа из него склеена.
С такими – что делать? Списывать и мириться? Так сказать, случайные жертвы, издержки обстоятельств. Никто ж не виноват, что у них такая тонкая организация, из-за частных случаев брака всю технологию производства массового продукта под сомнение не ставят…
Гриша подошел к своему дому и, задрав голову, посмотрел на окна четвертого этажа. В лицо ему, поблескивая в случайных огнях проходящих машин, сеялся мелкий дождик.
Гриша надеялся, что свет уже погашен, и тогда он тихонько прошмыгнет к постели и заберется под одеяло. И не надо будет прятать лицо и слушать напряженное дыхание мамы и папы, готовое прорваться невыносимыми вопросами, на которые они так и не осмеливаются.
Но два окна на четвертом этаже бдительно светились неярким розоватым светом.
Он вошел в парадное и вяло стал подниматься по лестнице. Вот его этаж, квартира семь, обшарпанная дверь, в которую стучали и кулаками, и прикладами… а потом молотками, приколачивая на зло врагам бессмертные таблички: «Фраерман и Тартаковским звонить 1 раз. Шахматовым 2 раза. Капустиным звонить 3 раза. Звонить ТОЛЬКО Бродяковым!» Старая, видавшая виды коммунальная квартира… в которой коридоры, выгороженные из комнат, лишены окон и погружены в беспросветный мрак, потому что у четырех хозяев четыре счетчика, а «ТОЛЬКО Бродяковым» не желает вступать ни в какие переговоры… в которой ванна давным-давно не функционирует, потому что в плохие годы ее нечем было отапливать и греть воду, а к хорошим она успела расколоться и прийти в негодность, и все никак не доходят руки ее починить… в которой все проходы заставлены хламом, вызывающим негодование соседей, но у хозяев числящимся ценным резервом, хотя он, разумеется, никогда больше не будет использован. У входа в ванную и туалет надпись: «Гасите свет».
Когда случалось что-нибудь поразительное, вежливое отчуждение жильцов сменялось искренним сочувствием. Теперь объектом, объединившим интересы квартиры, оказался Гриша.
При его появлении все разговоры, естественно, гасли, но выразительные вздохи и жалостливые взгляды… Поэтому Гриша ни под каким предлогом не выходил из восемнадцатиметровой комнаты, которую занимало семейство Капустиных.
Остановившись и прислушавшись у избитых и исцарапанных коммунальных врат, Гриша открыл замок своим ключом и торопливо скользнул по коридору – первый поворот, первая дверь направо. И не в безопасность, нет – в самую напряженную и вплотную подступившую опасность попадал он ежедневно, переступив этот порог. Потому что среди всех на земле здесь находились двое, которым было прямое дело до его переживаний. Эти двое имели неограниченное право и грубо, и неделикатно, и как угодно выпытывать у него, что же произошло. Они этого не делали – он знал, что и не станут, – быть может, поэтому чувствовал себя обязанным как-то объяснить происшедшее, хотя считал, что это невозможно, и потому каждый миг его пребывания дома был невыносимым.
А объяснить казалось немыслимым не только потому, что у Гриши вообще плохо со словесными объяснениями, но и потому, что, рассказанная самыми впечатляющими словами, его драма на них впечатления не произведет. Для них ужас не в том, что приключилось с сыном, а в том, как ужасно он реагирует на это приключение.
Они сидели у телевизора, рядышком, плечо к плечу, и смотрели бурную программу какого-то танцевального ансамбля.
Мама сразу вскочила и ушла на кухню – греть ужин, папа повернулся на стуле и стал глядеть с вопросительной, заискивающей улыбкой. С некоторых пор Гриша старался не встречаться глазами с отцом. А теперь он оплошал, сделал лишнее движение головой. – и глаза их встретились и задержались, они шагнули друг к другу, обнялись и замерли. Гриша чувствовал на своей груди судорожное, взволнованное дыхание, но только крепче прижимался лицом к теплой отцовской шее.
– Гриша, сыночек…
– Не надо…
Гриша отшатнулся и помотал головой. Медленно открылась дверь, и вошла мама с двумя тарелками в руках.
Он устало ковырял в тарелке. Есть не хотелось, приходилось пересиливать себя, чтобы хоть этой малостью угодить маме.
Телевизор уже был выключен. С улицы доносилось гудение набирающих скорость трамваев.
Гриша плотнее вжался ухом в подушку и думал о том, что это немое объяснение с отцом было неизбежно. Конечно, было бы лучше его озвучить, но они оба этого не умеют. Да и кто умеет? Даже такие златоусты, как Леня Кошкин, Вартан, Володя, и те… Гриша уверился в этом, наблюдая их так близко почти месяц. Каждый под своей маской скрывает какое-то неблагополучие. И если он не обнаружил этого неблагополучия в Косе-Юре, то, без сомнения, только потому, что Юра был упакован в свою маску герметичнее остальных.
Человек может это увидеть, если он не глух к чужому неблагополучию, если оно не совсем для него чужое. Увидеть может, а пересказать нет. Непосильно пересказать, слов таких нет. Одними и теми же словами приходится называть очень разные вещи, кто в них разберется…
Но самые-самые близкие… неужели и с ними ты обречен на немоту, и жалкое ваше полузнание за целую жизнь не даст уверенности в том, что вы прочитали друг друга хотя бы более или менее правильно? Тогда что же остается от человека, когда он перестает быть? Память? Память о том, что было совсем не так, как было?
Это объяснение без слов… что в нем такого? Ничего ведь не произошло. Разве впервые Гриша уткнулся лицом в теплую папину шею?
Нет, произошло. При той, прежней жизни это было нормой. А теперь в этом сказалось много больше, чем привычная ласка. Сказалось острое, мучительное сожаление о навсегда потерянном времени, потраченном на одну только заповеданную предками сдержанную родительскую любовь, непоколебимой верности и надежности которой, считают, достаточно для успешного воспитания. А ее оказалось вовсе недостаточно. Нужна была дружеская, не боящаяся осуждения и даже готовая к нему открытость души, передача самого сокровенного, житейского опыта, которому безграничная любовь и доверчивость сына придали бы исключительную убедительность и силу примера во всем: и в одобрении проявленного мужества, и в осуждении допущенной слабости.
В этот миг, встретившись глазами, они не только подумали об этом, но и передали друг другу: Гриша отцу – беспомощный упрек в этом несостоявшемся общении, отец Грише – раскаяние и мольбу о прощении.
Что общение между ним и отцом не состоялось, Гриша понял, увидев человека, вырезавшего силуэты. Нет, не сразу. Сразу он просто ничего не мог понять, не мог даже объяснить, почему так сдавили душу беспомощные весело-тоскливые глаза за толстыми стеклами очков, и лунатиком ходил за геологами, все воскрешая облик вырезателя силуэтов. И только к ночи, когда вернулся к себе в пансионат, когда его сопалатники – шахтер из Краснодона и доцент из Казанского авиационного института – усадили за стол и угостили водкой и от водки он немного расслабился и обмяк, тогда его внезапно осенило.
Он понял, что на лице вырезателя силуэтов увидел глаза отца!
От этого удивительного прозрения он на минуту как бы ослеп. Перед ним, заслонив реальность, замелькали, сменяя друг друга, этот человек и отец – при внешнем различии проступило столь же очевидное сходство скрытых за лицами людей. В неустроенности вырезателя силуэтов скрытые черты отца как бы усилились многократно и потому стали видны. Но это были те же черты, те же отцовские черты!
Так вот каков папа! Судьба его сложилась иначе, удачнее, но что из того? Он таков. И скрывает это. Почему? Чего он стыдится?
…Доцент из Казани долго отнекивался от водки, шахтер Веня его уговаривал. Наконец доцент согласился и стал пить водку маленькими глоточками, прихлебывая, так что Веня, проглотив первую чашку с гадливыми ужимками и содроганием, вытаращился на него с изумлением.
– Ого! Ну, ты фокусник, ей-богу! Чего ж было ломаться? В жизни еще не видел, чтобы так пили. Ты ее прямо как чай.
И пошел разговор о том, как пьют какие народы, что пьют, сколько, что способны совершить, подвыпив, как благородно влияет выпивка на сопротивляемость организма радиоактивному облучению, потом пошли анекдоты…
– Ахха-ха! – гремел Веня. – Значит, где эта тунгуска, которой лапу надо пожать? А медведицу, значит, того?.. Ахха-ххх-а!
Вдруг выпучил глаза и на цыпочках двинулся к двери, замер, прижал палец к губам, прислушался – и снова загрохотал, а доцент посмеивался тихонько, как и подобает рассказчику, мелко трясясь и поглаживая обеими руками чашку с водкой, словно это и впрямь был чай.
Гриша слышал и не слышал.
Вырезатель силуэтов, геологи, возмущенный жест Киры, адресованный Люде… Оказывается, краем сознания он захватил и жест, а теперь, когда время пришло собрать все воедино, жест выплыл наружу, этот негодующий наскок на Люду, ибо, по разумению Киры, если человек ни с того ни с сего приходит в угнетенное состояние, то причина одна – Люда.
Гриша выпил свою порцию и отрезвел, как никогда в жизни.
…Это было воистину роковое совпадение. И сколько он ни убеждал себя, что этот поцелуй ничего не значит, что это всего лишь утешение, попытка загладить свою невольную вину, ранящий эффект своего очарования, и глупо рассчитывать на что-то большее, он все равно чувствовал ее теплые губы, дурел от этого воспоминания и ненавидел резонера, который сидит где-то в глубинах мозга и выдает свои тошнотворные прописи.
Почему она не может его полюбить? Кто это определил? Разве все понятно в человеке, все определено заранее?
Четвертый обитатель комнаты, пожилой симпатичный москвич Валентин Алексеевич, сказал Грише:
– Какие бесцветные у нас с вами сожители! Человек отличается внутренним горением, а это тление, растление… вообще черт знает что.
Гриша согласился. Как всегда молча. Теперь он так же молча протестовал. Ничто новое не было замечено им в личностях доцента и шахтера, просто он больше не верил во внешнюю безмятежность.
Быть может, доцент влюблен в свою науку, а она не платила ему взаимностью. Быть может, он не сумел воспитать своего сына или дочь и теперь с отчаянием и покорностью следит за их неверными шагами, или, наоборот, у него прекрасные дети, и с ними он становится самим собой и говорит крупно, интересно, смело, или еще наоборот, нет у него ни детей, ни семьи, а единственное существо у него в доме – попугай или какая-нибудь собачка, заботу о которых он, уезжая на курорт, поручил соседям и с нетерпением ждет вестей о своих зверях, о единственных своих домашних собеседниках…
А у шахтера была, возможно, какая-то незаживающая любовь, а теперь у него жена, прибравшая его к рукам так крепко, что он лишился всякого желания чего-то добиваться…
Почему вдруг обострилась Гришина проницательность? Потому что глаза отца, которые глянули на него сквозь толстые стекла очков вырезателя силуэтов, разбили иллюзию: совсем не тот человек, представление о котором сложилось еще в беспамятном детстве и мирно существовало до этой случайной встречи…
Совсем не тот? Хуже?
Да нет, просто – не тот.
Папа, вовсе не желая и, разумеется, нисколько не подозревая этого, в Гришиных глазах был совершенством. За всю жизнь он не обнаружил ни единой человеческой слабости.
Впрочем, мама тоже.
Конечно, им повезло, что они встретились. Но ведь многие, которым тоже повезло встретиться, не сумели оценить это везение и сохранить способность тихо и надежно любить друг друга целую жизнь.
Грише на примере родителей открылись самые красивые и привлекательные стороны семейной жизни. Благодаря маме и папе он не видел изнанки сосуществования. Да что там, он не видел даже обыкновенной семейной ссоры. Все, что должно быть скрыто от детей, от него осталось скрыто так, словно бы и не существовало вовсе.
Видеть родителей столь безупречными – какое счастье!
Но это счастье отгородило Гришу от опыта жизни и приучило глядеть на все с вершины морального превосходства папы и мамы. Но они знали жизнь, а он мерил все идеальными мерками. И в результате проникся подсознательной гадливостью ко всем проявлениям животного начала в человеке, в том числе – и особенно! – в себе самом. А вместе с сожалением о невозможности походить на своих воспитателей просыпаются комплексы несовершенства, вины… И – скрытность.
И вдруг в какой-то миг, бог знает от какого толчка, от выражения глаз совсем чужого человека начинаешь понимать, что родители – тоже люди и способны понять и простить куда больше, чем кажется. И быть может, следовало всегда немедленно приходить к ним со всяким недоумением и бедой, не скрывая даже того, что ты более подвержен страстям, более раним, менее уравновешен, чем они…
О чем догадался Гриша, встретившись с вырезателем силуэтов? Что ошибся в отце. Это был первый вывод, давшийся ему нелегко.
За папиным благодушием Гриша обнаружил смирение человека, жизнь которого сложилась не совсем так, как было запланировано.
С опозданием стали всплывать в памяти эпизоды из прошлого – такие тихие, не привлекавшие внимания, казалось, решительно ничего в себе не таившие и обреченные лежать под спудом памяти до конца жизни…
Это произошло очень давно. Грише было тогда лет шесть, и он едва начал понимать последовательность событий. Однажды, когда в пасмурную субботу мама собирала его на подготовительные занятия в ближайшую к дому школу, вернулся из командировки папа. Он ездил редко, всякий раз это было большим событием. Если маршрут лежал через Москву, мама заказывала всякие покупки, которые папе большей частью осуществить не удавалось. Но если уж он что-то привозил, мама бывала довольна, потому что папа покупал обдуманно, всегда нужное и недорогое. В этот раз папа привез маме украшение из уральских камней – из пестрых яшм, туманных агатов и халцедона. Это была необычайная для папы покупка. Да и настроение, с которым он вернулся из командировки, было из ряда вон: папа был возбужден.
Планы, осуществление которых было под вопросом, при Грише не обсуждались никогда, и чаще всего он о них и не узнавал. Но на этот раз, видимо, план считался крайне реальным, и Гриша узнал, что в командировке папа встретил друга детства, директора крупного завода в Перми, и этот друг стал настойчиво уговаривать его со всей семьей перебраться в Пермь и занять должность главного бухгалтера на его заводе. Квартирный обмен не представлял затруднений, все остальное решалось автоматически. Хороший город. Прекрасные люди. Университет, если иметь в виду Гришино будущее…
Сперва мама согласилась, и некоторое время они жили новыми заботами. Затем вдруг мама воспротивилась. Папа убеждал, но не настаивал. План был ликвидирован, и папа от радостной взволнованности вернулся к своему обычному состоянию приветливого спокойствия.
Все.
Все ли? Значит, приоткрывалось в его жизни оконце, которое было желанно? И может быть, приоткрывалось не однажды. Но ему не позволили. Неважно кто. Пусть даже мама. Не позволили – и вот оно, это симпатичное спокойствие, которому, ничего не зная, можешь даже позавидовать…
Порицать? Упаси бог! Грише дороги даже недостатки родителей. Просто жаль, что он не был допущен к их заботам. Теперь, в трудное для себя время, он не допустил их к своим…
Гриша ворочался в постели. Он знал: сон придет лишь под утро, а над воображением Гриша не властен, скорее наоборот, он покорно следует за ним…
…Тогда, после встречи с вырезателем силуэтов, он слишком был погружен в свое неожиданное открытие, чтобы заметить, что вокруг него что-то изменилось. Очень может быть, что и поцелую Люды он придал бы куда большее значение, не будь мысли его до такой степени заняты сходством между отцом и вырезателем силуэтов. Как бы там ни было, но симпатичный мальчик, которому Люда подала такой драгоценный знак внимания, вел себя так, словно ничего не произошло. Можно было бы сказать, что в Люде задето ее женское честолюбие, если бы она не была вовсе лишена этого честолюбия: для нее и так все было до конца ясно, ее уверенность в себе была непоколебимой. Но этот светлоглазый застенчивый мальчик своим необыкновенным поведением попросту ее озадачил.
Будь у него больше самоуверенности, он бы ощутил, что благорасположение к нему Люды стало вполне явственным. Но он и не помыслил, что это можно принять всерьез. А вот неприязнь между Людой и Кошкиным он заметил. Это не касалось его, здесь требовалась всего лишь объективность, а объективным он умел быть – и потому заметил и, естественно, пожалел Леню от всей души.
Наверное, поэтому ему захотелось написать Кошкина. Случай был удобный: Леня получил карты каких-то разрезов и объявил, что на пляж не пойдет, останется немного поработать. Он сидел по-турецки в тени палатки, а перед ним на чудовищного размера книгах были разостланы упомянутые разрезы и лист ватмана, за которым Вовика специально гоняли в геологическое управление Сочинского района. Кошкин, наклонив голову, держал в правом углу рта сигарету, от дыма, попадавшего в глаз, перекосил лицо, чертил и тенором мурлыкал разные, в основном незнакомые песни.
Итак, он сидел по-турецки, чертил, курил, мурлыкал песни и в то же время излагал Грише свою философско-моральную доктрину.
– Видишь ли, старик, мы иногда очень переоцениваем все, чем живем, все это нам кажется необыкновенно важным… и заметь, не только в личном плане, но и в общечеловеческом, даже в космическом. Мы создаем себе необходимую, как воздух, иллюзию своей нужности и значительности для всего мироздания – и здесь в дело идет все. Все – в глобальном смысле, настоящее все. Если ты делаешь что-то и хоть немного признан, ты преувеличиваешь и дело, и признание и с замиранием сердца представляешь, какой потерей будет твоя смерть для коллектива, для страны, для человечества – в зависимости от масштабов. Если ты делаешь что-то и не признан, ты утешаешь себя примерами великих…
Искренность монолога пробудила к Кошкину новое чувство.
Трудно сказать, почему он задал Кошкину этот вопрос, непонятно каким образом всплывший, и почему так был уверен в значении его не для себя одного:
– Почему же о самом важном мы узнаем так поздно? – затаив дыхание, он выслушал и запомнил горьковато-насмешливую формулу Лени:
– Наши родители как будто стыдятся перед нами того способа, каким произвели нас на свет. Они малодушничают, а потом удивляются, почему мы такие, а не другие…
Где-то через час, когда работа над портретом уже близилась к концу, Кошкин, кряхтя, поднялся взглянуть на него. С минуту он стоял за Гришиной спиной, а потом сказал:
– Старик, а ты уверен, что это я? – Гриша растерялся: в несходстве его никогда не обвиняли. – Нет-нет, ты продолжай, я понимаю, тебе виднее…
Еще через час вернулись геологи, и Люда, взглянув на портрет, воскликнула:
– Алешенька, ты просто его идеализируешь!
Грише и самому казалось, что портрет несколько отличен от оригинала. Не в чертах, черты были очень характерны, чтобы их можно было не схватить или исказить при передаче. Портрет был отличен в наполнении.
Гриша был слишком художник, чтобы равнодушно пройти мимо такого вывода. Портрет свидетельствовал либо о дефекте в технике, либо о прозрении скрытых черт характера. А скрытые черты стали теперь Гришиным пунктиком, и поэтому, отключившись от окружающего, он принялся наблюдать.
Кошкин отражал очередную атаку Люды и ее пылкой иронии противопоставил, как обычно, ядовитое спокойствие. Слов Гриша не разбирал да и вряд ли вообще осознавал суть спора. Все внимание его было заострено на лице Кошкина, его своеобразной мимике, почти неуловимой иронии. Впервые взглянув на это продолговатое мясистое лицо, вряд ли можно было предположить в нем способность к такой тончайшей мимической игре.
Короткие лохматые брови высоко поднимались, глаза светлели, блеск их становился высокомерен, лицо натягивалось, спадала мясистость щек, и даже ястребиный нос, казалось, выпрямлялся.
Трудно представить спор, в котором бы Кошкин не вышел победителем. Так случилось и в этот раз. Люда в бешенстве отвернулась от него, швырнула о землю горсть разноцветной гальки. Проходя мимо Гриши, она погладила его по волосам и сказала:
– Алешенька, я взяла нам с тобой два билета на последний сеанс.
И Грише стало не до наблюдений. Он покраснел, а Кошкин посмотрел на него. И, не пряча глаз, озабоченно сказал:
– Послушай, старик, не думаешь ли ты, что я прибыл сюда специально, чтобы следить за твоей нравственностью? Если думаешь, то жестоко ошибаешься. Решай за себя сам…
Но Грише уже нечего решать. Это за него сделала Люда, чья твердая натура способна была привести отношения к радикальным переменам в самые короткие сроки.
И привела. В первый же вечер, после кино, Люда научила Гришу правильно целоваться. Он оказался способным учеником. Придавленная и угнетенная нелепыми наставлениями, нездоровая передержанная чувственность взорвалась…
…Резкие потрясения сказываются на живых организмах значительно пагубнее, нежели ровные лишения. Дорваться до роскоши из нищеты – и снова впасть в нищету… потрясение налицо. Остается лишь предугадать возможный исход…
Под утро Гриша все же уснул.
Длинный звонок подбросил Родионова на постели. Пока в темноте нашарил и схватил трубку, в мозгу пульсировала почему-то единственная мысль: «Пожар!»
В трубке зазвучал голос главного инженера:
– Владимир Иваныч, я тебя, конечно, разбудил, извини. Я из аэропорта, здесь уже светает… – Постепенно до Владимира Ивановича стало доходить, что «здесь» – это в Москве, где главный находится в командировке вот уже несколько дней. Родионов ощутил противный вкус во рту, сильно колотилось сердце. Он нащупал папиросы и закурил. – Слушай, Владимир Иванович, я тебя обрадую. Вся наша годовая программа ширпотреба закуплена на экспорт. Да еще знал бы ты куда!
– Ну?
– В Колумбию, Бразилию, Боливию.
– Радуешься… А на внутреннем рынке чем торговать будем?
– А ты давай расширяй быстренько выпуск, тогда хватит и для внутреннего.
– Так ты меня разбудил, чтобы я до утра расширил выпуск?
Главный засмеялся:
– Не до утра, но вообще поворачивайся. Ты вот что… Я приеду к двенадцати, заеду домой, то да се, а ты часа на три – в смысле, в пятнадцать часов – собери у меня совещание и наметь несколько вариантов решения вот какого вопроса…
Вопрос, по существу пустячный, был из труднорешаемых. Препятствием для экспорта было отсутствие каталога запчастей на новый, только что своими силами спроектированный и освоенный прибор. Внешторгиздат брался выпустить такой каталог в течение полутора лет после предоставления заводом всех необходимых материалов. А поставка прибора на экспорт начиналась через полтора месяца.
– Вот и мозгуй, – заключил главный инженер. – Приеду – обсудим возможности…
Может показаться странным, что главный инженер заботы о сопроводительной технической документации взвалил на плечи Владимира Ивановича, а не главного конструктора. Но эта странность внешняя, формальная. Всякий заводчанин знает, что обязанности распределяются вовсе не по должностным инструкциям, а согласно житейскому правилу: «Кто везет, того и погоняют». Родионов везет. А главный конструктор милейший человек и одаренный инженер, начисто лишен административного дара. В жизни никогда не быть бы ему главным, если б можно было на иной должности достойно оплачивать конструкторские решения, рожденные его светлой головой. Прибор тоже его детище. Но в практической деятельности он беспомощен.
Уже в девять тридцать, сразу после селекторной оперативки, Родионов собрал немноголюдное совещание. Присутствовали главный конструктор с двумя своими заместителями, Владимир Иванович с единственным своим, находчивый штукарь Миша Бондарь и Гриша в качестве секретаря. Предложили было собрать всех начальников бюро, но Владимир Иванович это предложение отклонил; он сторонник малочисленных комиссий, потому что при многолюдье неизменно выходит, что кого-то или неправильно поняли, или превратно истолковали, или даже вообще кто-то ничего подобного не говорил, а сказал то-то и то-то. Чтобы не было всех этих «казала-мазала», Владимир Иванович имел обыкновение на подобных заседаниях протоколировать каждое слово. Для этого и приглашался Капустин, который, в противовес многим недостаткам, обладал тем достоинством, что знал скоропись.
Заседание шло, Гриша писал автоматически, не вникая в смысл, и припоминал выражение, промелькнувшее сегодня утром на суровом лице Владимира Ивановича…
Утро неожиданно выдалось стеклянно-ясным.
Гриша спустился по лестнице и у троллейбусной остановки увидел высокую фигуру Родионова. Он раскрыл было рот, чтобы поздороваться, но Владимир Иванович его опередил:
– Этюды свои… или как они там у тебя называются… летние, в общем, свои наброски захватил? Так я и знал. Ну-ка сбегай, не поленись, я подожду здесь.
Гриша вернулся с небольшим газетным свертком и протянул Владимиру Ивановичу.
– Сам мне покажешь, растолкуешь, что к чему.
Гриша кивнул. Сегодня настроение у него было не совсем такое, как в последние дни: солнце. Сверкали окна трамваев, нити рельсов, пешеходы на остановках вежливо пропускали друг друга в вагоны, заботливо подсаживали женщин; улыбались дети, пробегая в свои школы. От вокзала доносилось тяжкое пыхтение, поднимались в воздух легчайшие золотые клубы пара и, пронизанные солнцем, мягко таяли. Над черными с позолотой тэцовскими градирнями, похожими на гигантские и пузатые крепостные башни, плавали, клубясь, окутывая солнце, серебряные и золотые облака. Светились дома, зрачки, ресницы, желтые деревья по сторонам тротуаров и каждая клеточка человеческого естества.
Под виадуком, откуда из-за глубокой тени краски солнечного утра казались еще радостней и ослепительней, Гриша, отвернув край газеты, вытащил из пачки акварелей верхнюю и с туманной какой-то улыбкой показал. На суровом лице Владимира Ивановича мелькнули растерянность и какое-то детское удивление.
«Ага, то-то! – торжествующе, но без злорадства подумал Гриша. – Это на вас такое впечатление… А мне каково?»
И тут он впервые спросил себя: а не приукрасил ли он Люду в своем портрете, не наделил ли ее чертами, каких в ней вовсе и не было? Ведь прошло уже больше двух месяцев, разлука стала даже и не фактом, а образом жизни, надежды на новую встречу нет, в таких обстоятельствах судишь о происшедшем безжалостно. В изображение на портрете не мудрено влюбиться даже Владимиру Ивановичу. А если бы он увидел Люду живую? Так же отнесся бы к ней, как к этому портрету?
Гришу озадачило, что он задал себе такой вопрос. Трезво судить о Люде ему не приходилось. Быть может, это начало избавления?
Пока Родионов, пораженный, молча разглядывал одну за другой акварели и наброски углем и маслом, Гриша сосредоточенно, стараясь ничего не пропустить, перебирал те качества Люды, которые можно было истолковать как отрицательные.
Но в результате все, что он собрал, оказалось двойственно. Даже те черты, которые плохо характеризовали Люду по отношению к нему, делали ее идеальным членом ее большой семьи, ради верности которой она пожертвовала Гришей: нетребовательность и легкомыслие обеспечивали ей свободу общения, а размытое чувство собственности со всеми вытекающими отсюда смещениями традиционных понятий позволяли без осложнений и драм ревности сохранить личную свободу и ей, и всем, кто, несомненно, был ей небезразличен…