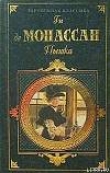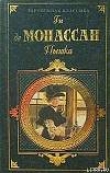Текст книги "Голоса за стеной"
Автор книги: Григорий Глазов
Жанры:
Детская проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 15 страниц)
Нет, развенчания не получилось. Во всяком случае, на свойственного ей в портрете не было. И нереальных преувеличений тоже. Не так все просто…
Гриша прикрыл глаза. Но уже в следующий миг он продолжал стенографировать и, прерываемый Владимиром Ивановичем, успевал еще подумать, как четко весь его отпуск укладывается в два неравноценных периода: «до похода в кино» и «после»…
– Капустин, а ты как думаешь?
Гриша торопливо пробежал последние фразы, записанные механически.
Г л а в н ы й к о н с т р у к т о р Е л и з а р И л ь и ч. Я не понимаю, почему все-таки нельзя представить альбом запчастей в виде чертежей?
В л а д и м и р И в а н о в и ч. Потому что нигде в мире это не принято. Потребителю надо дать рисунок, и по рисунку он узнает вышедшую из строя деталь.
Е л и з а р И л ь и ч. Но есть же гарантийные мастерские, там работают специалисты…
М и ш а Б о н д а р ь. Вы бывали в Колумбии, Елизар Ильич?
Е л и з а р И л ь и ч. Что за странный вопрос?
М и ш а Б о н д а р ь. Вы уверены, что там гарантийки работают, как у нас?
Е л и з а р И л ь и ч. Миша, если вы можете предложить решение, ради бога, с меня бутылка самого лучшего коньяка.
М и ш а Б о н д а р ь. Елизар Ильич, у меня для измерения коньяка существует только одна единица – ящик. Не пытайтесь найти примитивное решение. Каталог необходим, и его придется рисовать. Ищите художников.
Е л и з а р И л ь и ч. Но это будет такая же канитель, как и с Внешторгиздатом! Художникам плевать на наши сроки. У них свои сроки и свои требования.
М и ш а Б о н д а р ь. А вы удовлетворите их требования – и все будет о’кей.
Вот на этом месте и был приглашен высказаться Гриша.
– Не знаю, – робко сказал он.
– Чего не знаешь? – нахмурился Владимир Иванович. – Не знаешь, как рисовать каталог? Так я знаю, что ты этого не знаешь. Примерно сколько уйдет на это времени, если пригласить художника и как следует уплатить?
– А сколько там деталей?
– Со всеми винтиками и гаечками больше сотни.
Гриша подумал, несмело улыбнулся и сказал:
– Не знаю. В туши, наверное, дней десять.
Елизар Ильич жизнерадостно хмыкнул, а Бондарь оскалил белозубый рот:
– Ты, герой труда! – И обернулся к Родионову. – Ну кого вы спрашиваете, это же дитя.
Владимир Иванович пристально поглядел на Гришу, и дискуссия возобновилась, а Гриша снова уткнулся в протокол.
В четвертом часу все в том же составе собрались на совещание у главного инженера.
Может быть – и даже наверно, – Владимир Иванович у себя в кабинете не желал накалять обстановку. В конце концов, что ему? Его дело – выяснить детали. Он и выяснил. Решать надлежало главному инженеру, а он о прохладе не заботился, и температура совещания помаленьку дошла до такого накала, что простодушный Елизар Ильич завопил:
– Да почему этим обязан заниматься конструкторский отдел?
Бондарь со свойственной ему оперативностью уже успел побывать в художественном фонде. Там его принял технический директор и, когда Бондарь изложил ему просьбу завода, скорчил мину, объяснив, что художественный фонд, конечно, не откажет в помощи производству и исключительно ради тружеников отечественной промышленности сделает все быстро и недорого, если завод в свою очередь окажет худфонду помощь металлом. На вопрос, что значит недорого и что значит быстро, технический директор ответил: два месяца и две тысячи рублей.
Стоимость завод вполне устраивала: по перечислению хоть двадцать тысяч, лишь бы не двести рублей наличными. Но два месяца!..
Снова все возвращалось к возможностям самого завода.
И вот среди этого раздраженного обсуждения Родионов вдруг поймал на себе светлый Гришин взгляд. Владимир Иванович вопросительно поднял брови, а Гриша слегка повел зрачками в сторону главного инженера и снова уставился на Владимира Ивановича. Родионов пожал плечами.
– Я могу нарисовать каталог, – робко сказал Гриша и еще раз посмотрел на Владимира Ивановича. Стало тихо, даже Елизар Ильич замолк на полуслове. – Я видел, как это делают…
Все та же Люда уговорила геологов ехать на Рицу. Это было странно, потому что она всегда иронически оценивала обжитую природу экскурсионно-туристических маршрутов, где путников не ждут хищные звери и неожиданные катастрофы. Когда Гриша набрасывал какой-нибудь пейзажик в районе Приморья, Люда поощряла его такими примерно словами:
– Давай-давай, Алешенька, старайся. В городских джунглях и это приятно будет вспомнить. Все-таки природа.
В шторм она смягчалась. Выброшенные на берег водоросли распространяли острый запах морской солоноватой прели, трещала уволакиваемая волнами галька, удары волн о стенку набережной были громоподобны. К тому же лил дождь, над морем клубились тучи… Люда осталась довольна зрелищем. А Гриша белой и черной акварелью на сером картоне сделал тогда один из лучших своих этюдов.
Поездку на Рицу Люда затеяла для осмеяния «культурной» природы. Ей нелегко было бы собрать геологов под такое своеобразное знамя, поэтому до времени она замаскировалась. Косю-Юру она соблазнила возможностью на зависть ресторанным служакам Рицы состряпать прямо у них под носом какое-нибудь экзотическое блюдо и угощаться им шумно и весело; совращая клиентуру покинуть осточертевшие столики с несвежими простынями вместо скатертей. Вартана она одолела обещаниями по возвращению серьезно учить его плавать. Володе, Вовику, Кире и Марине она посулила с три короба всяких красот, а Кошкину не оставалось ничего иного, как следовать за всеми, хотя это отнюдь не присущая ему слабость. О Грише, разумеется, можно не упоминать: он был в восторге.
Подспудные намерения Люды проявились далеко в горах.
Автобус сделал остановку на чайной плантации, экскурсовод предложил поглядеть, как растет чай. Люда мгновенно воспользовалась обычностью зрелища.
– А вы думали – чай вьется в небо по хрустальным нитям, а над ним витают бабочки? – с насмешливым сочувствием сказала она. – А на деле кустики – и все. Культурные кустики.
Аналогичная сценка произошла у Голубого озера. Люда обозвала его «известковой ямой».
Продырявленная туннелем скала, перекрывавшая шоссе, стала «мистификацией». О громадных валунах, нависших над дорогой (такие же валуны не раз попадались на обочине шоссе, и поэтому экскурсанты поглядывали наверх не без опаски), она заявила, что они укреплены на железобетонных хвостиках.
И все же Люда переоценила себя. Издевательства над природой не получилось, получился только веселый треп.
Потом автобус въехал в сумрак, внезапный посреди безоблачного дня, и остановился. Экскурсовод объяснил, что остановка сделана в Юпшарском ущелье, если кто желает поглядеть…
Слоистая, непрочная порода складывала стены ущелья, и кое-где на их крутизне, непонятным образом, как будто из одного лишь яростного упрямства, держались в неудобных позах скрюченные деревья. Когда-то, видно, гора пыталась стряхнуть с себя лес, но он крепко вцепился в камни и только в одном месте чуть сполз к подножию, открыв стенку сброса, рассеченную, как морщинкой, вертикальной трещиной.
Дно ущелья было покрыто камнями – от мелкой щебенки до многотонных глыб. Культурного в этом ландшафте не было ничего. Одно только шоссе.
– Каньон, – сказал Вартан.
– Не-э! Тектонический разлом, – ответил Кошкин.
– Не надо спорить, дорогой. Вот аллювий.
– Ты так думаешь? Ну-ка, возьми глаза в руки.
Вартан заупрямился. Кошкин колол его ироническими репликами, потом раздраженно и напористо прочитал, короткую лекцию.
Вартан почесал в голове и поднял вверх руки.
Володя и Марина прислушались к спору, а Кира, Вовик и Кося-Юра молча озирали ущелье, таинственный поворот шоссе с желтым треугольничком дорожного указателя и темно-голубое небо над головой, какое бывает в окне самолета на очень большой высоте.
А Люда глядела на дальнюю гору.
Гора и впрямь была хороша: слегка размытая солнцем, со светящимся зеленым нимбом горного леса, с трещиной-морщиной, рассекающей ее сверху до скрепленного деревьями оползня, обрамленная ущельем, как рамкой. И хороша была дорога, плавно уходящая вправо и вниз и дальше уже не видная, и хороши были деревья, что росли на дне ущелья и у подножия его каменных стен.
Взгляд Люды скользнул по стенам и остановился на Кошкине. Рядом с ним все еще стояли Вартан, Володя и Марина, и он уже спокойно досказывал им что-то из гипотетической теории возникновения этого ущелья. Люда подошла, потянула Кошкина за рукав и показала на крохотную неприступную площадку над маленькой осыпью на высоте двенадцати метров.
Гриша не сразу понял, о чем они говорят, почему засмеялись Вартан и Володя и почему на лицо Кошкина снова наползла эта неприятная ироническая мина.
Люда за руку потащила Леню к осыпи, геологи тоже потянулись туда. Гриша поспешно закрыл свой мольберт, в котором торопливо набрасывал пастелью открытый просвет ущелья с дорожным знаком, валунами, деревьями и таинственно исчезающим шоссе, и подошел поближе.
Кошкин вскинул голову и мельком поглядел на площадку.
– Дорогая, достоин ли я выполнить столь почетную миссию? Тебя не смущает, что я только недавно падал?
– Пустяки, я тебя буду ловить.
– Нет на свете ничего слаще, чем падать в твои подставленные ладошки. Пусть даже и покойником.
– Но?
– Но брюки… Я готов рисковать жизнью, но не штанами.
– Что ты еще выдумала, сумасбродка? – спросила подошедшая Кира.
– А что такое? Неужели женщина не вправе потребовать от рыцаря, чтобы он вознес ее имя хоть на десяток метров над почвой? Уж Володя по одному знаку твоих длинных ресниц полез бы до самого верха… Правда, Володенька? Киркино имя так украсило бы эту дичь!
Кира как-то беспомощно пожала плечами, а лицо Володи стало непривычно холодным, он качнулся, словно собирался шагнуть, но устоял на месте.
– Ах, мужчины двадцатого века, – морща нос, говорила Люда. – Больше вы уже не совершаете безрассудных поступков. Вы рационалисты. К черту любовь, есть физиологическое влечение, это проще, да и времени на это надо меньше, без всяких там условностей. Сейчас мужчину никакой обидой на дуэль не вытянешь… Алешенька, натянешь им нос? А ну покажи им, мой рыцарь, что не все еще кончено на свете!
– Людка, ты спятила, – сдавленно сказала Марина. – Гриша, вернись немедленно!
Гриша уже взобрался на осыпь и медленно карабкался вверх по казавшейся совершенно гладкой стене.
В ущелье сгустилась тишина. Из-под ноги Гриши оборвался камень, нога скользнула – и всеобщий захлебнувшийся вдох нарушил молчание. Но Гриша удержался и продолжал нащупывать новую опору. Снова пристроил ногу – и снова прошуршал оборвавшийся выступ. Стена не поддавалась, на ней не было видно ни единой морщины, невообразим казался теперь и спуск – высота набралась уже порядочная.
Экскурсовод нервно закурил. Володя тронул за плечо Вартана, и они пошли к стене, чтобы попытаться подхватить Гришу, когда он оборвется. Вовик бросился следом, а за ним еще несколько мужчин. Люда глядела с неподвижно-светлым лицом. Кошкин курил, и в глазах его была сложная смесь иронии, презрения и жалости.
Гриша замер на стене, как наколотый, только нога его по-прежнему ощупывала камень.
– Отталкивайся и прыгай назад! – крикнул Володя.
Гриша не ответил и еще через минуту, нащупав что-то уже не ногой, а рукой, двинулся по стене – уже не вверх, а вбок. Метров через пять он снова пополз вверх, осыпь здесь заострялась и с трудом выдерживала даже одного человека. Все же Володя, балансируя, забрался туда, а остальные расположились ниже, хотя Грише от этого теперь не могло быть никакой пользы.
Он упорно продолжал взбираться и, наконец, встал на микроскопический карниз, по нему можно было добраться до площадки, на которую показывала Кошкину Люда.
Утвердившись на площадке лицом к стене, он раскинул руки и стал шарить ладонями, стараясь оторвать где-нибудь кусок камня, чтобы использовать его в качестве резца. Что-то ему подвернулось, и, стоя в очень неудобной позе, он начал царапать. Снизу, затаив дыхание, глядели, как появляются на стене четкие, красивые буквы:
«22 июля…»
– …единственный рыцарь двадцатого века Григорий Капустин сверзился с этой стены, – закончил Кошкин. – И эпоха рыцарства окончательно закрылась на переучет своих героев и мучеников.
– Леня, как тебе не стыдно, – сказала Марина. Люда оставалась безмятежна.
«…Люда Иванова».
– Твоя мечта сбылась! – сказал Кошкин.
Люда не шевельнулась.
Строго посередине под именем Гриша быстро и не отрывая руки нарисовал ее профиль. Затем еще раз прошелся по всем цифрам и буквам и раза три-четыре по профилю, пока не уверился, что все сделано не на день, выпустил из рук свой резец и двинулся в обратный путь.
Но обратного пути не было.
Кое-как Гриша добрался до карниза, оттуда, сделав какие-то головокружительные движения, спустился еще метра на три, но дальше у него уже ничего не получалось.
– В таком же положении оказался некогда достойный отец Федор. Только он вопил: «Снимите меня!» – снова вставил Кошкин.
Люда снова промолчала. Она была бледна.
– Ты не можешь найти другое время для своих острот? – с яростью накинулась на Кошкина Марина.
– Кричать надо было раньше, – холодно ответил он. – Пропусти меня.
Галдели все наперебой. Кошкин заставил всех замолчать. У него было счастливое качество: его слушались.
– Слушай, старик! – крикнул он Грише. Кира закрыла глаза ладонями, а Люда, спотыкаясь, задрав голову, пошла к нему. – Передвинься немного вправо. Можешь? Попробуй. Хорошо, старик, молодец… Ну, еще немного! Не идет? Ну ничего. Слушай внимательно. Под тобой осыпь, до нее метров семь. Стена почти отвесная, но все же надо оттолкнуться. Обожди, не спеши. Оттолкнуться надо ногами, очень сильно, а руками слегка. Учти. Понял. Ну как, сможешь?
– Смогу, – прерывисто сказал Гриша.
– И сразу собери тело, готовь ноги к приземлению…
Он не успел окончить.
Гриша как-то судорожно шевельнулся и оторвался от стены. Женщины закричали. Гриша глухо шлепнулся на осыпь, возле него мгновенно оказался Володя и почти тотчас же Люда и Кошкин. Смертельно бледный и неловко улыбающийся Гриша поднялся и увидел перед собой мир, а в этом мире нечто такое, чего никогда в жизни еще не знал: он почувствовал себя каким-то другим, большим, очень важным и нужным в этой жизни человеком. Он засмеялся и, в упоении собственной дерзостью, не отвел взгляда от испуганных глаз Люды: в этот миг он был готов к борьбе на самом высшем уровне – на уровне зубов и ногтей.
Это был миг, один только миг во всей его жизни, потому что вскоре он понял: в наше время уже ничего невозможно удержать с помощью ногтей и зубов…
Потом была суета, экскурсовод и шофер ругались, один интеллигентно, второй как бог на душу положил, Гришу отряхивали, промывали его руки с содранными, обломанными ногтями, заливали йодом из походной аптечки. Было очень больно, но он улыбался.
Нагоняя график, автобус понесся, а на серпантине горной дороги это испытание оказалось по плечу не каждому вестибулярному аппарату, и очень скоро нервное напряжение экскурсантов, возбужденных недавней встряской в Юпшарском ущелье, улеглось, затем сменилось вялостью и, наконец, сонной апатией. Кое-кто стал проявлять зловещие признаки, монотонный голос экскурсовода только способствовал укачиванию. Люда отобрала у него микрофон и своим хрипловатым голосом стала запевать популярные песни. Подпевали ей недружно.
Потом аудитория совсем обмякла, но Люда упорно старалась ее расшевелить, рассказывала анекдоты и исполняла песни зарубежных стран на английском и итальянском языках с русским речитативным переводом, словно содержание могло кого-то заинтересовать.
Но настал момент, когда и она перестала петь и просто сидела в кресле экскурсовода, повернувшись к салону, с микрофоном в опущенной руке и молча глядела на Гришу. И он так же молча глядел на нее. После недавнего потрясения окружающее воспринималось им немного сомнамбулически, и, придвинутое каким-то оптическим обманом к самим глазам, блистало перед ним ее лицо, покрытое ровным загаром, голубоглазое, с кукольным носиком и ртом и с белыми, до плеч, волосами. И с того дня это лицо перед ним постоянно, во сне и наяву, и все, что происходит в реальном бытии и в воспоминаниях, – все проходит на фоне этого лица с очень земными, запанибратскими и зовущими к откровению глазами…
Кося-Юра действительно сделал попытку подложить «фугас» под ресторан «Рица». Прибыв на место, он после беглого осмотра пейзажных красот принялся за изготовление кулебяки. Вартан, с сомнением почесывая бороду, помогал ему. Остальные ушли кататься по озеру на моторках.
Вернувшись с катания, геологи увидели, что Кося каким-то непостижимым образом сумел разделать тесто, привезенное в полиэтиленовом мешке, и теперь, сетуя на отсутствие вязиги – классической начинки, – начинял кулебяку черт знает чем. В дело пошел какой-то консервированный плов, мелко накрошенные яйца и колбаса, недоеденные в пути котлеты и другие пищевые смеси. Кулебяку положили на плоский камень, покрытый листом писчей бумаги, которую предварительно смазали жиром. Потом вокруг кулебяки из таких же плоских камней соорудили закрытый очаг, завалили его хворостом, подожгли и, приплясывая от нетерпения, стали ждать.
Ожидалось, что мероприятие возбудит аппетит, но и то благо, а пообедать можно и в ресторане, ничего страшного, приходилось питаться и хуже.
Когда камни отвалили, хлынула волна ароматов и раздался единодушный восторженный вопль: кулебяка удалась.
Вино развязало языки. Но по мере того, как количество его уменьшалось, общий беспорядочный и оживленный разговор все чаще прерывался паузами, наступавшими после реплик Кошкина. Они делались все язвительнее, это был едва ли не единственный признак того, что Кошкин пьян. Да еще глаза его стали меньше, но они всегда становились меньше, когда Леня язвил…
Он язвил в адрес Люды, но обращался не к ней.
– Ничего, старик, ты не смущайся. Родовые общины могли существовать только на основе промискуитета, отсутствие ревности давало им возможность не распадаться и сообща кокошить мамонтов.
Гриша не знал, что такое промискуитет, но по наступившему неловкому молчанию понял, что это что-то нехорошее.
– Рубай, Кошкин, – с набитым ртом посоветовал Кося-Юра. Он единственный из всех никогда не подвергался нападениям Лени, от его спокойствия отскакивало все. – Рубай. Продукт на исходе.
– Уговорил. Налей-ка еще… Да… Не помню, какие дикари, не помню, на каких островах получают право на женщину только после того, как бросятся вниз головой со стометровой вышки. Правда, их подстраховывают: привязывают лианами за ноги. А ты, старик, даже не подстраховался, твое право, таким образом, безгранично.
Непривычно притихшая Люда на колкости не отзывалась.
– Алешенька, подай мне хлеба, – сказала она.
– Подай, Алешенька, подай, – поддержал Кошкин. – Хлеб твой насущный… Надолго ли его хватит…
Когда уставшие от впечатлений экскурсанты забрались в автобус, предвкушая обратный путь в вечерней прохладе, Люда объявила геологам, что останется с Гришей наблюдать закат и вернется позже, с каким-нибудь последним автобусом.
Отрезвевший Кошкин, криво ухмыляясь, негромко посоветовал:
– Стреножь художника, а то он заберется в такие заоблачные выси, что никакая пожарная команда не достанет.
Люда швырнула об землю свой рюкзачок и сказала звенящим голосом:
– Слушай, Кошкин!.. Сказать все, что я о тебе думаю?
– Все не надо, скажи половину… Подъем, ребята!..
Люда с Гришей не уехали с озера после заката. Они уехали только после восхода.
На следующий день на набережной Гриша нос к носу столкнулся с парнем с их завода, наладчиком, знакомство их было шапочным, просто знали друг друга в лицо, не раз встречались у проходной.
– Привет, земляк, – сказал наладчик, поглядывая на израненные Гришины руки. – Тут про тебя уже легенды ходят. Говорят, из-за какой-то лялечки в пропасть сигал? Неудачная любовь?
Гриша застенчиво улыбнулся, ничего не ответил и, постояв какое-то время с земляком, двинулся по своим делам. Пальцы с содранными ногтями болели нестерпимо, болела и стопа, видимо, подвернул. Но он мужественно терпел, понимая, что боль не отменишь никакой, даже самой сильной волей, ее надо вытерпеть, пока сама не уймется…
До начала работы экспертной комиссии оставалась неделя, а Родионов так и не решил, как отозваться на просьбу Мельникова: был тот редкий случай, когда имелось две правды, и обе были понятны и близки ему, но он не знал, какую из них отстаивать, чтобы получилось по закону, как он считал, высшей справедливости.
Была суббота. Они сидели вдвоем с Мельниковым в кафе, пили остывший уже кофе, не спеша прикасались к рюмкам с коньяком, в которые были налиты символические дозы. Искали компромиссное решение. Писать министру бесполезно: он – лицо заинтересованное в увеличении добычи руды, мыслит категориями глобальными, меньше всего захочет вникать в то, что будут ущемлены какие-то интересы какого-то микрорайона в каком-то городе. Такую мысль внушил им мэр, когда втроем они обсуждали эту проблему.
– А что, если мы напишем мотивированную докладную на имя первого секретаря обкома? – спросил Мельников.
– Вопрос ведомственный, захочет ли он влезать в это дело?
– Не скажи. Человек он местный, нужды города знает. И как член ЦК – сила довольно внушительная. Нужно только лаконично и убедительно, с впечатляющей цифирью.
– И ни в коем случае не компрометировать саму установку, ее эффективность, – сказал Родионов.
– Разве я тебя об этом просил? Вопрос только, за чьими подписями пойдет эта докладная?
– Твоя безусловно.
– А ты подпишешь? – спросил Мельников.
– Это бессмысленно. Кто я? Главный технолог завода, который должен выполнять заказ. Чью позицию, в данном случае, будет отстаивать моя фамилия? Тут нужна подпись вашего секретаря парткома и хорошо бы мэра города. Я же постараюсь не спешить, как ты сказал, с дифирамбами в адрес установки. Конечно, в пределах разумного. Так что вы с бумагой поторопитесь…
С этим вроде покончили, и, допивая кофе, Мельников вдруг сказал:
– Старуха Анастасьева умерла.
– Да что ты?! Сколько же ей было?
– Семьдесят девять.
– Да-а… – покачал головой Родионов и подумал, что ему, Родионову, уже пятьдесят седьмой. Степка Анастасьев был его одноклассником, погиб в сорок четвертом. А теперь вот умерла его мать. Матери наших погибших и пропавших без вести ровесников все еще ждут своих сыновей. Но уже начали умирать и мы, – вспомнил он своих сверстников, тех, кто, вернувшись с войны, умер от болезней и старых ран спустя двадцать – двадцать пять лет. А матери многих из них еще живы, но тут уж у них не может быть никакой надежды, что сыновья вернутся. А те, другие, как Анастасьева, все еще будут ждать и надеяться… Парадоксы…
Они посидели еще какое-то время, что-то повспоминали и разошлись. Родионов отправился к скверу, где договорился встретиться с Капустиным.
Осеннее солнце нестойко. Хоть облака были высокими и белесоватыми, солнце они все же скрыли, и вокруг стало по-осеннему голо и хмуро.
В тиши и пустоте сквера ничто не мешало Гришиной исповеди. Они бродили по асфальтированным дорожкам, и Гриша говорил так, словно его слушали только деревья: бормотал, уставя взгляд прямо перед собой. И так же безмолвно, как деревья, слушал его Владимир Иванович. Тихий рассказ Гриши был связен, и ни уточнять, ни переспрашивать не было нужды.
Вышли на аллею, обсаженную каштанами, и под монотонный Гришин рассказ Владимир Иванович подумал, что разочарование, которое вынес Гриша из своей неудачной любви, было преподнесено ему не как случайное, а как всеобщее. Под его страдание Людой и Кошкиным была подведена теоретическая база. Ему доказывалось, что человек рождается в одиночестве, в одиночестве живет и так же умирает, и что исправить этого никто и ничто не может, это всеобщий закон.
Устойчивая Гришина подавленность была вызвана даже не столько происшедшим, сколько этой мыслишкой, внушенной ему этими двумя людьми. А против такого бороться надо не словами, нет…
Гриша всматривался в оголенный парк. Единственное, чем он мог бы заглушить сейчас свое настроение, – это немедленно сесть писать осенний пейзаж. В этом пейзаже должно быть нечто пронзительно-печальное и вместе с тем примиряющее. Пастельные тона при бессолнечном дне – это уже настроение, а краски осени не беднее, а богаче летних для тех, кто умеет видеть.
Есть деревья, листва которых не желтеет, а становится черно-фиолетовой. А на иных листья погибают смеясь. На других же не меняясь в лице. Но на фоне желтизны зелень выглядит чопорно. Еще хуже в такой туманный день выглядят большие облетевшие деревья: спадают листья и становится виден их скелет. Вот два каштана… первый, раздвоенный от самых корней, так мучительно тянется кверху, стволы его винтообразно скручены один вокруг другого, и как будто чувствуешь то усилие, с которым они вырываются из тяжелой и твердой земли… А второй словно воздел руки с вывернутыми наружу черными ладонями… По аллейке удалялась сгорбленная бабка с крохотным мальчуганом, малыш держал за ниточку надутый шарик, но в серости дня даже яркий шарик казался бесцветным.
– Утешиться ты можешь только одним, – сказал Родионов. – Тем, что молод. Прости за банальность. Но я готов поменяться с тобой местами, – усмехнулся Родионов. – И все твои печали забрать себе. Но так, Капустин, не бывает. У времени есть железный закон: оно понижает болевой порог… – Родионов похлопал Гришу по плечу. – То, что случилось с тобой, в истории человечества уже бывало. Тебе, конечно, от этого не легче.
Капустин кивал головой, соглашаясь, при этом понимал, что найдись человек даже добрее Родионова, и тот не смог бы отыскать слова, которые вот так осторожно снимали бы с души тяжесть…
Геологи уезжали на три дня раньше Гриши, и он уже заранее немел и глох при мысли о расставании с Людой и откладывал объяснение со дня на день, но тянуть дальше стало некуда, и тогда он осмелел поневоле и накануне отъезда в облюбованном ими укромном местечке (нужно было здоровое сердце и крепкие ноги, чтобы туда добраться) задыхающимися и жалкими словами пытался выяснить у Люды, когда они встретятся снова. Люда удивленно посмотрела на него и усмехнулась:
– Алешенька, не заставляй меня жалеть о своей глупости. Ты же взрослый человек и… у каждого из нас своя жизнь.
– Ну да, поэтому я и хочу, чтобы… чтобы у нас была общая жизнь…
– На основе?
– Что?
– На какой основе? Ты станешь геологом или мне стать домашней хозяйкой?
– Ну-у, мы это… решим как-нибудь.
– Ничего мы не решим, Алешенька. Жизнь подарила нам две недельки – спасибочки ей за это, теперь айда по домам.
– Но почему?
– Почему? Пойдем к нашим, там я тебе объясню, почему. Ты что, действительно веруешь в вечную любовь? Какой ты у меня дурачок! Пойдем.
И нежно поцеловала Гришу в нос.
– Я не пойду!
– Ну-ну-ну… Глупенький… Завтра придем сюда еще раз… если хочешь. В последний раз. «Прощай, свободная стихия! В последний раз передо мной ты катишь волны голубые…»
– Неужели нельзя ничего придумать?..
– Зачем? «Ты ждал, ты звал… я был окован; вотще рвалась душа моя: могучей страстью очарован, у берегов остался я».
– Перестань!..
Они пришли к палаткам. Кошкин снова сидел на скатанных одеялах (операция по спасению Гриши не прошла даром) и что-то выяснял с Вартаном о геосинклиналях. Кира и Марина готовили ужин, Вовик у самого обрыва что-то рассказывал Володе и Косе-Юре. Люда подсела к ним, а Гриша поплелся за ней. Он был оглушен и соображал с трудом.
Его позвал Вартан:
– Гриша, давай сюда. Курить есть? Ах, какой молодец! Вот спасибо, большое спасибо!
– Ты что-то потерял, старик? – бодро осведомился Кошкин. После ночевки Гриши и Люды на озере он неизменно был бодр. Не весел, а именно бодр. И подтянут. Выбрит. Лаконичен. Язвил меньше, да и вообще разговаривал меньше. Много работал. Вовик едва ли не ежедневно бегал за книгами в районную геологическую экспедицию. – Ну, что скажешь?
Гриша пожал плечами и устало сел на траву. Кошкин пристально поглядел на него, глубоко затянулся сигаретой и повернулся к Вартану:
– По некоторым имеющимся данным все эти гипотезы носят чисто спекулятивный характер. Наверняка мы сможем что-то сказать только тогда, когда исследуем разницу в интрузивных областях.
– Ну, дорогой, ты собираешься бурить на такие глубины в интрузиях… это, знаешь ли…
Гриша слушал непонятные слова и смотрел на Люду. Густели сумерки. Надеяться было уже не на что, надо было незаметно уходить и больше здесь не появляться, тем более, что это дорогое для него понятие – «здесь» – обречено было существовать еще каких-то там тридцать шесть часов.
Но он продолжал сидеть рядом с Кошкиным, слушал разговор со множеством непонятных слов, и в душе его тоже было что-то непонятное, мутное и бесформенное, как тьма неограниченного пространства.
В этом состоянии он согласился остаться ужинать, что-то чистил, что-то клал в рот, жевал, глотал…
Разговор начала Люда. Ее непринужденности хватало на все.
– Люди, как вы думаете, вечная любовь существует?
Кошкин перестал жевать, лицо его напряглось, затем он повернулся к Вартану и сказал:
– Соседей об этом тоже надо будет спросить… чтобы собрали сведения о своих интрузиях.
– Кошкин, твоя наглость беспредельна, – сказала Люда.
– Именно это мне хотелось сказать тебе. Но я себе этого не позволил. Ведь ты, несмотря ни на что, женщина…
– Да, ты позволил себе только что перебить женщину…
– С удовольствием применил бы этот глагол в ином его значении… по отношению к женскому роду вообще.
Предложенную Людой тему неосторожно поддержал Вовик. Он отстаивал вечную любовь, и Люда получила возможность развивать негативный тезис в удобных условиях – споря со слабым противником.
– Вечная любовь под периной! – издевалась она. – Единственное, что могут себе позволить маленькие душонки. Сильным тоже нужна любовь, но они имеют хотя бы достаточно мужества признать, что ее не существует. Разве не так, Кошкин?
– Ты специалист, тебе виднее.
– Конечно, не так! – возмутился Вовик. – Если бы так, все в мире уже развалилось бы, потому что семья… семьи бы уже не существовало и вообще… Ну, короче говоря, статистика против тебя.
– Какая статистика, ребеночек? Статистика боязливых? А ты возьми другую статистику – нашу. – Она озорно глянула на Вартана, он неспокойно завозился и уперся руками в землю, собираясь встать, но не успел. – Вот тебе семейный человек, жил в городе, работал в минералогическом музее, дом, дети, телевизор и жена – сильная личность. Вот она-то и заставила его самого стать сильным…
– Людочка, может довольно?
– Ничего, Вартанчик, здесь все свои… Конечно, он предпочел бы ничего не видеть, он любил детей, спокойствие, благополучие, но жена оказалась действительно сильной личностью, она ничего не скрыла… Вартан, тебе повезло, а то гнил бы всю жизнь возле телевизора. Разве теперь тебе не лучше?