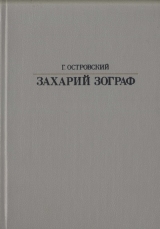
Текст книги "Захарий Зограф"
Автор книги: Григорий Островский
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 17 страниц)
Через несколько недель: «Говорили с чорбаджием Вылко, чтобы привез Вас в Филибе. Он сказал, что было бы очень хорошо. Говорили с ним о том, чтобы разослать по таким городам, как Самоков, в Софию и Пазарджик, взять по двое или трое детей, чтобы просветить всю Болгарию. <…> Чорбаджий Вылко сказал мне поговорить с другими чорбаджиями, если они не согласятся, тогда я постараюсь сам сделать это…»
Задуманному предприятию Захарий хочет придать широкий размах: «Обучение станет всенародным, чему будет содействовать вся Болгария. С этой целью из всех болгарских городов выберут по двое детей» (10 мая 1836 года).
О школе Захарий пишет уже как о деле решенном: «До открытия школы можно сделать матрицу словаря, чтобы начать его печатать».
Молодой зограф преисполнен радости и оптимизма, и ему очень хочется разделить их со всеми. «И когда приедете в Филибе, просим тебя, мудрословный учитель, не презирать худого…»
Захарию удалось уговорить Вылко Тодорова Чалыкова, и честолюбивый чорбаджий, ревностно заботившийся о своей репутации болгарского патриота-родолюбца, согласился выделить из несметного состояния шесть тысяч грошей в год на училище, да еще дать деньги на издание трудов Неофита Рильского. Примеру его последовали и некоторые другие пловдивские богачи, а в Велесе Захарий уговорил трех тамошних торговцев пожертвовать еще пять тысяч грошей.
Ободренный успехом, Захарий шлет учителю одно письмо за другим. Неофит Рильский дает согласие и выезжает в Пловдив.
Но возведенная с таким трудом постройка рухнула в одночасье. Пловдивский митрополит Никифор решительно отводит кандидатуру Неофита Рильского и запрещает светскую болгарскую школу; одни чорбаджии поддерживают Захария, другие, уступая воле владыки, малодушно отрекаются от своих обещаний. Дело кончилось тем, что из Пловдива навстречу Неофиту Рильскому послан был гонец, дабы предупредить того, что надобность в нем отпала и открытие школы не состоится. Неофит возвращается с дороги и едет в Копривштицу, где живет и учительствует до 1839 года.
Нетрудно себе представить состояние Захария, его глубоко уязвленную гордость, охватившие его отчаяние и стыд перед учителем.
«Воистину видно, – пишет он Неофиту, – кто желает просвещения этого варварского, завистливого и себялюбивого рода проклятого. (Мне очень больно, когда думаю, что борова, попавшего в глубокое отхожее место, не могут достать даже пять человек, поскольку он тяжелый и погружается все глубже. В конце концов он там сдохнет и этого запаха будут гнушаться люди и животные). Так и наши непросвещенные болгары, которые тонут в невежестве и глупости, над ними потешаются все европейские народы. Однако я не отчаиваюсь, когда вижу таких корифеев, которые воплощают наши надежды, г. Априловых, которых хранит европейская мать просвещения. А ушедшие от той вони, о которой говорил выше, не чувствуют ее, хотя она снова возле них, лучше сказать открыто, что она для них естественная» (24 июня 1838 года).
«Очень прошу Вас сообщить, что означает их варварское обхождение. Не хочу унижаться, спрашивая их» (10 октября 1838 года).
«Воистину, если бы мое сердце стало океаном и если бы я его излил слезами перед Вашим милостивым лицом, то и тогда не был бы достоин прощения и помилования Вашего за Ваше теперешнее бедственное положение. Поверь мне, благоразумный учитель, мне стало очень стыдно, когда я узнал о своем легкомыслии. И когда я читал в предыдущем письме, где ты обещал в следующем рассказать о своем бедственном положении, а меня, легкомысленного, можно укорять, чего я и ждал от Вашего письма, однако такого письма я не получил и понял, что Вы по-прежнему меня любите, даете по-отечески советы и говорите, что искренне меня уважаете. Мое отношение очень переменилось, когда я увидел от Вас столько милости. Сейчас я только прошу Вас не жалеть меня. Жажда просвещения меня побуждала и слепота наших единородных проклятых болгар» (7 ноября 1838 года).
Этого позора пловдивским – и не только пловдивским – чорбаджиям Захарий не простит никогда. Много лет спустя, в последний год жизни, он пишет о равнодушных к народному просвещению, «у кого не головы, а тыквы». Назревавший годами конфликт Захария с чорбаджиями прорвался резкими, разящими словами художника в адрес «родолюбцев».
Неверно было бы объяснять это только личной обидой обманутого в лучших ожиданиях художника. В немалой степени конфликт стал следствием и выражением углублявшегося в болгарском обществе социального расслоения, противостояния крестьян, ремесленников, трудового люда, с одной стороны, чорбаджиям – с другой. «Все наши богатые чорбаджии, нажившие себе состояние, сколотили его путем различных насилий, притеснений, обмана. Иначе и быть не может. Исключения редки», – утверждал З. Стоянов. Другой крупнейший деятель национально-освободительного движения, Г. Раковский, еще более решителен: «Когда мы говорим народ, мы понимаем в данном случае всех добрых болгар, за исключением чорбаджиев».
Очевидно, в неоднородной среде болгарских чорбаджиев середины века встречалось немало просвещенных и патриотически настроенных людей, активно участвовавших в борьбе за болгарские училища и независимую болгарскую церковь, поддерживавших школу, литературу, искусство. Но куда больше было тех, кто, опасаясь просвещенного болгарина не меньше, чем иноверца, искали согласия с властями и высшим греческим духовенством, фанариотами, и в то же время старались не утратить своего положения в болгарском обществе. «Душу дает, денег не дает», – говорили о таких в народе. А если и давали деньги на школы, то бесцеремонно вмешивались в их дела, смещали и назначали учителей, а бывало, что и злоупотребляли собранными на училище средствами.
Как и все болгарские зографы первой половины XIX века, Захарий был тесно связан с кастой чорбаджиев: чаще всего они и были ктиторами храмов и монастырей, а церковь оставалась не только основным, но и фактически единственным заказчиком. Сохранить если не материальную, то духовную независимость от сильных мира сего было нелегко. Захарию это удалось, хотя и платил он сполна за каждый жизненный урок.
Годы шли, и Захарий был уже далеко не тем, кто несколько лет назад покинул отчий кров. Он много узнал, увидел, пережил. Уверовал в себя, в свой талант; к нему пришло признание. Непосредственная причастность к общественным проблемам и делам плодоносила порой горьким жизненным опытом, широким и трезвым пониманием современной жизни народа.
Молодость уходила. Сверстники художника уже остепенились, обзавелись своими домами, женами, детьми, а он был все еще холост и одинок. Вылко Чалыков прочил за него одну из учениц Неофита Рильского, Марию, но сватовство не состоялось.
В 1838 году, в один из своих наездов на родину, художник познакомился с Катериной, дочерью состоятельного торговца и влиятельного самоковского обывателя хаджи Гюро Христовича; его сыновья Димитр, Иван, Христо и особенно Захарий играли впоследствии видную роль в борьбе за церковную независимость.
Любовь Захария Зографа и Катерины была взаимной, однако прошло три года, прежде чем судьбе угодно было соединить их брачными узами.
Трудно сказать, что послужило причиной, но хаджи Гюро, резко настроенный против будущего зятя, согласия на свадьбу не давал. Можно строить различные предположения, и все же ни одно нельзя считать вполне достоверным. Не исключено, что Захарий сам дал к этому повод. Ходили слухи о его бурном увлечении гречанкой; не о ней ли сообщает он Неофиту Рильскому в одном из писем 1839 года? Речь идет в нем о некой «маленькой Русии», в судьбе которой художник принимает большое участие: «О малой Русии в самом деле и глухие цари слыхали, и каждый, кто не знает, пусть от меня узнает. Сейчас это уже не тайна. Знай об этом. <…> А первая малая Русия стала, как из могилы вставшая, муж ее – варвар и ревнивец, успеха ему не видать. <…> Когда поедем или пойдем куда-нибудь, следит за нами, так как все знают, почему она плакала. И беременная она. Скажи мне, что говорят, услыхав о малой Русии, ваши тамошние чорбаджии».
Еще одна – не первая и не последняя – загадочная страница в биографии нашего художника.
Самоковский роман, однако, продолжался; Захарий, видимо, совершенно покорил юную Катерину; она была уже готова во имя любви преступить родительский закон и пойти под венец без согласия непреклонного отца. Поступившись самолюбием и гордостью, Захарий призвал возлюбленную к смирению. Не желая обострять отношения с семьей невесты, он тем временем изливает душу в нежных посланиях из Пловдива в Самоков. «Дражайшая моя невеста Катерина, – пишет он 2 января 1840 года, – любовно тебя поздравляю, мило приветствую, любезно целую. Прими, любезная моя невеста, эту золотую монету, то есть этот червонец от меня за большую любовь нашу и будь благодарна за подарок от той церкви, которую я делал в этом году. Посылаю тебе это не от большого богатства, а от большой любви» [32, с. 41].
Сердечные волнения, однако, не мешали Захарию стремиться и к иным целям. Он хорошо знал, чего хочет, знал себе цену, и пришедшая к нему известность искусного иконописца его не удовлетворяла. Если трявненские зографы довольствовались иконами, то среди самоковских и банских особенно высоко ценились мастера церковных росписей, и Захарию не терпелось испытать себя и свои силы в большой работе, которая бы открыла ему более широкие возможности, прославила его. Оставалось ждать случая; и он скоро представился.
В древнем и славном Бачковском монастыре заканчивали возведение нового соборного храма св. Николая Мирликийского. В строительстве его участвовали своими пожертвованиями многие видные пловдивцы, а среди них первенствующее место занимали, как всегда, Вылко и Стоян Чалыковы. Их слово имело решающий вес, и Захарию предложили украсить церковь стенописями.
Это был уже не первый опыт художника в монументальной живописи, и потому он принимает почетный заказ без робости и смущения. Еще летом 1838 года он расписывает в Станимаке часовню Иоанна Крестителя церкви Благовещения богородицы (Рыбной): изображает богоматерь с ангелом – в куполе, на поддерживающих его парусах – Соломона с храмом в руке, Давида с ковчегом, Моисея с неопалимой купиной, Захарию с семисвечником, Иезекиила, Иакова, Аарона. Работа неровная и порой весьма наивная по исполнению, почерк еще не устоявшийся, колорит темноватый, как бы погасший, – многое выдает неуверенную кисть начинающего стенописца, но в целом Захарий заявляет о себе достаточно определенно. Библейских пророков он наделяет индивидуальными характерами и возвышенной одухотворенностью, очень изящны и благостны богородица и юный Захария; да и во всем остальном ощущается присущее художнику эстетическое отношение к теме, сюжету, человеку, а превосходно написанный орнамент напоминает о «самоковском барокко».
Тогда же или годом позже были созданы несохранившиеся росписи внешних стен церкви св. Георгия, принадлежащей Бачковскому метоху в Станимаке. В 1841 году, когда Захарий уже работал в Бачковском монастыре, он возвращается сюда и расписывает тройную арку на северной стене церкви конными фигурами: посредине, над входными дверями, – св. Георгий, по сторонам – сейчас плохо различимые, вероятно, Дмитрий Солунский и Федор Стратилат. Палитра Захария зазвучала ярким, интенсивным цветом, святые воины исполнены энергии и динамики, а в пейзажной партии центральной композиции выступают новые тенденции более непосредственного и реального изображения природы.
И в прямом, и в переносном смысле путь художника из Пловдива в Бачково лежал через Станимаку. Главное испытание было впереди.
СТЕНОПИСИ
БАЧКОВСКИЕ
Захарий имел основания гордиться: само приглашение украсить росписями церковь Бачковского ставропигийского монастыря было признанием его таланта и умения. Известность, которой пользовалась в Болгарии эта старинная обитель, уступала лишь славе главной национальной святыни – Рильского монастыря. Множество паломников приходило поклониться древней иконе «Богородицы Умиление», перенесенной сюда в 1310 году из грузинского монастыря в Карсе, испить целительной воды из источника св. Архангела, что в получасе ходьбы от монастыря, отдохнуть в тени громадного «джинджифа», а по-ученому – «диосперус лотос», посаженного на монастырском дворе еще в XVIII веке паломниками из Грузии. Каждый год стекались сюда толпы народа, особенно много – в конце августа на престольный праздник богоматери, совпадавший с завершением сбора урожая, до ранней зари у стен монастыря горели костры с подвешенными над ними котлами, звучали песни, кружились хоро́… А еще славился монастырь не только чудотворной иконой и источниками, но и по-особому ароматным напитком, настоянным на крупных, величиной с орех, розовато-желтых ягодах.
Семь с половиной столетий насчитывала история Бачковского монастыря, основанного в 1083 году мудрым и храбрым Григором Бакуриани (греки называли его Пакуриан, грузины считают, что правильнее Бакурианидзе или Ракуриани). Как и его брат Апасий, Григор был военачальником византийского императора Алексея Комнина и погиб три года спустя после основания монастыря в битве с печенегами у села Белятово, севернее Пловдива. Позднее возникла легенда, что прямодушный грузинский воин сочувствовал попавшим в византийское рабство болгарам и монастырь построил во искупление грехов победителей. Так это или нет, но, согласно сочиненному им уставу, доступ в обитель византийцам – «алчным насильникам, восхваляющим только себя», – был запрещен. Управляться монастырь должен был самостоятельно, и «никакая чужая власть – царская, или патриаршая, или митрополитская, или епископская» – на него не распространялась.
С Бачковским монастырем связана судьба выдающегося деятеля болгарской культуры и истории – патриарха Евтимия Тырновского, философа, ученого и просветителя, великого патриота и борца с завоевателями. В конце XIV века он был заточен в Бачковский монастырь, где продолжал свою литературную деятельность и где окончил дни свои в 1404 году; мощи его были перенесены в Тырново, а сам он причислен к лику святых.
…От Пловдива до Станимаки день дороги, даже если останавливаться в находящихся на пути Кукленском и Горноводенском монастырях. Заночевав в Бачковском метохе в Станимаке, Захарий утром двинулся дальше. У подножия Родоп, как бы накрепко запирая их, возвышаются мощные стены и башни древней Асеновой крепости, возведенной царем Иваном Асеном II в 1230 году. Горы словно сближаются, скалы над быстрой и своенравной рекой Чая становятся все более отвесными, а по их уступам вьется древняя, проложенная еще римскими воинами дорога. Вот уже село Бачково; спустя час взору открылась монастырская ограда.
Неподалеку кладбище, там же, восточнее монастыря и чуть в гору, стоит церковь-усыпальница, построенная еще Григором Бакуриани и восстановленная в XIV веке царем Иваном Александром: сложенная из пористого, выветрившегося от времени камня двухэтажная базилика, украшенная снаружи «слепой» декоративной аркатурой. Фрески, исполненные грузинским художником – согласно греческой надписи, «расписан этот храм сверху донизу рукой Иоанна Зографа Иверпульца», – сохранились плохо: роспись нижнего яруса почти совсем пропала, но кое-где просматриваются изображения «Страшного суда», «Видения пророка Иезекиила», «Богоматери на троне с архангелами», полустертые временем суровые, мужественные черты фундаторов монастыря Григора и Апасия Бакуриани. В нише на северной стене преддверия – большой ктиторский портрет Ивана Александра, поражающий величественным и грозным ликом воинственного царя.
И еще ктиторские портреты: в преддверии соборной церкви Успения богородицы запечатлены царьградские сановники Георгий и сын его Константин в богатых узорчатых одеяниях. Храм этот возведен в начале XVII столетия, а роспись исполнена в 1643 году. Суровый пафос героического прошлого отступил здесь перед придворной изысканностью моделей, торжественно и величаво застывших на плоскости церковной стены.
Остальной живописный декор, покрывавший некогда просторный и светлый интерьер крестовокупольного храма, не сохранился; нынешний принадлежит кисти греческого зографа Мосхо из Охриды, работавшего в монастыре уже после Захария, в 1850 году. Зато цела монастырская трапезная, построенная тогда же, когда и церковь Успения богородицы, и расписанная в том же 1643 году. Вдоль зала протянулись скамьи и громадный стол, покрытый цельной мраморной плитой; из ктигорской надписи на ней известно, что вытесана она мастером Николой из села Бачкова. Стены и своды украшены прекрасными росписями, изображающими Христа, святых, сцены Нового завета. Но более всего Захария поражают шесть больших фигур – в коронах и со свитками в руках, однако без нимбов. Это античные философы и мыслители Аристотель, Сократ, Диоген, Киарос, Клеомен и Аристофан – язычники, именовавшиеся «предтечами христианства».
На внешней северной стене трапезной – громадная и очень любопытная фреска, изображающая вынос из Бачковского монастыря чудотворной иконы. Все в ней необыкновенно интересно, и прочитывается она как увлекательная повесть.
Слева и справа – нечто вроде постаментов, на них святые Дмитрий Солунский и Георгий Победоносец на конях; в центре монастырь, увиденный как бы с птичьего полета, со всеми близлежащими чешмами, колодцами, церквами, часовыми башнями, оградами и заборчиками, и каждую постройку поясняет надпись. Течет река, а в ней две большие рыбы плавают, через реку мостик перекинут, по берегам деревья и травка растут. И это не условный иконописный фон, а реальная природная и архитектурная среда изображенной на картине чисто жанровой сцены многолюдного крестного хода. В густой толпе его участников бородатые священники и монахи, пловдивские чорбаджии, и среди них ктитор и благодетель монастыря Стоян Тодоров Чалыков, горожанки в замысловатых головных уборах, дети, крестьяне и крестьянки, написанные в профиль и анфас…
Многое в этой росписи, пленительно наивной и такой жизненно достоверной, примитивной и по-своему мастерской, напоминает кисть Захария Зографа, и неудивительно, что до недавнего времени большинство исследователей приписывали фреску то ему, то его брату Димитру, то им обоим. Увы, эта соблазнительная гипотеза оказалась несостоятельной. Монастырь на фреске передан по медной гравюре 1807 года, а изображенный на росписи и построенный лишь в 1861 году мост отодвигает дату ее возникновения по крайней мере лет на двадцать. Сейчас историки склоняются к тому, что стены трапезной расписал в шестидесятых годах кто-либо из станимакских живописцев, скорее всего – Алекса Атанасов. Имя это в болгарской живописи известно: в 1864 году Атанасов вместе со своим учеником, впоследствии выдающимся художником-революционером Георгием Данчовым, расписал соборный храм Араповского монастыря неподалеку от Станимаки и Бачковской обители; особенно интересна сцена, изображающая болгарских крестьян, внимающих проповеди Кирилла и Мефодия. Как ни жаль отказываться от «версии Захария», но факты, как говорится, упрямая вещь…
Итак, май 1840 года, Бачковская обитель, новопостроенная церковь св. Николая Мирликийского; тридцатилетний зограф из Самокова Захарий Христов, подрядившийся расписать ее за семь тысяч грошей, да несколько учеников в помощь мастеру.
Основная работа, во всяком случае роспись интерьера храма св. Николая, была выполнена Захарием в том же 1840 году, о чем гласит надпись по-гречески на западной стене: «Изображается во Славу пресвятой нашей Троицы и в память святого нашего отца Николая в игуменство Божьего раба иеромонаха Матея из Старой Загоры, в лето Спасителя 1840, месяца октября 15-го. Изображается рукой смиренного зографа Захария Хрис. из Самокова».
С наступлением холодов работы в неотапливаемом храме прекращались. Зиму Захарий провел в Пловдиве и Самокове, весну и лето – в Бачковском монастыре, а осенью снова вернулся домой.
В родном городе его ждала молодая жена. 8 ноября 1841 года в Самокове, в доме брата наконец-то состоялась свадьба. Венчались в Митрополичьей церкви, а кумовьями были Димитр и Христиания.
Радость торжества омрачили трения с тестем, по-прежнему относившимся к зятю с нескрываемой враждебностью и высокомерием. Невзирая на «общественное мнение» самоковских обывателей, хаджи Гюро Христович согласился лишь на скромную и малолюдную свадьбу; Захарий не перечил.
По стародавнему обычаю присутствовавшие на венчании фыркали от смеха: иначе молодым не будет счастья. Из церкви возвращались на телеге, запряженной украшенными лентами буйволами. Юная Катерина в спущенном на плечи платке целовала встречным руки, одаривала гостей связанными ею варежками, носками, платками.
Неофит Рильский прислал приличествующие ученому подарки: «Всемирную историю», «Всемирную географию» и собственноручно изготовленный глобус.
После свадьбы молодые поселились в своем доме, купленном художником у тестя; это был первый собственный дом Захария.
8 сентября 1842 года Катерина Зографская подарила мужу первенца, нареченного в честь деда Гюро Георгием, Георгаки.
Что знаем мы еще о Захарии тех лет? Не сохранилось ни его записок, ни свидетельств современников, и разве что события той поры помогают воссоздать если не его биографию, то атмосферу, в которой ему довелось жить и работать.
Отец Неофит жил тогда в Рильском монастыре, занятый переводом на болгарский язык Нового завета. Изданный в 1840 году с помощью Английского библейского общества и его стамбульского представителя Вениамина Баркера, весь тираж был уничтожен повелением греческого патриарха; особенно усердствовал пловдивский митрополит Никифор.
Где-то в окрестностях Бачкова, в лесистых Родопах укрывался отряд гайдуков под водительством дерзкого и неустрашимого Ангела-воеводы. За его голову власти сулили немалую награду, народ же складывал о нем песни и легенды.
Из Западной Болгарии в монастырь приходили вести о восстании близ Ниши, вспыхнувшем в ответ на неслыханное злодеяние: солдаты изнасиловали женщин прямо в церкви села Каменицы, во время пасхального богослужения. Против двух тысяч повстанцев, из которых вооружен был едва лишь один из пяти, паша Керим-бек бросил четыре тысячи солдат и несколько пушек. В Нише на мосту выставили более тридцати отрубленных голов, в Лескавоце шестьдесят крестьян посадили на кол; около десяти тысяч болгар бежало в Сербию. Засвидетельствовать зверства башибузуков приехали из Франции академик Жером-Адольф Бланки, из России – государственный советник, генерал П. Кодинец. «Европа еще не представляет себе, – писал Бланки, – какие мучения терпят у ее ворот, а вернее сказать, в ее недрах свыше семи миллионов таких же христиан, как мы с вами, которых правительство, поддерживающее дипломатические отношения со всеми христианскими государствами, третирует как собак за их религиозные убеждения. Европейцам трудно представить себе, что в этой части Турции честь каждой женщины находится в полной зависимости от прихоти первого встречного мусульманина. Европа не знает, что турки врываются в дома христиан и присваивают все, что им понравится, что просить о пощаде там опаснее, нежели сопротивляться, и что ничтожные гарантии безопасности, предоставляемые народам самых отсталых стран, показались бы беспредельной милостью для населения Болгарии» [40, с. 183].
(В «Страшном суде», что в нартексе бачковской церкви, Захарий изобразил чертей, тянущих на веревке в пекло бородатых старцев с крючковатыми носами и в тюрбанах, в другой сцене – разгневанных ангелов, карающих мусульман. Впрочем, написаны они, по всей вероятности, до Нишского восстания 1841 года, но это уже не имеет существенного значения.) Так в один узел сплетались жизнь художника, его творчество, судьба его народа.
В открытой аркаде, опоясывающей бачковский храм, на церковной стене Захарий Зограф написал автопортрет.
Ктиторские портреты – давняя традиция болгарской, и не только болгарской, средневековой живописи. Традиция, прошедшая путь от Рима и Византии к искусству Первого Болгарского царства, к портретам XIII века и вплоть до конца XIX столетия. Традиция прочная, но в болгарском искусстве прерывистая.
Древнейшие из сохранившихся – это изображения царя Ивана Асена II на стене кладбищенской церкви в селе Беренде Софийского округа и в одном из македонских храмов XIII века. 1259 годом датированы прославленные портреты в Боянской церкви под Софией – царя Константина Асена и царицы Ирины, севастократора Колояна и жены его Десиславы. «В истории европейского портрета, – утверждает Г. Вагнер, – росписи Бояны сыграли гораздо большую роль, нежели фрески Джотто, хотя исполнены они были тогда, когда Джотто еще не родился» [13, с. 53]. Что ж, такое мнение может показаться категоричным, но заставляет задуматься.
XIV век: целый ряд царских и болярских ктиторских портретов, и в их числе – в Бачковском монастыре, в скальной церкви близ села Иванова, в Карлукове, Калотино, Несембре; деспота Деяна и его жены Дои в Земенском монастыре неподалеку от Самокова (очень вероятно, что Захарий их видел) и другие.
XV столетие: только в Кремиковском монастыре изображения софийского митрополита Калевита и ктитора Радивоя с семейством да в Драгалевском ктитора Радослава Мавра и его семьи.
XVI век – ни одного!
Первая половина XVII столетия – в том же Бачковском монастыре, в Арбанаси, Карлукове, Свиштове, Добрыско, Гложенском, Роженском монастырях и других местах.
С 1643-го по 1732-й – апогей османской деспотии! – снова ни одного.
Надо сказать, что Захарий Зограф вряд ли имел возможность видеть – за исключением тех, что в Земенском и Бачковском монастырях, да еще, быть может, нескольких – эти древнейшие и лучшие ктиторские портреты: одни были уничтожены, другие записаны или сильно повреждены, третьи находились там, где Захарию не довелось побывать. Но, наверное, важно не это, а протяженность во времени и пространстве исторического бытия живой и плодотворной традиции болгарского искусства.
Начиная с середины XVIII века и до освобождения 1878 года, даже после него – новый мощный подъем ктиторского портрета эпохи национального Возрождения: от Рильского монастыря до самых скромных деревенских церковок, включая портреты болгарских ктиторов на Афоне. Только перечисление их заняло бы не одну страницу, а шкала исполнения расширяется от высокопрофессионального мастерства до наивных и очаровательных в своей непосредственности примитивов.
Уже не цари и царицы, не деспоты и севастократоры, не правители и военачальники, а купцы и ремесленники, монахи и крестьяне, обыкновенные, рядовые болгары, известные в своей округе разве что благочестием да пожертвованиями на храмы божьи, проходят вереницей в этой замечательной портретной галерее. Их облик весьма прозаичен и приземлен; от репрезентативного мотива предстояния ктитора перед высшими силами остались позы, и то не всегда, а крупные, исторически значительные личности, сильные и гордые характеры, впечатляющие в искусстве болгарского средневековья, составляют скорее исключения. Зато какая индивидуальная характерность, убеждающая, почти физически осязаемая конкретность и жизненность образов!
Своей росписью бачковской церкви Захарий Зограф впервые приобщился к этой прекрасной традиции болгарского искусства эпохи национального Возрождения, и надо сказать, что этот момент примечателен во многих отношениях.
Прежде всего, его «Автопортрет» – это не ктиторский портрет в точном смысле понятия. Ни сам Захарий, ни игумен Матей и проигумен Ананий не были ктиторами церкви св. Николая Бачковского монастыря: один – зограф, автор росписей, другие – хозяева обители, инициаторы, заказчики и, если можно так сказать, организаторы работы художника. Ни одному из художников даже в голову не приходила мысль, что такое положение – достаточное основание для изображения исполнителей наравне с ктиторами храма, пожертвования которых, поддерживавшие светоч христианства на болгарских землях, ставят их почти вровень с мучениками и святыми, придают им ореол святости.
Над головой поместил греческую надпись: «Захарий Христов Зограф Самоковчанин». На свитке, который держит в руке, по-гречески и по-болгарски: «Изобрази са рукою моеи Захарий X. Зограф Болгарин».
Захарий. Зограф. Из Самокова. Болгарин.
Сколько в этом достоинства и гордости – за себя, свое искусство, родной город, весь народ!
И как сложно решает художник этот тройной портрет. Он вписывает его в общую систему церковных росписей и в то же время четко выделяет рамкой, линией горизонта, легким высветлением неба, тонкой и нежной нюансировкой цвета, создающими как бы особое пространство портрета. Портрет невелик – чуть больше метра в высоту, но решен монументально – ритмом величавых, очерченных целостным силуэтом фигур в иератических позах. При этом условность ктиторской портретописи удивительным образом соединяется с естественностью жестов, конкретностью индивидуальностей, не с бытовой характерностью, но с какой-то трепетной и одухотворенной жизненностью. (При том что ктиторские портреты писали, как правило, не с натуры, а по памяти и впечатлению.) Как и в станковых портретах Захария Зографа, здесь четко ощущается осознанное утверждение художником самоценности человеческой личности, и эта установка позволяет видеть в бачковском автопортрете одно из начал той гуманистической концепции человека, которая в будущем определит характер и развитие болгарской живописи второй половины XIX столетия.
Слова «первый», «впервые» еще не раз встретятся в жизнеописании нашего художника, но сейчас они нужны особенно. Что-то было тогда впервые только для него самого, что-то – для всего болгарского искусства: первый автопортрет, первое в творчестве Зографа крупное произведение монументальной живописи, первое испытание сил перед широким зрителем. Художник должен был сознавать это, и можно представить себе, с каким напряжением работал он в Бачковском монастыре. Тем более что, даже учитывая помощь учеников и подмастерьев, объем исполненных им росписей превышает обычные возможности; между тем Захарий Зограф действительно их начал и завершил всего в несколько летних и осенних месяцев.
…Интерьер недавно законченной церкви св. Николая не очень велик, однако высок и светел. На массивном, но не тяжеловесном, прорезанном двенадцатью узкими окнами барабане возносится купол. В нем, как и положено, художник написал Христа-пантократора, в барабане – святых, апостолов, на парусах – четырех евангелистов.
Захарий не ограничивается исполнением предписаний церковных канонов. В реальном пространстве церкви он творит свое, условное и в то же время не менее реальное пространство. В изображения евангелистов и во многие другие сцены художник вводит архитектурные фоны – весьма фантастические, но насыщенные многими элементами и мотивами болгарского зодчества эпохи национального Возрождения. Порой возникает чувство, что эти сказочные дворцы и комнаты Захария интересуют не меньше, если не больше, чем сами персонажи: так увлеченно и старательно пишет он их, настойчиво пытаясь передать перспективные сокращения, – иногда они получаются, иногда не очень…








