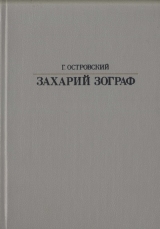
Текст книги "Захарий Зограф"
Автор книги: Григорий Островский
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 17 страниц)
Свойственное Захарию Зографу как художнику зрелого болгарского Возрождения внутреннее, органическое единство этих качеств и тенденций раскалывается в творчестве мастеров уже следующего за ним поколения, и это «разведение» можно проследить даже в произведениях его племянников или художников ближайшего окружения.
Одна дорога вела к профессиональной, «ученой» портретописи: в ее едва проторенном русле вскоре появились сорок портретов кисти Станислава Доспевского, овладевавшего искусством под руководством Димитра Христова и Захария Зографа, а также А. Мокрицкого, Ф. Бруни, П. Басина… Другой путь – к портрету примитивному. В церквах св. Георгия и св. Варвары неподалеку от Пазарджика сохранились очаровательные в своей наивной непосредственности автопортреты племянника Захария Петра Костадинова Вальова. Самоковский живописец Никола Образописов, сын ученика Христо Димитрова и, в свою очередь, учитель сына Захария Зографа, создал «Портрет отца» и «Автопортрет с женой» (1908) – почти классические по своей выразительности и чистоте образцы художественного примитива.
В истории создания трех портретов Захария Зографа далеко не все, в том числе существенные, подробности представляются вполне ясными, но сам факт возникновения этих произведений говорит о многом. И если к еще не разгаданным загадкам добавляются новые, в конечном счете выступают прерывистые, но верные контуры облика нашего художника.
Захарий много работает, слава его как искусного иконописца ширится, заказы все прибывают, и он едва успевает их выполнять. Он молод и талантлив, богат и удачлив, покровительство всемогущих Чалыковых и дружба Неофита Рильского открывали перед ним все двери, и немало видных и состоятельных пловдивских семейств охотно приняли бы его в качестве зятя.
Что же еще оставалось желать самоковскому зографу, что волновало его?
Время ученичества миновало. Захарий вступил в пору творческого возмужания, и вот сейчас, на пороге своих главных свершений, он должен был остро ощутить, сколь тесно ему как художнику в пространстве современного болгарского искусства, в рамках вековых традиций и канонов церковного художества. Еще в Самокове он узнал, что где-то есть не зографы, но художники, живописцы и живут они в созданном ими прекрасном мире, ни в чем не похожем на мир болгарского искусства. Тогда, по молодости лет и под сенью казавшегося незыблемым авторитета отца и брата, Захарий вряд ли очень задумывался над этим; во всяком случае, это не стало жизненной проблемой. В Пловдиве же он все чаще возвращается в мыслях и мечтах к незнакомому и загадочному, такому притягательному миру.
«Прежде чем болгарин почувствовал себя болгарином, он был уже связан с Европой», – утверждал один из историков [51, с. 9]. Чуть ли не каждый второй пловдивский купец бывал, а то и не раз, в Вене, Одессе, Москве, Бухаресте, Белграде, Стамбуле, иные – в Венеции, Мюнхене, Марселе, Париже, и рассказами их о виденном в чужих краях полнились пловдивские гостиные. Кто-то, вероятно, привозил оттуда портреты, картины и наверняка – гравюры.
Захарий и сам уже многое знал и многое умел, он верил в себя и свою звезду, и это побудило его «перейти Рубикон» – создать первые станковые портреты. Но в самой работе над ними таился вопрос: что дальше?
Покидая отчий дом, Захарий взял с собой унаследованное от отца собрание западноевропейских гравюр; в Пловдиве и позднее, вплоть до последних лет жизни, он не упускал случая пополнить коллекцию привезенными из Вены, Парижа и других мест эстампами, атласами, книгами с гравюрами. Сохранился, к примеру, принадлежавший ему великолепный анатомический атлас, изданный в Риме в 1786 году («Anatomia esternl del согро umano per iso de pictori a sculptor»), украшенный гравированными на меди изображениями Лаокоона, Венеры Медицейской, Геракла, Аполлона Бельведерского и других античных статуй, а также фрагментами фигур и лиц – глаз, носа, губ и т. п.
Сохранилась и большая тетрадь, куда Захарий старательно наклеивал и подшивал гравюры; среди них эстампы с картин Рафаэля, Дюрера, Кранаха, Гольбейна, Рубенса, Рембрандта, оригинальные и тиражированные оттиски Калло, Лебрена, Яна Брейгеля, Сальватора Розы, других итальянских, французских, голландских, фламандских, немецких граверов с XVI и до начала XIX столетия. (В обиходе Захарий Зограф называл эти гравюры «дюрер» и «кранах»; представления о личностях и творчестве великих мастеров были у него более чем ограниченными.)
Вероятно, Христо Димитров и его сыновья были не единственными в Болгарии владельцами коллекций; возможно, что такие собрания, меньшие по объему, или хотя бы отдельные образцы гравюр имелись и у других зографов; важно, как именно Захарий распорядился ею.
Для него это было окно в совершенно иной мир, бесконечно разнообразный и, быть может, несколько пугающий неизведанными глубинами, мир иных измерений, где все другое: боги, герои, короли, философы, крестьяне, святые, города, ландшафты, пространства, сюжеты, композиции, светотень, рисунок, ракурсы, объемы… Проникновение в него означало кардинальную ломку привычных понятий, представлений, профессиональных навыков. Захарий не отрекался от прошлого и настоящего, однако всем естеством ощущал, что будущее предлагает выбор не одной, а по крайней мере двух дорог.
Он начинает, как каждый самоучка, с копирования образцов. В дошедшем до нас «архиве» Захария Зографа десятки рисунков: путти в различных ракурсах, лежащие женщины, женская голова, обнаженная, апостолы Петр, Иоанн и Иуда, еще обнаженная с яблоком в руке (Ева? Афродита?) и еще женская голова, Аполлон, Венера, Фарнезский бык, Лаокоон, мифологические сцены, аллегории… В основном карандаш, кое-где подцветка акварелью; иногда накладывает сетку, проверяя по квадратам правильность пропорциональных отношений. Рисует много, добросовестно, тщательно, пытаясь проникнуть в неподдающуюся тайну великих мастеров.
Раньше или позже, логическим путем или интуитивно, но как художник Захарий в своем развитии должен был прийти по крайней мере к двум выводам:
мастерство не в подражании образцам, а в наблюдении и воссоздании их первоистока – самой натуры;
копирование гравюр небесполезно, но успех принесет не усвоение тех или иных приемов, а то, что мы сейчас называем системой, иными словами – специальное художественное образование.
Захарий принимает решение ехать в Россию.
С детства он вырос в атмосфере преклонения перед «дядо Иваном» – великой державой, защитницей славянских народов, надеждой на избавление от османского ига. «Благослови, господи, Русия, белокаменна и сладкозвонна, за сърцата» – так учили его молиться отец и мать.
Московия-Русия
Русанка, Руско,
Русийкя
И дядо Иван, наш Иван,
Майчина-Русия —
говорится в болгарской песне.
Тяготение художника к России было осознанным, прочным и постоянным. Сыграла свою роль и тесная дружба с Неофитом Рильским, Захарием Крушей, Николой Карастояновым; все они были убежденными русофилами, хорошо знали русский язык и, поддерживая связи с Одессой, Москвой, Петербургом, регулярно получали оттуда книги, учебники, широкую и разнообразную информацию. Их политические убеждения и ориентиры не были свободны от добросовестных заблуждений и прекраснодушных иллюзий, но и при неизбежных разочарованиях любовь к России оставалась постоянной.
Болгарии уже другой надежды не осталось,
Как с плачем и мольбой к России обратиться:
О Россия, моя единокровная сестра милая,
Зачем ты на столько веков меня оставила?..
Помоги своей бедной сестре Болгарии:
Она ведь не из чужого племени, не из Татарии,
Но твоя чистая сестра, родная и милая,
И сейчас, как и в старое время было.
Доказал это весьма ясно Венелин чудный,
Историк русский в наше время и зело рассудный…
Захарий, конечно, не мог не знать этих наивных и трогательных виршей Неофита Рильского.
Первый большой прилив болгарской молодежи в учебные заведения России приходится на начало сороковых годов; вдохновителем его был В. Априлов, призывавший ее «направить путь не к Югу, а к Северу», не в Грецию, а в Россию. «Только воспитанные в России, – убеждал соотечественников В. Априлов, – могут различными способами быть полезными для народа, и пусть всякий патриот учитывает это как подобает». В 1840 году В. Априлов добивается от русского правительства нескольких стипендий для обучения болгар в Ришельевском лицее и Одесской духовной семинарии; позднее такие стипендии получат студенты в Москве, Петербурге, Киеве; а пока что многих московских студентов-болгар материально поддерживали Иван Денкоглу и другие купцы.
Решение Захария созрело еще раньше – в 1838 году.
Время это в биографии художника знаменательно по крайней мере двумя обстоятельствами.
3 мая Захарий оканчивает портрет Неофита Рильского.
Конфликт с пловдивскими чорбаджиями, вспыхнувший из-за истории с училищем и о котором речь пойдет ниже, был в разгаре, и художник переживал глубокое разочарование в Пловдиве и пловдивцах.
О желании Захария ехать учиться в Россию мы узнаем из адресованного Неофиту Рильскому письма от 24 июня 1838 года; по-видимому, оно было не первым, касающимся этого вопроса.
«Кир Йоан приходил ко мне и прочитал присланное Вами письмо из Одессы, и я понял все, что было в нем. <…> Нельзя ли попросить их, чтобы они узнали, каким образом можно поскорее поступить в царскую Академию и сколько потребуется в год расходов такому человеку, как я, чтобы стать человеком. И можно ли свободно и позволяют ли посещать другие академии и фабрики. <…> Объявите им об этом, а также о возрасте моем, 28 годах. Это моя большая просьба к Вам. Посоветуй мне, можно ли их спросить посредством Вашего письма. Поскольку предвидится, что г. Христо Хина обязательно поедет в Одессу 1 августа и там он договорится».
Через несколько дней Захарий пишет снова:
«Священномудрословный г. учитель, смиренно кланяюсь тебе, святую десницу Вашу целую.
Это третье письмо, на которое не получил ответа. Сейчас прошу Вас порадовать меня одним письмецом. Сейчас имею к Вам большую просьбу. Просим Вас написать одно письмо Априлову и Палаузсву с Вашей стороны и ради меня, что знаешь и засвидетельствовать мое желание и силу моего ремесла… Знай другое, что так договорились с З. х. Кирооглу написать конто с номерами. И он повезет его в Одессу.<…> А письма, о которых тебя премного просим и до земли тебе кланяемся, пиши по-гречески, и как только их напишете, заставьте господина Калистрата переписать их по-болгарски. А г. х. Кирооглу обещает оценить и связаться с Априловым и Палаузовым, и с ближайшими генеральскими людьми, объявить об этой нашей работе. А я, как посмотрю, у наших чорбаджиев такое холодное сердце на это добро. Я привык уже не только не досаждать им, но и не принуждать их. Поэтому принадлежу Вам и хочу, чтобы не только г. Априлов и Палаузов просили обо мне, но подтвердили одним письмом г. х. Киру, который беспокоится о моей просьбе. И с моей стороны напишите им одно письмо, молящее и жалостливое. И не позволяет мне время очень распространяться, но остаюсь благонадежным и жду Вашего скорого ответа. 1838, июня 30-го. Филибе.
Самого священномудрословного нижайший ученик Захарий X. Иконописец.
<…>
1 номер. Можно ли поступить в Петербургскую царскую академию, которая является и иконописной и халкографической.
<…>
3 номер. Пусть узнают, можно ли свободно ходить на фабрики, где делают зеркала и картон (мукава), изготовляют лак, то есть табакерки, и подносы, на которых подают сладости. И может ли человек свободно ходить по академии и фабрикам и какими средствами в год должен он располагать, чтобы стать человеком.
<…> И какая сила моего ремесла. Правду им скажи, сколько есть мастеров в Турции, на Святой горе, в Стамбуле, в Румелии и в Иерусалиме – ни один не может поднять мой карандаш. Только если кто в Европе учился, о нем мы не говорим. <…> Но не говорю это ради похвальбы, а чтобы засвидетельствовать правду. Напиши и о чем другом знаешь и что прилично. <…> А я не забуду это добро до самой смерти…»
Видно, все было не просто, но Захарий не оставляет мысли о поездке в Россию. В ноябре он вновь напоминает Неофиту: «Если сейчас возможно сообщить о том деле любезным г. Априлову и Палаузову, спроси их, свободно ли можно ходить по фабрикам (тем фабрикам, где делают портсигары, подносы и халкографию) и могут ли они мне это предоставить».
Захарий был уже не юношей, которому, в сущности, нечего терять, а взрослым двадцативосьмилетним человеком, зрелым, сформировавшимся художником, пользовавшимся репутацией одного из лучших иконописцев. И если он решает ехать за тридевять земель на чужбину учиться, то юношеский энтузиазм, равно как и ущемленное непризнанием самолюбие, из числа побудительных причин следует исключить.
К тому же Захарий совсем не склонен был преуменьшать и недооценивать себя и свое место – настоящее ли, будущее – в болгарском искусстве. Достаточно трезвое понимание необходимости серьезного профессионального образования вполне уживается с представлением о себе как о лучшем художнике на Балканах. И даже если наивная «самореклама» имела целью побудить Априлова и Палаузова действовать и хлопотать более активно, все равно наш художник излишней скромностью не страдал. Но какой огромный для него смысл таится в знаменательной оговорке: «Только если кто в Европе учился, о нем мы не говорим»!
По всей вероятности, Захарий имел какое-то представление о петербургской Академии художеств, о программе, а вернее, о характере обучения в ней: во всяком случае, он достаточно ясно высказывает свое желание учиться прежде всего иконописанию и гравированию по металлу. Кроме того, в нескольких письмах он упоминает о русских литографиях и своем интересе к этому виду графики. Но представления эти весьма смутные: сказывается отсутствие прямых контактов с русским изобразительным искусством и русскими художниками, а информация из вторых и третьих рук оказывалась далекой от полноты. И все же почему Захарий не говорит о живописи как таковой, хотя, будучи уверенным в своем зографском мастерстве, он должен был в первую очередь стремиться именно к светской станковой живописи европейского типа? Может, не надеялся на понимание со стороны Неофита Рильского, воззрения на искусство которого были все же обусловлены критериями и канонами традиционного иконописания?
Опережая свое время, Захарий одновременно остается в нем, разделяя господствовавшие тогда взгляды и представления. Не случайно столько внимания уделяет он художественному ремеслу, которому хотел бы научиться в России, и в частности русским лакам: расписные табакерки и подносы он мог видеть в домах пловдивских негоциантов. Мышление его, художническое самосознание синкретично: он не отделяет «искусство» от «зографства», «художества», «художественной рукоделия», «ремесла». Художник в его понятии должен уметь делать все – писать иконы, картины, портреты, пейзажи, исполнять церковные стенописи и декоративные панно, рисовать орнаменты, резать гравюры, оформлять учебные пособия, расписывать табакерки…
Но поездка Захария в Россию так и не состоялась. Почему? Мы можем только гадать о причинах; нигде никаких указаний или хотя бы намеков нет; отгадка, наверно, в не дошедших до нас письмах или иных источниках.
Может быть, сыграла роль встреча в Самокове с очаровательной Хаджигюровой, которую брат и невестка сватали ему в жены? Какие-то личные переживания и неурядицы, о которых идет речь в адресованных Неофиту Рильскому письмах 1839 года?
Думается, что вероятнее всего дело в неутешительном ответе В. Априлова: он должен был сообщить Неофиту Рильскому, а тот Захарию Зографу, что в петербургскую Академию принимают юношей и к тому же современно образованных, что традиционной иконописи, равно как и росписи табакерок и подносов, там не учат. В одном из своих писем тех лет Неофит утешает Захария, убеждая, что в Болгарии он полезен именно как иконописец и что здесь не знают и не понимают иного художества.
Как бы то ни было, по в биографии нашего художника остается еще одна загадка; как будто нарочно, они возникают на самых решающих поворотах жизненной и творческой судьбы Захария Зографа, к тому же одна следует за другой.
Мечта об учебе все же осуществилась, хотя и далеко не полностью: в ход событий вмешался «его величество Случай».
Примерно в эти годы в Пловдиве оказались два французских художника. Имен их не знаем; кто они и каким образом попали в Болгарию, которую в первой половине XIX века не посещал, насколько нам известно, ни один из европейских художников, тоже не знаем. Наиболее вероятно, что это кто-либо из художников-репортеров, корреспондентов парижских иллюстрированных изданий. Возможна и такая гипотеза: ими могли быть приглашенные в открывшееся в 1834 году стамбульское военное училище преподаватели рисования. В Пловдиве они провели несколько месяцев, и у них Захарий брал уроки. (Впоследствии возникла легенда, что, привлеченные успехами и талантом Захария Зографа, французы звали его с собой в Париж, но пловдивские меценаты якобы отказали ему в субсидии, что будто бы послужило причиной конфликта художника с местной верхушкой; достоверных подтверждений этой версии нет.)
Вся эта загадочная история известна из одной-двух фраз в письмах Захария Зографа Неофиту Рильскому. 25 февраля 1841 года он сообщает: «И когда пришел из Копривштицы в Филибе, к двум мастерам французским зографам, брал уроки для понимания живописи и узнал, что много воспользовался их художеством». В других письмах Захарий пишет, что брал у двух французов уроки «соразмерности человеческого тела» и что «у одного француза зографа брал уроки три месяца и много пользовался его услугами».
Но из писем неясно, когда же состоялась встреча Захария с французскими художниками: в Копривштице он был в 1838 году, когда писал портрет Неофита Рильского, но почему в таком случае он не упоминает о французах в письмах по поводу поездки в Россию? Свидетельство полученной подготовки могло бы способствовать успеху задуманного предприятия. Никак нельзя исключить, что в Копривштице Захарий бывал и позднее, так что приходится довольствоваться расплывчатым «конец тридцатых – начало сороковых годов».
Очевидно, знай мы имена, даты и другие немаловажные подробности, многое бы прояснилось в биографии Захария Зографа, но, наверное, самым существенным является установление самого факта этих уроков, поскольку с ними принято связывать большую и важную сферу его интересов и творческой работы – сферу искусства светского, в которой Захарий Зограф выступает не зографом, но художником в современном смысле понятия. Трудность в том, что ни одна работа такого рода не датирована, и потому нельзя с полной уверенностью утверждать, что исполнено до встречи с французскими художниками, что во время учения и что после него.
Папка с рисунками и акварелями – это и есть «академия» Захария Зографа, которую он прошел по существу самостоятельно. Ведь нельзя и переоценивать уроки таинственных французов; они могли помочь Захарию советами, объяснить какие-то правила пропорций и линейной перспективы, но все главные проблемы и трудности ему приходилось преодолевать, полагаясь лишь на свои силы, интуицию, упорство.
Произведения эти создавались, что называется, для себя и, конечно, никак не предназначались для показа. (Даже в письмах Неофиту Рильскому нет упоминаний о них.) Они необычайно интересны не только и, быть может, не столько абсолютными художественными результатами, сколько психологически, как свидетельство той внутренней работы, которая в эти годы составляла содержание жизни Захария не меньше, чем создание иконы и церковных росписей. В этих рисунках видятся и потаенные от стороннего глаза стремления и надежды художника, его так и не свершившаяся мечта, и большая, сильная воля, которую трудно было предположить в самоковском зографе.
Пришлось позабыть то, что он уже давно не подмастерье, а признанный мастер своего дела, отрешиться от того, чему его учили и что он умел, стать ему, тридцатилетнему, прилежным и старательным учеником в той школе, где лишь один, но великий учитель – природа. «Наблюдение природы, которая есть творение руки божьей, – писал Неофит Рильский, – возвышает душу к богу и помогает человеку совершенствоваться». Неофит говорил это как богослов и философ, но еще ни один болгарский зограф не помышлял о наблюдении природы как основном источнике творчества. Разве только еще совсем юного Зафира увлекали опыты чичо Захария: сохранилась его тетрадь 1839–1840 годов, в которых эскизы иконных композиций перемежаются с такими необычными для сына и ученика Димитра Христова сюжетами, как «Кентавр», «Турецкое кафе», «Косари» и другие.
В рисунках и акварелях Захария Зографа ясно и отчетливо отразился своеобычный сплав старого и нового, порыва вперед и оглядки назад, анализа и синтеза, учебы и вдохновения, упражнений в зографском ремесле и опытов в искусстве нового типа. Здесь все вместе: перерисовки гравюр, припорохи для икон из ерминий, эскиз ктиторского портрета, орнаменты, натюрморты, зарисовки с натуры, женские портреты, учебные постановки, перспективные штудии, пейзажи, архитектурные фантазии, акварели, рисунки карандашом, углем, сангиной, тушью – пером и кистью, штрихом и размывкой… Все рядом и все важно – и неизвестное ранее разнообразие материалов (надо полагать, результат общения с французскими художниками), и сюжеты, и само смешение столь разнородных работ, и их одновременность – творческая «кухня» художника, свидетельство его настойчивых исканий и громадного труда.
При всей своей уникальности в болгарском искусстве тех лет Захарий Зограф выступает в этих работах очень характерным художником эпохи Возрождения, причем Возрождения не только в значении его национального варианта, но и в общепринятом смысле этого историко-культурного понятия. Художник открывает для себя и для болгарского искусства не умозрительную гармонию божественных сфер, а чувственно осязаемую красоту реального мира. Захарий рисует обнаженные тела, пейзажи, цветы, архитектуру, портреты; в этих штудиях, иногда робких и несовершенных, порой неожиданно для ученика свободных и уверенных по исполнению, совершалось познание эстетической ценности окружающей его действительности, и сам процесс его приносил художнику неизъяснимую радость первооткрывателя. Обобщая этот этап, характерный для искусства многих балканских стран начала и середины XIX века, В. Полевой указывает, что в нем возникло «нечто большее, чем жанр», и ему присуще «заинтересованное внимание к окружающему миру, стремление взглянуть на него широко открытыми глазами, непосредственно откликнуться на живые впечатления и уловить характерное в природе и человеке. <…> Это внестилевое и внеакадемическое движение не только осуществило миссию своего рода первичного художественного познания окружающего мира, но сформировало важные эстетические понятия о человеке и природе» [63, с. 19].
Собрание гравюр, уроки французов могли сыграть роль «подсказки», однако решающими стали непосредственные впечатления и огромное, неодолимое желание рисовать и рисовать, вобрать в свои произведения весь видимый мир. Захарий пишет «Водопад в Бачкове» (размывка тушью), акварели «Источник у монастыря св. Козьмы и Дамиана» и еще один пейзаж с лодочкой под парусом. Очевидно, легче всего увидеть в них дилетантизм наивного и старательного самоучки с его гипертрофированной зоркостью, одинаково внимательного ко всем, даже к второстепенным деталям, «пересчитывающего» все листочки и не умеющего еще целостной формой обобщить, к примеру, кроны деревьев. Но вероятно, важнее увидеть в них и романтический настрой, возникший на скрещении западных влияний и внутреннего мироощущения художника, не бесстрастно фиксирующего природу, но одухотворяющего ее субъективным видением, и его восторг открывшимся богатством природных форм, столь непохожим на скудный набор иконописных фонов.
Целостность образа природы остается во многом еще недоступной нашему художнику, однако отдельные ее фрагменты он порой воссоздает с мастерством тонкого и изящного рисовальщика. Особенно много изображений цветов – роз и тюльпанов. Захарий любуется их естественной красотой, и его перо, палочка сангины или кисть тщательным образом прослеживают форму каждого лепестка, листа и стебля, каждый их изгиб и движение. Захарий стремится к предельной точности видения и изображения, но эта точность не выхолащивает образ живой природы, а наполняет его волнующей трепетностью, острым ощущением ее первозданной, нетронутой красоты. С тем же тщанием и деликатностью выписывает он тончайшей кисточкой прихотливый узор крыла ночной бабочки, пишет далеко не «ученически» натюрморты с разрезанным арбузом, дыней, виноградом.
Познание и поэзия, просветительство и художество в Захарии рядом, вместе и воедино, одно в Другом; но особенную энергию приобретает устремленность художника к позитивному знанию в многочисленных перспективных штудиях. Иногда это работы учебного характера: архитектурный мотив выстраивается по правилам линейной перспективы, обозначаются точки схода основных линий, соотношения пространственных планов с предметами. В других случаях верх берет «игра», воображение, и тогда «ученый» зограф, вдохновляясь, бесспорно, архитектурными пейзажами алафранги, непринужденно сочетает формы современного ему болгарского зодчества с фантастическими образами неведомых городов; переданные почти документально эркеры и интерьеры пловдивских домов соседствуют с великолепными дворцами на широких, расцвеченных сочной светотенью площадях.
Парадоксальность ситуации – и с ней не раз встретимся в творческой биографии Захария Зографа – заключается в том, что, будучи подчас скованным и неуверенным в решении простых задач, где нужны лишь первоначальные навыки и знания, он оказывается более свободным и, можно сказать, артистичным в случаях куда более сложных и трудных. Среди его графических портретов тоже есть рисунки, в которых угадываются стереотипы западноевропейской романтической гравюры, но по крайней мере две-три акварели – это портреты с натуры, и портреты превосходные, подтверждающие, что этот жанр отнюдь не случайный эпизод в творчестве Захария Зографа.
Один из них семейное предание связывает с пловдивской красавицей-гречанкой, в которую будто бы художник был страстно влюблен; другой – тоже по традиции, но уже более обоснованной и достоверной, – с Катериной Хаджигюровой, будущей женой Захария. Художник явно неравнодушен к обаянию и красоте Катерины, он любуется гармонией ее лица, мягкостью выражения, чуть наивной кокетливостью; но это и неравнодушие художника, идущего от внешнего сходства к индивидуальности модели, к воплощению характера очень реального и в то же время поэтического и возвышенного, от деликатной и свободной моделировки лица, одежды, пушистого меха к столь же изящному и чистому внутреннему рисунку образа.
Между тем все было не так идиллично и безмятежно, как это может показаться. Крутой и несговорчивый характер Захария Зографа, его бескомпромиссная преданность усвоенным в юности идеям и идеалам просвещения и народного блага таили в себе возможность конфликтов, и они не заставили долго ждать себя.
Человек практического склада ума, Захарий жаждал конкретных действий в общественной жизни, а она в значительной степени сводилась тогда к борьбе за народное просвещение. Априловское училище в Габрове послужило примером, во многих городах открывались или готовились к открытию школы нового типа – не килийные училища при церквах, но светские школы взаимного обучения, вызывавшие, к слову, озлобленную неприязнь константинопольского синода. В Свиштове Христаки Павлович реорганизовал эллино-болгарское училище в чисто болгарское, в Калофере болгарскую школу взаимного обучения возглавил прогрессивно настроенный учитель Ботю Петков, отец будущего великого поэта-революционера Христо Ботева. Борьба с грекоманией, столь распространенной среди болгар той эпохи, с присвоенной греками монополией на образование стала насущной задачей и первостепенным условием достижения духовной независимости.
Особенно сильные позиции удерживали греки и грекоманы из числа чорбаджиев в Пловдиве. «Эти грекоманы-чорбаджии бесноватее кирджалиев и более осатанелые, чем янычары», – обвинял их Неофит Бозвели. Первая болгарская килийная школа в Пловдиве была открыта при церкви св. Варвары в 1829 году по инициативе и на средства Вылко Чалыкова. Но и спустя десятилетие Васил Априлов имел основания так писать Чалыкову: «В этих городах (Пловдиве и Адрианополе. – Г. О.)не существует болгарских школ. Мало того, мы слышали, что и греческие школы в тех местах, где они имеются, содержатся болгарами, а не греками. Малодушные и недальновидные соотечественники! Вы служите и жертвуете свои деньги, добытые с таким трудом, для прославления народа, который стремится всегда держать вас под своей властью» [40, с. 151].
Мечтой Захария Зографа было создание в Пловдиве болгарского училища взаимного обучения на манер габровского. Разумеется, что ни о каком другом кандидате на должность главного даскала, кроме Неофита Рильского – лучшего болгарского педагога, у него и мысли не было; к тому же теплилась надежда снова жить в одном городе с горячо любимым учителем, наслаждаться постоянным общением с сердечным другом. Открытие школы требовало денег, и немалых, – на постройку здания, содержание училища, жалованье учителям; кроме как на богатых «отцов города» или, как их называли, «первых людей», надеяться было не на кого. Нелегко было также добиться согласия властей, еще труднее – высшего греческого духовенства.
Переписка Захария с Неофитом открывает исполненную драматизма историю.
Поначалу были надежды. «Знай, что я начал тот разговор с чорбаджиями…» – сообщает художник в письме от 21 декабря 1835 года и заканчивает его так: «Они не варвары, как в Габрове или Самокове». «Своей собственной рукой напиши и передайте его чорбаджиям, – просит он поддержки Неофита, – чтобы они проснулись для блага болгарского народа, что я и сам им предлагал. Хорошо, если бы они вначале взялись за просвещение болгарского народа, покажешь им, почему у греков так хорошо обстоят дела с обучением. <…> Извести, какая цена тебя удовлетворит, чтобы я мог говорить с чорбаджиями. Итак, я найду способ и сделаю это с тем, чтобы в Филибе была славянская школа. И сделаешь доброе дело».
3 апреля следующего, 1836 года: «Узнаешь, учитель, когда приедешь, сколько труда я вложил, чтобы дать им понять нашу Болгарию, почему в наше время она гибнущая и почему учение ведет к благополучию…»








