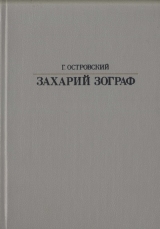
Текст книги "Захарий Зограф"
Автор книги: Григорий Островский
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 17 страниц)
Захарий, очевидно, не остался в стороне. Художник составлял и отправлял в Стамбул письма и жалобы на самоковских владык, а поскольку искусной росписью конака снискал благоволение Хусреф-паши, употребил свое влияние на пользу сограждан и общего дела. Вместе с Захарием Зографом движение за независимость болгарской церкви в Самокове возглавили его шурин Захарий Хаджигюров, ставший впоследствии представителем Самокова в Стамбуле, торговец Димитр хаджи Смрикаров, учившийся когда-то с художником у Неофита Рильского, учитель Сотир Чавдаров, издатель и типограф Никола Карастоянов и другие видные самоковчане.
Не остыла и поддерживаемая перепиской с Неофитом Рильским жажда просветительства; к тому же это было семейной традицией. Брат Димитр почти четверть века состоял бессменным контролером школьной и церковной казны, немалые суммы жертвовал он и на печатание книг; Зафир в 1843 году субсидировал издание «Общего землеописания» К. Фотинова, затем «Истории Александра Македонского» и других книг. После Пловдива и Тырнова Самоков, однако, видится Захарию закосневшим в невежестве. «Знай, – пишет он в 1850 году известному поэту и педагогу Найдену Герову, – почему наш Самоков пропащий в учении, почему наш Самоков отличается большим варварством и царит в нем большое несогласие. Поскольку наш болгарский род обычно живет в несогласии, общие работы лежат мертвыми. Из-за грубых и простых людей народная и отечественная польза не должна умереть, но пусть бог позаботится об их просвещении. Наше состояние достойно оплакивания…»
Мелькнула было надежда, что энергичный купец из Таганрога самоковчанин Караспасев сумеет преодолеть сопротивление митрополита Матея и равнодушие местных чорбаджиев, добьется открытия в Самокове школы наподобие габровского училища, но и та угасла. В письмах Захария все чаще прорываются раздраженные интонации; горечь окрашивает его последние исповедальные письма Неофиту Рильскому.
Так и шло время, все чаще сменяя короткие просветы надежд на затяжные полосы разочарований и пессимизма. Но однажды весенним днем 1851 года вернувшийся с Афона резчик по дереву и ювелир Атанас Телодурос принес в Самоков письмо.
В письме эпитропа Великой лавры св. Атанасия Кирилла Мельхиседека было сказано: «…решили с божьей волей расписать… католикон (соборный храм. – Г. О.)известковой штукатуркой (фресками. – Г. О.),но подумали поэтому обратиться к живописцам не случайным, а к самым опытным мастерам, которые не только известны, но и познали красоту ремесла. Как таковых избрали вас троих, дабы с единодушием и единомыслием приступили к росписи храма, которая может продлиться три года за исключением зимы, во время которой работа прекращается. Весь материал для иконописания и стенописи, краски, цвета, роспись будут за счет монастыря, а от вас требуется карандаш (калем – каменный карандаш для стен. – Г. О.)и искусство».
Далее шла речь об условиях оплаты.
Предложение было адресовано самоковчанам Димитру Христову и Йовану Иконописцу, Димитру Молерову из Банско. Почему обошли Захария Зографа, пользовавшегося наибольшей славой и признанием, и почему все же на Афон пошел именно он, а не брат и другие приглашенные, остается только гадать. Может, руководители греческой обители прослышали о репутации Захария, борца за самостоятельную болгарскую церковь? Может, брат Димитр, Йован и Димитр Молеров, признав неоспоримое первенство Захария, отказались в его пользу от престижного и выгодного заказа?
Как бы то ни было, но Захарий собрался в дорогу. Приглашение на Святую гору польстило честолюбивому зографу: Афон – земной удел богоматери, вторая после гроба господня святыня христианского мира; хождение туда почти приравнивалось к паломничеству в Иерусалим. Да и засиделся он в провинциальном Самокове без большого дела… У Карастоянова Захарий раздобыл изданное им в 1846 году «Краткое описание святых двадцати монастырей для паломников, которые идут на Святую гору, и для тех, кто желает знать о чудесах в святогорских монастырях».
Не все могли позволить себе столь дальнее путешествие, но для каждого православного паломничество на Святую гору было заветной мечтой. Есть некоторые основания полагать, что Захарий Зограф и раньше бывал на Афоне. В его приходно-расходной книге находим собственноручную запись: «1843 до Святой горы и Стамбула на харчи 825 грошей». И больше никаких следов такого памятного путешествия – ни в письмах к Неофиту Рильскому, нигде! Относится ли эта запись к паломничеству самого Захария или же имеет иной смысл, точно не известно, но вероятность его исключить, видимо, нельзя.
Для болгарских художников Афон имел особое значение. После падения Византии здесь поддерживался очаг византийской культуры и искусства, с XV столетия это был и центр болгарского искусства, а во второй половине XVIII – начале XIX века многие идеи национального Возрождения возникали в среде афонских просветителей и зографов, распространяясь оттуда на болгарские земли. Афонская школа живописи XVIII века – один из важнейших истоков искусства болгарского Возрождения. Монументальные росписи и иконы афонского письма служили образцом для подражания; сюда устремлялись и многие зографы – учиться или работать. На Афоне, видимо, бывал и отец Захария Христо Димитров; там учились самоковчанин Йован Иконописец, банские зографы Димитр и Симеон Молеровы, многие другие. В монастырях хранились древние рукописные сочинения писателей и философов болгарского средневековья, хроники и летописи, русские, сербские, греческие, латинские и иные старопечатные книги; в одной из келий Хилендарского монастыря рождались строки бессмертной «Истории славяно-болгарской» отца Паисия.
Апрельским утром Захарий двинулся в путь. Дорога была дальняя – через всю Болгарию к Солуну, а там уже недалеко и вдающийся в Эгейское море трехпалый Халкедонский полуостров, один из выступов которого и есть Святая гора. Ночлег и отдых художник находил в болгарских селах; он с любопытством походил по Солуну, прислушиваясь к многоголосью уличной толпы – греки, турки, валахи, сербы, евреи, цыгане, итальянцы, венгры, левантийцы, арабы… Городом и окрестностями правил твердой рукой Васиф-паша; власть его не распространялась на Афон – он лишь собирал со святых отцов харач – поголовный налог, да за колокольный звон полагалась дань в пользу матери султана. Еще жива была намять о восстании 1821 года: более четырех тысяч поддержавших греческих патриотов афонских иноков тогда нашли смерть в устроенной башибузуками Лобут-паши резне; потом десять лет гарнизон чинил на Афоне грабежи и насилия.
Чем ближе к Святой горе, тем многолюднее. Сотни и сотни разноплеменных и разноязычных богомольцев, паломников, монахов, сборщиков пожертвований, любознательных путешественников, торговцев иконами, образками, лубочными гравюрами, крестами, четками и другим святым товаром стекались сюда со всех концов православного мира. Немало было калек и убогих, надеявшихся на чудесное исцеление от недугов, прокаженных, устремлявшихся в убежище при грузинском Иверском монастыре, еще больше нищих, юродивых, блаженных, отчаявшихся неудачников.
Вот уже городок Эриссо – ворота на Афон, еще несколько часов езды – и таможня, за которой простиралась Святая гора на восемьдесят верст в длину и двадцать в ширину. Логи и овраги, сухая, каменистая земля, пирамидальные кипарисы на склонах гор, каштаны, оливы, лавр, кое-где виноградники, сады, огороды… В горах собирают растущие на отвесных скалах маленькие розы с медовым ароматом; бывает, что и срываются с высоты, но ведь паломники хорошо платят за эти «цветы богородицы». Существам женского пола доступ на Афон заказан: не только женщинам любого сана и возраста, но и кошкам, собакам, коровам, свиньям, овцам, курам и гусыням, так что на дорогах можно увидеть только волов и мулов, в горах дикого зверя, а в небе орлов и стрижей…
Посредине полуострова – городок Карей с фундаментом древнейшего на Афоне храма Успения богородицы, возведенного в 335 году. Отсюда протат – соборное верховное судилище – руководит всей жизнью на Святой горе; в его ведении монастыри, эллинское богословское училище, дома полицейских и таможенных чиновников. По субботам базары, многолюдные, но не шумные, как обычно: тихо и чинно продают и покупают образки, ладанки, иконы, гравюры, кресты, молитвенники, псалтыри, евангелия; на рождество, пасху и успение – большие ярмарки. Здесь же, в Карее, и главные иконописные мастерские. Впоследствии Захарий не раз побывает в этих мастерских с подвешенными к потолку двуногими стативами (мольбертами), познакомится и сойдется со многими афонскими иконописцами – прославленным Геннадием Зографом, русским Поликарпом, греками Прокопосом и Михаилом Ташидисом, искусными мастерами Никифором и Германом, с их учениками Герасимом, Антимом и Гавриилом, Атанасом из Афин, болгарином Матеем и другими.
Из Карея видна вершина Святой горы. В незапамятные времена здесь стоял храм Аполлона, а божеству служил прорицатель Афос (отсюда и название Афона). На самой вершине возвышалась золотая статуя Аполлона. Когда же после казни Иисуса, гласит легенда, сюда пришла богоматерь, идол застонал, рухнул и канул в морской пучине; язычники были обращены в истинную веру, а на Святой горе соорудили несколько храмов. Подниматься сюда нелегко – часа три по крутым каменистым склонам, но зато в ясные вечера при заходе солнца можно увидеть острова Лемнос, Тасос, Имброс, Самофракию, а дальше в одной стороне гору Олимп, в другой Константинополь…
Вокруг куда ни глянь – обветшавшие от времени башни монастырей, обнесенных высокими стенами с железными воротами, – греческих, болгарских, русских, сербских, валашских, молдавских, грузинских… Только больших храмов не менее тридцати, десять при скитах, двадцать на кладбищах, да еще около двухсот часовен. Монастыри Иверский, Пантократора, Каракаллу, Ставрониката, апостола Павла, Вартопед – один из самых больших, богатых и почитаемых, Зографский, Хилендарский… Неподалеку от Карея, на берегу моря – Руссика, русский монастырь св. великомученика Пантелеймона, основанный во времена князя Владимира и сына его Ярослава. Еще в конце XVIII века здесь было полторы тысячи монахов, три церкви и двадцать часовен, привлекавшие толпы паломников множеством святынь, нетленных мощей угодников и чудотворных икон. В добрые старые времена русских, болгар, сербов было куда больше – только болгарских обителей, по свидетельству Паисия, не менее десяти, а сейчас греки потеснили сербов в Вартопеде, болгар в Зографе и даже русских в Руссике: славянам нынче отводилась подчиненная роль, и надменные ставленники константинопольского патриарха взирали на них свысока.
Крепостью болгарского духа на Афоне оставался монастырь Зограф, немало претерпевший от пиратов, латинян-крестоносцев и османов, но тысячу лет хранивший огнище болгарской культуры. Легенда гласит, что основали обитель в 919 году три брата, но не знали они, кому посвятить церковь. Проснувшись поутру, увидели на чистой доске лик святого Георгия; икона стала главной святыней соборного храма, а монастырь назвали Зограф; имя это закрепила слава работавших там болгарских иконописцев. Монастырь – белые стены келий, четырехэтажные корпуса, надвратная церковь с часами, храм св. Георгия, ленточная кладка которого напоминала Рильский монастырь, церкви Кирилла и Мефодия и Успения богородицы, известная чудотворными иконами XIV века «Богоматерь Аравийская» и «Фануил-ската» – расположен в трех-четырех часах хода от Карея, на северо-западном склоне Святой горы, над отвесной пропастью глубокого оврага, в густом лесу. Со стен взору открывались богатые и просторные угодья монастыря, россыпь скитов, церковок и часовен, еще дальше – пронзительная синь моря да монастырская пристань, что рядом с древней сторожевой башней, рыбачьи парусники под афонским черным флагом с белым крестом.
Многое влекло сюда Захария, и впоследствии он часто свободные от работы дни проводил в Зографском монастыре. Ему интересно было беседовать с архимандритом Анатолием, горячим патриотом родного края, иноком высокообразованным и к тому же владевшим привезенной им из России большой библиотекой, с недавно вернувшимся по окончании Духовной академии в Петербурге монахом Мелентием, игуменом Илларионом, старым знакомцем по Преображенскому монастырю отцом Матеем. Сосланный на Святую гору, Матей и здесь остался все тем же ниспровергателем основ, непокорным бунтарем и к тому же фанатичным изобретателем вечного двигателя, которым он намеревался осчастливить свой угнетенный, погрязший в нищете и невежестве народ.
Здесь, в Зографском монастыре, звучала болгарская речь, жила память об отважном и мудром победителе Византии царе Иване Асене I, посетившем в 1230 году Афон и щедро одарившем Зографскую обитель, об Иване Рильском, которому посвящен один из приделов соборной церкви, Науме Охридском, Михаиле Болгарском, Гаврииле Лесновском, Козьме Зографском и других болгарских святых – просветителях, героях, мучениках, смотрящих ныне со стен церквей Успения богородицы и св. Георгия, об отце Паисии, завершившем здесь свою «Историю славяно-болгарскую». И рядом со святыми их земляки, простые смертные, ревностное благочестие и дары которых отвели их ктиторским портретам место рядом с бессмертными: хаджи Петко, Герасим Василий из Ловеча и его сыновья Коста и Недялко, проигумены Евтимий и Порфирий… В часовне Иоанна Предтечи, что в Иверском монастыре, вновь болгарские ктиторы, запечатленные кистью Захария Монаха в 1815 году: хаджи Гено с сыновьями Райно, Зане и Добри из города Котел, Сава Илиоглу из Шумена…
С удивлением и радостью, окрашенной каплей горьковатой ревности, Захарий убеждался в том, что многое в его искусстве было предвосхищено исполненными около 1780 года фресками церкви Успения богородицы, еще больше – искусным Митрофаном Зографом, расписавшим в 1817 году храм св. Георгия. Болгарский монах-стенописец, вероятно, видел творения итальянских мастеров Ренессанса и барокко и от них позаимствовал сложные пространственные построения своих композиций. Однако весь жизнеутверждающий, мажорный лад этих росписей с их повышенной звучностью чистого локального цвета, трогательной достоверностью типажа и наблюденного реквизита, наконец, патриотический замысел галереи великих мужей болгарской истории и болгарской церкви – все это ставит роспись Митрофана Зографа в ряд памятников искусства национального Возрождения.
Другая точка притяжения для Захария – Хилендарский монастырь на северном склоне Святой горы, почти столь же древний – с 1180 года, столь же богатый – даже в Москве было его подворье, подаренное Иваном Грозным, и знаменитый, как Зографский. Треугольный в плане замок, обнесенный высокими стенами с бойницами и неприступными оборонительными башнями, соборный храм Введения пресвятой богородицы на двадцати шести беломраморных колоннах, о ста четырех окнах и одиннадцати порталах – самый красивый и роскошный на всем Афоне, ленточная кладка двухцветного кирпича, крыши, крытые плоскими камнями, – все это производило большое впечатление. Таким и представлял себе Захарий монастырь: в его собрании была панорама Хилендарской обители, гравированная на меди в 1779 году в Вене. Во времена Паисия проигуменом здесь был его родной брат Лаврентий; другой брат, хаджи Вылчо из Банско, постарался в 1757 году о росписи часовни Ивана Рильского. Память о нем запечатлена в ктиторском портрете, а самый дух национального «протовозрождения» сохранился в патриотических идеях житийных сцен, радостной узнаваемости болгарского типажа, болгарского пейзажа, болгарской этнографии.
Болгария была далеко, и она была здесь, со своей трагической и героической судьбой. Несколько лет в мрачной и сырой темнице Хилендарского монастыря провел архимандрит Неофит Бозвели из Котела – великий патриот, просветитель, педагог, борец за независимость Болгарии и болгарской церкви. Его страстные филиппики против фанариотов, грекоманов, османских властей разносились по всей стране, а константинопольская патриархия называла его «неугомонным и развратным попом» и наградила прозвищем Бозвели (так звали одного разбойника). В 1844 году он бежит с Афона в Стамбул, но уже в июле следующего года патриаршая полиция снова арестовывает Бозвели и его ближайшего друга и соратника Иллариона Макарио-польского. Вновь тюрьмы, кандалы, башня св. Атанасия на Афоне, затем каземат Хилендарской обители; Илларион – в подземелье монастыря Симона и Петра. В заточении Неофит Бозвели создает ставшие знаменитыми и широко известными в списках публицистические произведения-диалоги «Плач бедной Матери-Болгарии» и «Просвещенный Европеец, полуумершая Мать-Болгария и Сын Болгарии»; там же, в тюрьме, он и умер в 1848 году, а Иллариона Макариопольского освободили два года спустя по ходатайству русского ученого и путешественника Андрея Муравьева.
На самом южном окончании полуострова, у подножия острога Святой горы, на берегу залива Контессо, откуда видны острова и вдали едва-едва угадываются Дарданеллы, раскинулась Великая лавра святого Атанасия, владевшая «сердцем» Афона – Святой горой. Здесь нашему художнику предстояло встретить и проводить лето, осень, зиму, весну и снова лето…
На своем веку Захарий повидал немало монастырей, можно сказать, большая часть его творческой жизни прошла в иноческих обителях. К строгости монастырских уставов и запретов он привык, однако многое на Святой горе было ему в удивление и тягость. Игумены в общежительных монастырях (Зографский, например, стал таковым в 1849 году) имеют большую власть; им целуют руки и падают в ноги; послушание – это самый верный, «царский» путь к вечному блаженству, и ценится оно выше поста и даже молитв. (В необщежительных, к примеру в Хилендарском, устав куда как посвободнее: каждый живет по своему разумению – ходит в церковь или нет, ест в трапезной или в келье, отчета не требуется; но ведь это низшая ступень иночества.) Заутреня в афонских церквах длится четыре часа, литургии – вечерняя и всенощная – по два, по воскресеньям и праздникам еще больше, а на сон всего пять часов. Схимники в своих кельях каждодневно и под бдительным наблюдением старцев кладут по сто земных и тысячу двести поясных поклонов. Пища вегетарианская, лишь раз-два в неделю кусочек рыбы; в скитах – ни масла, ни вина, ни рыбы, разве что по большим праздникам. (К слову, греческие игумены угощались не только кофе, но и вином с водой, а русские – не только чаем, но и водкой…) В кельях можно было иногда увидеть книги, пистолеты, джезвы, мангалы, но, как правило, здесь были только иконы, стол да покрытая войлоком койка – одеял и подушек не положено. Воздух спертый и кислый, убирают раз в год, перед пасхой, блохи и клопы столь же обязательны, как распятие на стене; бань и в помине нет, купаться в море нельзя, так что мытье здесь не в обычае.
Впрочем, быт более или менее наладился если не лучшим образом, то во всяком случае сносно, тем более что Захарий был не иноком, а мирянином и монастырский устав, не столь уже и строгий, поскольку лавра – монастырь необщежительный, на Захария распространялся лишь отчасти. Архимандрит Вениамин и лаврские эпитропы оказались внимательными к его нуждам, и Захарий, смирившись со многими неудобствами, сумел как-то приспособиться к афонскому образу жизни и со временем даже находил отдохновение и приятность в способствующем душевному покою размеренном и однообразном течении дней. Да и сама лавра, укрытая от жаркого солнца в тени густых зарослей ореха, олив, кипарисов и каштанов, со множеством источников, виноградников, садов и лужаек, пришлась по сердцу.
Основанная в X веке, лавра знала времена расцвета и годы упадка, и хотя испытала немало разорений и бедствий, чинимых латинянами-крестоносцами, пиратами, сарацинами, но и поныне удерживала первенство среди афонских обителей. Здесь было великое множество особо почитаемых святынь – часть пелены Христа и орудия страстей, чудотворные иконы, келья св. Атанасия на хорах соборного храма (и сегодня здесь можно видеть следы бесчисленных коленопреклонений), его же надгробие в приделе Десяти мучеников – с железным жезлом и написанным красками на плите ликом. С лаврой были связаны несколько лет жизни патриарха Евтимия Тырновского; там же могилы святых и великомучеников Пахомия, Константина, Романа, Никодима, Дамаскина, пострадавших в XVIII столетии за веру от рук басурман. В соборе на удивление паломникам выставлено Евангелие весом в полтора пуда, напечатанное в Санкт-Петербурге повелением императрицы Елизаветы Петровны в 1758 году.
Еще во второй половине XVIII века в лавре насчитывалось более четырехсот монахов, сейчас же – вдвое меньше, но вид монастыря был внушителен и впечатляющ. Мощные стены высотой в десять и длиной в три тысячи сажен, полтора десятка оборонительных башен и в их числе центральная, над воротами со стороны земли – Цимисхова, подъемные мосты, перекинутые через глубокий ров, своя пристань под крутым утесом придавали ей облик средневекового замка.
Под стенами лавры кладбище, церковь-усыпальница апостолов Петра и Павла, немного далее древнейшая, построенная, по преданию, самим Атанасием церковь Козьмы и Дамиана, еще много скитов, келий, малых церковок; за стенами тесно застроенные монастырские дворы с корпусами келий и шестнадцатью часовнями между ними и в башнях, соборным храмом Благовещения и св. Атанасия, церковью Введения богоматери и еще одной, небольшой, возведенной и расписанной уже в середине XVII века церковью св. Михаила Синадского. Там же трапезная – крестообразное по форме одноэтажное здание десяти сажен в длину и семи в ширину, с двадцатью четырьмя мраморными столами внутри. В 1536 году зограф Феофан Критянин с сыном Симеоном расписал трапезную фресками высокого совершенства – это лучший памятник афонской живописи, по определению Н. Кондакова. Трагические и скорбные сюжеты триумфа смерти, Страшного суда, смерти в пустыне и другие, удлиненные, вытянутые фигуры бесплотных аскетов, отшельников и страстотерпцев должны были напоминать вкушавшим здесь хлеб свой насущный инокам о бренности земного бытия.
Та же кисть украсила и католикон – соборный храм лавры, но в XVIII веке большая часть стенописи Феофана с Крита была скрыта под новой декорацией, да и та уже порядком обветшала. И все же храм великолепен! Сложенный из дикого камня, под тремя куполами, он обращен к миру двенадцатью вратами и семьюдесятью окнами. От древнейшего иконостаса резного камня сохранились лишь отдельные плиты, но внутреннее убранство поражает богатством и роскошью: стены облицованы внизу голубым фаянсом, царские врата и кафедра – перламутром, помост и тридцать семь колонн – цветным мрамором. К западной стене храма примыкает возведенный в 1814 году легкий и светлый нартекс – открытая аркада на десяти мраморных колоннах и двух столбах. Громадная, прорезанная проемами трех дверей наружная стена церкви, арки, одиннадцать куполов – в центре круглый и по пять овальных по сторонам, свежеоштукатуренные и чисто выбеленные, уже подготовленные под роспись, они словно изготовились к прикосновению кисти; помощники из числа учеников афонских иконописцев тоже ожидали первомастера.
Объем работы Захария не пугал; в монастырях Троянском, Бачковском, Преображенском он был не меньшим. Не очень-то робел он и перед нынешними святогорскими зографами. Афонская школа живописи, когда-то известная большими мастерами, достойно хранившими отблеск византийского искусства, в XIX столетии порядком измельчала. Сошли на нет просветленная духовность образов, величаво-царственная монументальность композиций, изысканные гармонии цвета и рисунка; влияния европейского академизма разрушили возвышенную условность средневекового искусства, а масляная живопись вытеснила благородную фреску. Русский ученый и путешественник Н. Благовещенский был еще снисходителен, когда писал, что «новейшую живопись Афона хотя нельзя похвалить за красоту рисунка, но зато она замечательна своею замысловатостью и обилием содержания». Другой наш соотечественник, П. Успенский, был более суров: новые афонские росписи, по его мнению, «достаточно грубы и небрежны, оскорбляющие всякий изысканный вкус». Тем не менее на Афоне, и прежде всего высшее духовенство, упорно держались за стародавние каноны, и Захарию дано было понять, что разные там вольности и отступления от них, быть может, и терпимы в провинциальных болгарских обителях, но недопустимы на Афоне. Но как окрыляло одно только сознание, что по его, Захария, художеству будут судить о Болгарии, болгарской живописи, болгарских зографах!..
Вместе с архимандритом Вениамином он часами мерил шагами нартекс, обдумывая и размечая будущие сюжеты и композиции. Просвещенный кир слушал зографа внимательно, но в тонкостях ортодоксальной теологии, равно как и в восточно-христианской иконографии, был авторитетом, и спорить с ним было по меньшей мере бесполезно. Заказчик знал, что хотел, и за свои деньги – к тому же немалые – намеревался получить то, что было ему надо. В конце концов решили в среднем куполе нартекса поместить символы веры, в пяти куполах – сцены Апокалипсиса по Иоанну Богослову, в других – евангельские притчи. На стене над левыми вратами – «Второе пришествие – праведные души в раю», далее «Страшный суд», «Падение Вавилона», композиции богородичного цикла – «Хвала богородице», «О тебе радуется благодарная тварь…» и другие. Затем – вселенские соборы, искоренившие пагубные заблуждения ариан, духоборов, несторианцев, иконоборцев и всех иных еретиков, очевидно, богородица и небесный патрон лавры св. Атанасий, ангелы и архангелы, ветхозаветные пророки и евангелисты, отцы церкви и святители…
По вечерам Захарий листал ерминии, взятые в богатейшем лаврском книгохранилище чужеземной печати Библии с гравюрами Ганса Гольбейна, Дюрера, других немецких, голландских, итальянских мастеров, чертил эскизы, наброски. Конечно, Захарий кое-что позаимствовал оттуда, и при желании можно без особого труда указать на те или иные первоисточники. Но менее всего он был ремесленником-копиистом или эпигоном: «что» – это предписано священным писанием, традицией, предшественниками, заказчиками, но «как» – это принадлежало художнику, и только ему.
Захарий не хотел и уже не мог быть «как все»; он, что называется, выломался из средневековой системы творчества – во многих отношениях внеличностного, анонимного, коллективного, основанного на канонических традициях. Многое еще удерживало самоковского зографа, и прежде всего инерция этих традиций, непреложная реальность исторических и личных ситуаций, в которых он жил, учился и работал, – в границах этой системы, и чтобы сломать, разрушить ее, преодолеть силу ее притяжения, нужны были не усилия одиночки, а большие общественные потрясения. Но не менее важно было внутреннее, духовное освобождение от этих канонов, осознание неповторимости своей индивидуальности, отличающей «я» от «других», ценности своего мировидения, своего воображения, своего, незаемного таланта. В юности это понимание жило в нем скорее интуитивно, как предощущение чего-то очень важного и необходимого, теперь же оно укоренилось в сознании художника, его отношении к жизни, людям, искусству, к самому творческому акту как реализации себя в живописи. Но ведь были кир Вениамин, эпитроп Кирилл Мельхиседек и по крайней мере двести пар глаз…
В одном из куполов Захарий нарисовал небесный свод, солнце, луну, звезды, – наверное, вспомнилось при этом самоковское отрочество, когда он, пятнадцатилетний, познавал космогонию по «Рыбному букварю» Верона. А рядом – трагические видения гибели всего сущего…
«Апокалипсис» требовал от художника фантазии и воображения, и он с интересом писал огненные реки и смерчи, вавилонских блудниц на семиглавых чудовищах, крылатых скорпионов и рычащих львов, четырех всадников, несущих человечеству мор, глад и смерть, и чтоб слышны были громы небесных битв и трубный глас ангелов, оседлавших фантастических чудищ. Холодные, сумрачные тона должны были воссоздать ужасающую атмосферу неминуемого конца света, но в самой неуемной изобретательности художника ощущалась такая радостная увлеченность созиданием чего-то невиданного, что потрясенному зрителю безысходные откровения Иоанна Богослова начинали казаться народной сказкой, страшной, тревожной… и «ненастоящей».
Столь же свободно и непосредственно отдается Захарий потоку воображения в «Страшном суде», представленном на этот раз не в единой композиции, а в последовательности заключенных в квадратах отдельных сцен: в огненной реке плывут и тонут грешники, все виды адских мук уготованы им в преисподней торжествующими чертями. Художнику важнее всего было передать физическое и моральное уродство грешников, ужас и боль, исказившие их лица гротескными гримасами. Поскольку сюжет не только дозволял, но и предполагал изображение наготы, Захарий пишет жертв Страшного суда обнаженными, а явную нехватку опыта, знаний и навыков восполняет экспрессивной выразительностью контуров и жестов корчащихся в геенне огненной, старательным подчеркиванием анатомических деталей и подробностей. И эта наивная, исполненная глубокой веры убежденность художника в реальности созданного его кистью мира переводит евангельскую тему в иной план, сливающий легенду и жизнь в нерасторжимое единство.
Иные качества открываются в изображениях евангельских притч о милосердном самаритянине, богаче и бедном Лазаре, лепте вдовицы, фарисее и мытаре, блудном сыне и других. Драматизм ситуаций смягчается более успокоенными интонациями, ровными и плавными ритмами несколько торжественного и возвышенного повествования. Где только открывалась возможность ввести в него живую природу, причем не просто как условное обозначение места действия, а пейзаж как самоценный жанр, носитель образного и эмоционального начала, Захарий не упускал ее. Возникают широкие эпические панорамы, имеющие первостепенное значение в воплощении замысла; многие фрагменты воспринимаются завершенными «чистыми» пейзажами, в которых усматривается один из важнейших истоков будущей болгарской пейзажной живописи, ее предыстория. «…Природа, которую Захарий Зограф постоянно изображает в росписях, – утверждает Е. Львова, – играет очень важную роль в его искусстве. Это не плоскостный, абстрактный фон, а некая в общем контексте тема, сопровождающая основной сюжет и эмоционально окрашивающая каждую сцену» [48, с. 79]. В росписи вкраплены крупные, яркие цветы, напоминавшие художнику луга и поля Болгарии, в которых он видел символ жизни и плодородия; вдоль аркады – орнаментальный пояс «перьев», цветочных гирлянд и букетов, в которых без труда просматривались чисто самоковские мотивы. В этих сценах, равно как и в композициях богородичного цикла, Захарий, как никогда ранее, самозабвенно и увлеченно отдается завораживающей, колдовской власти цвета. В одних сценах он аранжирует холодноватые, почти акварельно нежные и прозрачные тона – блекло-зеленые, голубые, лимонные; в других цвет теплый, густой, насыщенный: розово-красное, пурпур, индиго, оливковое, оранжевое… Соединяясь то в будоражащих контрастах, то в мягкой и сглаженной гармонии, цвет как бы обретает энергию воплощенной в цветопластику образной мысли, а в целостности своей все это порождает личный и неподражаемый стиль художника.








