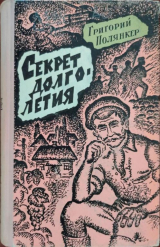
Текст книги "Секрет долголетия"
Автор книги: Григорий Полянкер
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 31 страниц)
– Перестань, не раздражай! – облизывая сухие губы, перебил его кровельщик. – Чего захотел!.. Хоть бы шрапнели поесть, сухарика… Нужно, пожалуй, сходить к Михайлу Шевчуку в Петривку… Может, разживемся картошкой. Да, я обещал починить ему крышу… Но никак не вырвусь. С тобой возился и с клячей твоей.
– Ничего, теперь я уже человек. Вот только поправится моя конячка, тогда заживем, как у бога за пазухой… Будем ездить, она нас будет кормить…
Шмая удивленно пожал плечами:
– Вот чудак!.. Она будет нас кормить?.. Где же ты видел, чтобы лошадь человека кормила? Я вот до сих пор думал, что человек лошадь кормит…
– Язык у тебя без костей… Давай без шуток!.. Скоро поправится лошадка, и заживем мы припеваючи…
– Не говори гоп, пока не перескочишь. Мне кажется, что твоя кобылка скоро ноги протянет… Что ж, меньше хлопот будет…
– Типун тебе на язык! И что ты за человек, не пойму! Когда ты уже будешь разговаривать по-серьезному? Ей-богу, не встречал еще таких, хоть столько лет сижу на облучке и немало людей повидал на своем веку…. Весь мир плачет, стонет, а ты, разбойник, все шутишь и смеешься. Для тебя все трын-трава…
– Что ж, я не в ответе за то, что делает весь мир… Если б мир у меня спросил совета, как жить миру, я, может быть, кое-что и сказал бы… Но пока меня не спрашивают, я имею право жить, как мне нравится… – И, подумав немного, продолжал: – Знаешь, приятель, если бы ко всем нашим бедам и лишениям прибавилась еще меланхолия, нам бы оставалось лишь одно: петлю на шею – и конец… А человек и так очень мало живет на свете. И живет один раз. Уныние точит его душу, как червь яблоко. Вот и не надо допускать его к своей душе…
Хацкель смотрел на товарища широко открытыми глазами. «И черт тебя знает, разбойник, – думал он, – откуда у тебя такие мудрые слова берутся, если ты ни в каких гимназиях и семинариях не обучался?..»
Шмая пошел в дом, покопался там несколько минут и вернулся со своим взбухшим солдатским мешком. Здесь было все его имущество, с которым он теперь не расставался. Снова сел на завалинку и сосредоточенно начал искать бритву, которой давненько не пользовался. Надо было сбрить бороду, а то, в самом деле, зарос, как зверь.
Он вытащил помазок, бритву и натолкнулся на потертый конверт, в котором лежали пожелтевшие письма и фотография молодой черноглазой женщины.
Лицо Шмаи на миг осветила улыбка, но тут же исчезла. Он хотел было спрятать карточку, но Хацкель уже протягивал к ней руку:
– Не прячь. Дай-ка взгляну…
Рассмотрев фотографию, балагула почесал затылок и лукаво подмигнул:
– Да, что и говорить, хороша бабенка… Верно, солдатская любовь?.. Где-нибудь в походе подцепил душечку?
– Нет…
– А кто ж она? Расскажи!.. Думаешь, поверю, что ты три года с гаком на фронте был, весь мир прошел и остался ангелом божьим, девок не прижимал, в гречку не прыгал? Ни за что не поверю!..
– Эту женщину я в глаза не видел… Вот только на карточке…
– Рассказывай басни!.. – ухмыльнулся Хацкель. – Если б я в пути такую встретил, думаешь, прошел бы мимо?
– Да что ты ко мне привязался! – в конце концов рассердился Шмая. – Говорю же, что никогда ее в глаза не видел. Это жена моего фронтового друга, Корсунского… Вместе с ним в окопах лежали…
– Интересно!.. А как же его жена попала в твой ранец? Ох, разбойник, не хитри! Скажи правду…
Слова приятеля возмутили кровельщика.
– Не люблю, когда у человека мысли грязные!.. Нехорошо это, – проговорил Шмая, вырвав у него из рук карточку. Молча спрятал ее в солдатский ранец, развел в чашечке мыло и, намылив щеку, начал осторожно бриться.
Хацкель сосредоточенно следил за тем, как ловко Шмая скребет физиономию, и после долгой паузы сказал:
– Тоже нашел время прихорашиваться. Больше тебе, видно, думать не о чем!.. Ты это для бабенки, что на карточке, стараешься, а? – И, подмигнув, добавил: – Горячая, видать, бабенка, погулять бы с такой и теперь не помешало бы!.. И помирать не жалко!..
– Не смей так говорить! Она честная женщина и мать. Ты ей в подметки не годишься, грубиян. И если ты еще хоть одно плохое слово посмеешь о ней сказать, ей-богу, побью!..
– Тише! Не кричи! Не трогал я ее, – оправдывался Хацкель. – Чего ты на меня набросился? И ты не забывай, что женщин не трудно найти, а вот верного друга…
– У тебя, брат, мозги набекрень, – сурово глядя на него, сказал взволнованный кровельщик. – У тебя всякие глупости на уме, а у меня, как посмотрю на эту карточку, душа от боли разрывается. Тебе, я вижу, ничего показать нельзя. О серьезных, душевных делах с тобой не поговоришь.
Заговорились приятели и не заметили, как кляча в это время богу душу отдала. Хацкель бросился к ней, стал тормошить, звать Шмаю на помощь, будто тот мог воскресить ее. Но Шмая был занят бритьем и только махнул в ответ рукой:
– Дай скотине спокойно издохнуть. Не мучь ее…
Хацкель, опустив руки, постоял около лошади несколько минут, потом подошел к завалинке и, глубоко опечаленный, сел рядом с приятелем.
– Не тужи, брат! – сказал тот, когда закончил бритье и лицо его совершенно преобразилось, стало молодым и приятным. Оно, правда, немного вытянулось, щеки впали, но глаза по-прежнему блестели задорным блеском, а лихо закрученные усы придавали нашему разбойнику вид бывалого солдата, только что пришедшего с фронта на побывку.
– Шмая, дорогой мой, – не сдержался балагула, с восхищением глядя на него. – Да ты прямо-таки красавчик, жених!.. Теперь за тобой все девки бегать будут…
– А как же! – важно проговорил кровельщик. – Зачем же нам ходить с бородами, как нищим? Погоди, сейчас и ты у меня побреешься, как миленький! Ведь ты всего на несколько лет старше меня, а уже на черта похож. Твоя рыжая борода очень старит тебя. Это никуда не годится! Глядя на тебя, можно подумать: старая калоша!.. Возьми побрейся…
– Не морочь мне голову! И сам я бриться не умею… Что я, цирюльник? И вообще борода мне не помеха!..
– Сразу видно, что ты служил в обозе!.. Какой это солдат, если бриться не умеет? Разве на фронте парикмахеры за нами ходили: «Не желаете ли побриться?» Сами скреблись… Ну ладно, подставляй-ка свою бороду, мигом обкарнаю… И физиономию поскребу. Перед дорогой это необходимо…
– Перед какой дорогой? – удивленно уставился на него балагула. – Что ты болтаешь? Разве можно все бросить на произвол судьбы и потащиться неизвестно куда?.. Совсем сдурел человек!
– О чем ты беспокоишься, Хацкель? Твоих дворцов никто не захватит, а твои сахарные заводы обойдутся и без тебя… Грешно в такое время сидеть здесь сложа руки!
– Не пойму я тебя! Как можно так легко бросать дом, землю, на которой прожил всю жизнь?
– Мой дом теперь – вся Россия! Можем жить, где хотим, и никто нам слова худого не имеет права сказать. Свобода!.. Правда, пока еще будет настоящая свобода, придется еще всего натерпеться. И повоевать надо будет с контрой… Но это нас не должно пугать. Мы с тобой теперь вольные птицы, без семей, без крыши над головой. Терять нам нечего, а найти мы кое-что можем!..
Шмая порывисто вскочил на ноги, сгреб с карниза немного снега, вымыл лицо, вытер тряпкой и, направив бритву о ремень, быстро намылил лицо приятелю:
– Только не вертись, сиди спокойно!
– Сдурел, разбойник! А так разве я тебе не нравлюсь?
– Не нравишься! Уходим в большой мир. Будем пробираться туда, где уже установилась Советская власть, а туда мы должны явиться чистыми, опрятными, ясно тебе?
– У меня, Шмая, такое горе… Последняя лошадка издохла… Что я теперь сто́ю, когда остался с одним кнутом?.. Мне бы теперь деньжонок раздобыть… Вокруг много брошенного добра, прибрать бы это все к рукам и обзавестись хорошим хозяйством… Тогда я и без твоей свободы и без твоей власти проживу…
Шмая посмотрел на него и покачал головой:
– Эх ты, мелкая у тебя душа! За старое цепляешься?.. Говорил же я, что у тебя мозги набекрень… Куда ты гнешь, дурак? Видно, жизнь тебя еще ничему не научила… – И, подумав немного, добавил: – Конечно, известно: как волка ни корми, он все в лес смотрит…
– Да чего ты разошелся! Я просто так сказал… Ты не сердись…
– Нет, Хацкель, такие разговоры мне не нравятся… С такими мыслями далеко не уедешь. Нет в тебе понимания, желчь в твоей крови завелась, а это плохо… Советская власть, коммуна этого не потерпят…
– Поздно меня учить! Каким родился, таким и умру…
– Нет, брат, мы с тобой, вижу, сватами не будем! Разные у нас мысли… С таким спутником опасно двинуться в далекий путь… Ты еще осрамишь меня перед всем миром…
При мысли, что он может остаться здесь в одиночестве, Хацкелю стало страшно, и он, помолчав, сказал:
– Что ж… пусть будет по-твоему! Постараюсь на людях не срамить тебя. Знаю, что ты лучше разбираешься в политике… – И, похлопав Шмаю по плечу, добавил, задорно ухмыляясь: – Эх ты, разбойник, разбойник!.. Не человек, а какой-то колдун! Уж и я начинаю соображать, что ты прав… Ладно, пойдем с тобой в большой мир… Посмотрим, как нас там встретят. Терять нам и вправду нечего. Пойдем, пожалуй…
Шмая долго молчал, погруженный в свои тревожные думы. Он все старался намылить балагуле бороду, но безуспешно.
– Не вертись, пожалуйста! – повелительно сказал Шмая. – Несколько минут терпения, и я приведу тебя в божеский вид… Ну, посиди спокойно. Вот так… Потерпи немного, и будешь у меня как огурчик! Никто, глядя на тебя, не посмеет сказать, что ты балагула. Подумают: министр, артист погорелого театра!.. Чего зубы скалишь? Не смейся! У нас на позиции было заведено: перед наступлением, перед атакой мы хорошенько умывались, брились, стирали свои гимнастерки, чтобы враг видел: нам на него наплевать, мы его не боимся!.. А ежели уж, не приведи господь, пуля заденет, чтоб и на тот свет явиться в полном порядке, приличным человеком…
– Ой, осторожно! Что у тебя за бритва? Дерет так, что с ума сойти можно… Это не бритва у тебя, а секач! Изуродуешь ты меня, разбойник!.. Погоди, дай хоть передохнуть! – умолял Хацкель.
Но Шмая, не обращая внимания на его вопли, продолжал усердно орудовать бритвой:
– Сиди и помалкивай! Каждый солдат должен сам уметь бриться, особенно перед парадом… А теперь в зеркальце посмотри. Совсем другой компот!.. А то отрастил бороду, да еще рыжую к тому же… Все! Умойся!.. Теперь повяжи свой кушак с кистями. Надень сатиновую рубаху до колен и кнут в руки возьми… Вот ты и готов в путь-дорогу!
К вечеру мороз затянул ледком лужицы. Похолодало… Солнце только село, а приятели уже натопили печку, легли рядышком на полу, накрывшись старым сенником, будто между ними никакой ссоры и не было. Вскоре они крепко уснули.
Глубокой ночью Хацкель проснулся и стал будить товарища:
– Шмая, голубчик, ты спишь?
– Сплю!.. А что случилось? – сквозь сон спросил тот.
– Думал, что не спишь, и хотел кое о чем спросить…
– Ну спрашивай, только скорее. Спать надо!
– Собственно говоря, ничего не случилось… – осторожно сказал Хацкель, боясь рассердить приятеля. – Сон мне приснился… И я хотел, чтобы ты его разгадал…
– Что я тебе, гадалка? Разбудить человека среди ночи!.. Давно так сладко не спал, а тут ты на мою голову… Ну говори, что снилось!
– Ох, не спрашивай! Она, она мне приснилась, та, что у тебя на карточке… Эта черноглазая. Ох и растревожила она меня, не приведи бог… Давно такого не было… Ну и краля! Откуда ты такую взял?
– Тьфу, сатана! Пристал как банный лист… Говорил же я тебе человеческим языком, что я ее никогда в глаза не видел. Объяснял же… Это жена моего фронтового друга Корсунского. В одном отделении, в одной роте служили. Из одного котелка щи хлебали. Ну, что еще тебе сказать?.. Понимаешь?..
– Понимаю! А что же, я не понимаю? – осторожно проговорил Хацкель. – Но ты, кажется, хотел мне рассказать, откуда к тебе попала ее карточка…
Шмая молчал, хоть чувствовалось, что он встревожен. Он пытался снова уснуть, но сон не шел. Он поднялся с пола, стал искать табак, но, не найдя нигде ни крошки, сел на свою постель. Обняв руками колени и глядя в окно на светлые облака, окружившие яркий диск месяца, он задумчиво промолвил:
– Долго рассказывать…
– Ну и что ж? Долго так долго, времени у нас хватит, – отозвался Хацкель. – Просто не узнаю тебя! Раньше, бывало, и не просишь, а ты рассказываешь – всякие истории сыплешь, как из мешка… Всегда веселил людей, а теперь…
– Да, было такое, – после долгой паузы сказал Шмая. – А теперь не до басен мне. Тяжело на душе… Вспомнил своего друга Корсунского, его вдову, что на карточке…
– Так она уже вдова?
– Вдова… Сколько теперь вдов!.. Да. Шел тогда третий год войны. В роте осталось людей – по пальцам можно было пересчитать… Долго ждали пополнения, а его все нет и нет… Но вот пригнали новичков, еще не нюхавших пороху. Был среди них один высокий, крепкий, как дубок, парень, с большими синими глазами. Тихий такой, слова лишнего из него не вытянешь. С первого дня прилепился он душой ко мне, ни на шаг от меня не отходил. Ну, известное дело, я помогал ему, чем мог, рассказывал, что к чему. Военной выучки у него не было никакой. Сказали ему: там, в бою, научишься и стрелять и ходить в атаку. Пришлось мне его обучать этой мудрой грамоте – как людей убивать, хоть самому эта работа осточертела… Куда лучше по крышам с молотком и ножницами лазить… Но что поделаешь, враг на тебя прет – и коли штыком, бей прикладом…
Немного странный был этот новичок, совсем на солдата не похож. Идем с ним лесом, полем, я никакой красоты нигде не вижу, а он всем восхищается. Увидит, как хлеба растут или там подсолнух, – весь аж светится. Очень уж природу любил. А когда увидел, как мы топчем хлеба, как сады после артналета превращаются в обгоревшие скелеты, слезы у него на глазах выступили.
Не успел я сначала расспросить, кто он, откуда, – не до того было. Все время шли бои. Но когда немного стихло, тогда мы с ним и наговорились вволю… Хороший человек, хоть и странный. Подумай только, Хацкель! Лежим мы как-то в траншее, а он увидел цветок за бруствером, высовывается, срывает его и прижимает к сердцу, целует.
– Дурак! – кричу я ему. – Лучше хорошую девку обнимать!
– Точно такие цветочки, – отвечает он, – растут у нас, на Ингульце, в Таврической губернии… Ты что-то про девку говорил? Да у меня дома такая женушка осталась, что лучше и на всей земле не найти… – И тут вынимает он из карманчика ту карточку, что ты у меня видел…
Да, много он рассказывал о своей жене и о двух ребятишках… В еврейской колонии они живут.
– А это что такое – колония? Что-то не слыхал я… – перебил его балагула.
Шмая бросил на него удивленный взгляд:
– Эх ты, дубина! Вижу, Хацкель, разбираешься ты в истории как свинья в апельсинах. И как только ты прожил на свете, когда, кроме клячи своей и кнута, ничем не интересовался? Наверно, так никогда и не заглядывал в книжку или в газетку?… Было это, кажется, дай бог памяти, не то при Екатерине, не то при Александре… Позаботились цари о нашем народе и издали высочайший указ: изгнать наших единоверцев из родных сел и деревень и переселить их в Таврическую губернию. Были там такие забытые богом степи, которые еще не знали, что такое лопата, борона. Там только бурьяны росли, чертополох, пырей… Вечные суховеи. И земля каменистая, черт знает, что за земля. И людей там не было, только волки водились…
Ну, в один осенний день приступили жандармы к работе. Стали гнать тысячи семей с их насиженных мест. Этапным порядком гнали, как арестантов. Шли по раскисшей дороге женщины, мужчины, дети, старики. Падали на дороге, гибли от голода и холода, от разных болезней. Притрусят кое-как землей мертвецов, чтобы волки не растерзали их тела, и идут дальше. Подгоняют их нагайками жандармы… Сам знаешь, этого добра, слава богу, в России было в избытке при всех царях…
Наконец пригнали переселенцев в эту дикую каменистую степь и сказали им: «Живите здесь. Если камни вас прокормят – ваше счастье…»
И вот десятки тысяч обездоленных людей, голых, босых, измученных, начали устраивать свою жизнь заново. Из камыша и бурьяна соорудили шалаши, вырыли землянки, кое-как разместились и начали распахивать эту землю. Другого выхода не было. До города далеко, до бога – высоко, да к тому же им запрещалось ходить куда-либо на заработки…
Несколько лет обрабатывали люди землю, а суховеи все развеивали, жаркое солнце все сжигало. Разбили сады и виноградники, но что толку? Жди, пока они дадут плоды! Колонисты гибли, как мухи. Видно, на погибель пригнали их в эти дикие степи…
Но люди тут были напористые. Добились своего! Заставили землю родить хлеб, а виноградники и сады – давать плоды. Узнали об этом помещики Демидовы, Курчинские и холера знает, как их там звали, примчались туда с жандармами, стали сгонять евреев с этой земли. А колонисты взялись за топоры и вилы и пошли на жандармов.
Много крови пролилось в степи. Но переселенцы не отступили.
Так из года в год шла страшная драка. Переселенцы уж послали ходоков в Петербург, к самому царю. А там над ними только посмеялись, и вернулись они ни с чем. Тогда поняли колонисты, что должны надеяться только на себя. И они встали горой за свою землю, за свои сады и виноградники.
Тут помещики обратились в суд, жалуются, что их, мол, ограбили, захватили их земли. И царский суд присудил: вернуть землю помещикам… Но когда явились отряды жандармов забирать землю, снова их встретили топорами, вилами, лопатами. Снова пролилась кровь на этой земле. Но никакая сила не могла изгнать отсюда колонистов…
А помещики не успокаивались. Писали, жаловались, угрожали расправой. Суды не прекращались и длились до самой революции. Она и решила, кому принадлежат степи, сады, виноградники…
Шмая вытер рукавом взмокший от пота лоб, закурил и после короткой паузы продолжал:
– Ну вот, в тех колониях и жил мой дружок Корсунский… Там его деды-прадеды трудились. Это они первыми вспахали дикую степь, это они шли с топорами против жандармов, судились с помещиками и отстояли свой дом, свой кусок хлеба… Тихий человек был Корсунский, а смелый. В первом же бою заслужил «Георгия». Да вот ранило его смертельно осколком снаряда. Кое-как под страшным огнем подполз я к нему, быстренько перевязал, хотел дотащить до лазарета, но огонь был такой плотный, что нельзя было с места двинуться, голову поднять… Лежим мы рядом, я ему протягиваю баклажку с водой. Он глотнул и посмотрел на меня. Боже, что это был за взгляд!.. Я уже насмотрелся за три года, как умирают люди, и сам несколько раз умирал, но то, что я увидел тогда, словами не передать… Клянусь тебе, Хацкель, когда я увидел, как кончается этот человек, я подумал, что уж лучше бы мне умереть… Эх, жизнь солдатская!.. Несколько минут назад лежали мы в траншее, курили цигарки, грелись на солнышке, шутили, злословили, говорили о бабах. Корсунский приглашал приехать после войны к нему в колонию, в гости или навсегда. Работа там, мол, найдется. И вот они, солдатские мечты… Ты предполагаешь, а бог располагает. Один осколок, и все… Дал я ему глотнуть еще водички, а он слабеющей рукой отодвигает баклажку мою и говорит, еле шевеля губами:
– Прощай, дорогой Шмая, прощай… Не увижу я больше Ингульца… Умираю, а за что – сам не знаю… Там, на Ингульце, в колонии, живет моя жена, Рейзл звать ее. И двое мальчуганов… Плохо им будет жить без кормильца… Ой как плохо… Может, бог даст, ты, Шмая, уцелеешь в этой мясорубке, хоть напиши моей Рейзл… А если придется тебе когда-нибудь побывать на Ингульце, зайди к моим… Скажи, чтобы меня не ждали… Не суждено мне вернуться к жене и детям…
Больше, как ни старался, я не мог разобрать его слов. Это были не слова, а предсмертный хрип. Но вот, уже совсем безжизненной рукой, он с трудом вынул из кармана маленький узелок, окровавленный, мокрый:
– Спрячь… Передашь им, если… Ингулец… Колония… Рейзл….
Больше Корсунский не произнес ни слова. Синие глаза его навеки закрылись. Кончил свою жизнь молодой, сильный, благородный человек… Видно, крепко любил он эту самую Рейзл, если умер с ее именем на устах…
– Ну, а дальше что? – спросил Хацкель, который слушал приятеля, затаив дыхание.
– Дальше известно… – продолжал Шмая. – Вокруг ад кромешный, голову нельзя поднять. Да что тебе рассказывать! Сам небось был в том аду и хорошо все знаешь… Я прижался к застывшему телу Корсунского, и кажется мне, что в тот вечер тело друга спасло меня от пуль… Я лежал так, пока стемнело и немного затихло. Тогда я дал себе слово: если выберусь живой из этого переплета, непременно разыщу жену и детей Иосифа Корсунского, помогу им, чем смогу. Я снял с его шеи медальон, в котором должна была лежать его солдатская грамота: где жил, кто у него есть из родных, как их зовут. Но ничего этого я там не нашел. Развернул узелок. В нем была вот эта фотографическая карточка и несколько писем от жены. Да за время походов все стерлось, вымокло под дождем, и адреса я разобрать не смог. Точного адреса и у ротного писаря не нашел. Вот и все, что осталось после моего фронтового друга: фотография жены, несколько листочков писем, заржавевший медальон – солдатская грамота на тот свет…
С тех пор и бродит со мной по белу свету карточка незнакомой женщины… Клятву, которую я дал себе в тот страшный вечер, я не забыл. Но как ее выполнить? Удастся ли сдержать слово, когда такие дела пошли на божьем свете…
Шмая не заметил, как наступил рассвет. Хацкель подошел к печурке, растопил ее, бросил в огонь несколько картофелин, разломил оставшуюся краюху хлеба на две части, раскусил пополам единственную луковицу и протянул половину приятелю:
– Эх, дорогой мой Шмая-разбойник, ничего не поделаешь. Это и есть жизнь… – задумчиво сказал Хацкель. – Тяжело, конечно, но если мы примем к сердцу, взвалим на свои плечи горе всего мира, нас, ей-богу, не хватит…
Горькая улыбка промелькнула на губах Шмаи:
– Не подымешь, брат, эту тяжесть!.. Но живые должны взять на себя заботу о несчастных вдовах и сиротах. Ведь то, что случилось с Корсунским, могло случиться и со мной и с тобой… Тот осколок, который лишил его жизни, не долетел до меня всего на каких-нибудь полвершка…
– Все это хорошо, – перебил его Хацкель, – но первым делом давай перекусим, чем бог послал. Как это там говорится в священном писании: «Перед трапезой не лезет в голову никакая молитва…»?
Перекусив, Шмая накинул на плечи свою старую дырявую шинель, нахлобучил на голову солдатскую фуражку с не снятой кокардой, взял на плечи мешок и испытующе взглянул на приятеля, который собирался в путь явно без всякой охоты.
– Что-то больно долго, Хацкель, собираешься, словно барыня на роды… Давай скорее! Доброе дело всегда надо начинать спозаранку, – нетерпеливо бросил ему Шмая.
– Не торопись… Никуда мы не опоздаем… – недовольно пробурчал Хацкель. – Никто нас в шею не гонит, и никто нас нигде не ждет…
Он медленно, лениво натягивал на себя свой изодранный полушубок.
– Не яблоко съесть… В далекий путь собрались. И в страшное время. А ты не даешь даже подумать…
– А что тут думать? – спросил Шмая. – Мозги уже высохли от всяких дум. Перед нами весь мир настежь открыт…
– Плюет на нас этот мир с высокой колокольни!
– Ты, Хацкель, так про мир не болтай!.. Грех так говорить!
– Какой там грех! – огрызнулся балагула. – Чего стоит такой мир, где потомственный балагула должен топать пешком, а замечательный кровельщик сидеть без работы, глядя на покореженные крыши, как кошка на сметану, не иметь крыши над головой!..
– Ничего! Мы пойдем к Советской власти. Судя по тому, что я об этой власти слышал, она нам сродни. Ну, брат, пошли! Просидел ты всю жизнь на облучке, теперь попробуй на своих на двоих пройтись. Другие времена настали!
Выбравшись на околицу, безлюдную и пустынную, путники остановились. Дорогу им перебежала одичавшая кошка.
Хацкель покачал головой. Видно, нужно возвращаться назад. Плохая это примета…
Но Шмая-разбойник только весело махнул рукой:
– Чепуха, брат! Бабьи страхи! Сколько лютых псов нападало на нас, и они не смогли нас остановить, так теперь нас остановит какая-то паршивая кошка? Ну-ка, человек добрый, как ты это, бывало, своим лошадкам кричал, когда в гору они тащились: «Гайда, погибель на врагов наших! Пошли, мальчики, веселее!» Так, кажется?
Балагула ничего не ответил и, недовольный, сердитый, поплелся вслед за товарищем.
Они шли мимо дубового леса, то и дело оглядываясь на опустевшее местечко, до боли родное и любимое, где сейчас, кроме родных могил, ничего уже у них не осталось. Здесь прошли их лучшие годы. Но здесь и хлебнули они столько горя, что его хватило бы на три жизни…
Дорога вела в Петривку, в село, что лежало на полпути к железнодорожной станции. Шмая решил зайти к Михайлу Шевчуку и к Ковалихе попрощаться. Он не знал, успеет ли починить им крышу, но считал, что должен сказать на прощанье несколько хороших слов. Добрые люди, они пришли на помощь погорельцам в самые трудные минуты. Этого нельзя забыть. Надо повидаться, проститься со старыми друзьями. Кто знает, доведется ли свидеться с ними когда-нибудь.
Глава девятая
БЕЗ РУЛЯ И БЕЗ ВЕТРИЛ
Вечерние сумерки уже окутали верхние этажи домов и церковные купола, когда к похожему на тифозный барак деревянному киевскому вокзалу подполз эшелон, составленный из теплушек и замызганных классных вагонов с выбитыми окнами, с прошитыми пулями и осколками стенами и крышами.
Вагоны были до отказа набиты беженцами. Не меньше людей устроилось на крышах. Среди них примостились и наши старые знакомые – Шмая-разбойник и его спутник. Оба продрогли, потеряли свой бравый вид. И немудрено. Они сидели, прислонившись к трубе, откуда валил дым, и так почернели, что родная мать не узнала бы их. И все же они были счастливы. Ведь до того, как они попали сюда, им пришлось пройти пешком немало верст. И то, что на одной из глухих станций набрели на этот эшелон, тащившийся как черепаха, и нашли на крыше местечко, они считали наградой за все свои испытания.
Через каждые несколько километров поезд останавливался, и приходилось бежать в лес рубить дрова, так как без дров паровоз наотрез отказался двигаться дальше. Не раз бандиты обстреливали поезд, и путники мысленно прощались с жизнью.
Хацкель каждый раз ругал приятеля последними словами: зачем, мол, они пустились в такое опасное путешествие? Но Шмая твердил свое:
– Все, брат, к лучшему. Доберемся как-нибудь. Язык до Киева доведет.
Так они и ехали. Голодные как волки, они утоляли голод басней, веселым рассказом кровельщика, а жажду – снегом и ледяными сосульками, которых было здесь, на крыше, в избытке.
Долго, бесконечно долго тащился эшелон. Даже не верилось, что он когда-нибудь доберется до Киева. Не раз Хацкель предлагал все бросить, дойти до какой-нибудь деревушки и пожить там до весны. Но Шмая и слышать об этом не хотел. Не такой это человек, чтобы остановиться на полпути, испугаться невзгод и лишений. Хуже бывало, и не отчаивался. А тут впереди маячил заветный Киев – огромный город, куда со всех сторон тянулись люди в поисках счастья, работы, справедливости…
И теперь, когда поезд подполз к занесенному снегом перрону, кряхтя остановился и люди ринулись к дверям вокзала, откуда валили облака пара, Шмая просиял. С трудом оторвав от трубы окоченевшие пальцы и толкнув локтем озябшего приятеля, стал спускаться с крыши, крикнув:
– Ну, дружок, кажется, кончились наши мытарства!..
– Да, можно поблагодарить господа бога за его милосердие к нам…
– Ой, кажется, рано еще благодарить его… – снимая с усов примерзшие сосульки, молвил Шмая. – Кажется мне, что кончилась первая порция наших мучений, а теперь начинается вторая!
– Типун тебе на язык! – пробурчал явно недовольный балагула. – Мало нам страха пришлось испытать в дороге? Еще накличешь на нашу голову новую беду!.. Говорил я тебе: сиди дома и не рыпайся, а тебя понесло черт знает куда и зачем. И я, дурак, с тобой потащился…
– Хватит скулить!.. – усмехнулся Шмая. – Не пойму, что с тобой делается, никак тебя не раскушу… Ведь ты балагула по профессии и по призванию… Так сказать, вечный путешественник. А тут бесплатно тебя везли, и ты еще недоволен! Просто горе мне с таким попутчиком! Представляю себе, как измучился бы человек, пустившийся с тобой в кругосветное путешествие…
– Опять за рыбу гро́ши!.. – оборвал его Хацкель. – Ты мне лучше скажи, куда это мы прибыли? Неужели в самый Киев?
– А куда ж еще? На луну, что ли? Разве не видишь, какие здесь высокие дома, какие колокольни?..
– Интересно все-таки, какая теперь тут власть?
Шмая пожал плечами:
– Спроси что-нибудь полегче… Откуда мне знать? Вот пойдем помаленьку в город, там все разузнаем… А если нас к тому же нагайками встретят, сразу почувствуем, какая власть… Главное, что мы уже на земле, а не на крыше, и кости у нас пока целы.
– Ну, слава богу, что приехали на место… Можно бы и молебен отслужить…
– Смотри, как бы по нас панихиду не служили!
– Брось свои дурацкие шуточки! Сыт ими по горло… Значит, в самый Киев прибыли?..
– Опять двадцать пять! Ну сколько можно повторять одно и то же? Конечно, в Киев. А куда же? В Брембеливку? Разве не видишь, какие тут дома?
– Дома хороши, а вот вокзал что-то очень на конюшню смахивает… Не могли губернаторы построить приличное здание? Денег у них не хватало?
– Не твоя забота! Пошли скорее в помещение! Может, согреемся там. Совсем окоченел я.
Хлынувшая со всех сторон людская волна внесла их в помещение вокзала.
Балагула был прав. Длинный, с низким потолком барак и в самом деле напоминал огромный запущенный сарай, в который загнали немыслимое количество беженцев, раненых, солдат на костылях, потрепанных панов и потерявших свой былой блеск офицеров. Здесь стоял такой шум, что можно было сойти с ума. А воздух – хоть топор вешай…
– Ну, Хацкель, живем, брат, живем! Ура!.. – воскликнул Шмая, когда их обоих прижали лицом к влажной деревянной стенке, по которой разгуливали усатые тараканы. – Сердись не сердись, а раз благополучно добрались сюда, значит, суждено нам еще пожить на этом свете. На что мы теперь можем пожаловаться? С воинской службы, слава аллаху, вернулись благополучно. А теперь еще в поезде привезли бесплатно, чего нам еще не хватает? Дали бы только пожрать, а то скоро тебя съем, хоть ты, верно, не очень вкусный…
– Опять шутишь, разбойник? Давай все же как-нибудь выбираться отсюда, а то задохнемся в этом раю… Но куда мы теперь двинемся?
– Как это – куда? Ясное дело, в город!..
– Я понимаю, что в город. Но прежде давай расспросим, какая там власть… Мне что-то не нравится вся эта карусель… Посмотри налево: сидит на мешках какой-то с эполетами, а у соседа его на макушке гусарская фуражка. В правом углу пьяный казачишка бушует. А у дверей – целая орава синежупанников… Мешочники спят на узлах, а у стены какая-то девка рожает… Весело, ничего не скажешь!.. Вот и поди разберись, что происходит в городе и кто там верховодит…







