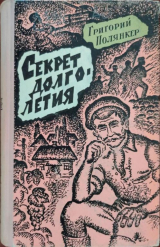
Текст книги "Секрет долголетия"
Автор книги: Григорий Полянкер
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 30 (всего у книги 31 страниц)
Оба умолкли. Многое мучило, волновало солдат. Их рассердил старик с гнилыми зубами, но глядя на голодных людей, на жадных ребятишек, которые сидели повсюду, доедая из солдатских котелков горячие щи, проникались к ним жалостью. Разве дети виноваты?
Шмая смотрел на пылающий город, на страшные развалины и, потянув Дубасова за рукав, задумчиво проговорил:
– А все-таки, скажу я тебе, дорогой мой, несколько развалин надо было бы здесь оставить навеки и огородить их забором…
– Это зачем?
– Как зачем? Чтобы немцы навсегда запомнили эту войну… Слыхал, что старик с гнилыми зубами говорил?.. Он уже о новой войне помышляет… И таких, как он, видно, немало осталось. Так пусть стоят эти развалины здесь, в Берлине, и тот, что когда-нибудь вздумает затеять новую войну против нас, пусть придет и посмотрит на них…
Дубасов рассмеялся:
– Ты уже, старина, говоришь, как настоящий философ!
– А ты что думал? На войне хочешь не хочешь, а поневоле станешь философом…
И Шмая-разбойник только хотел было что-то поведать Сидору о философии, как к ним подбежал Иван Борисюк и крикнул на ходу, что скоро дивизион снимается отсюда и кто хочет, может на несколько минут забежать посмотреть рейхстаг.
По правде сказать, Шмае здесь все очень не нравилось и не хотелось ничего видеть, но все же он считал неудобным перед товарищами не посмотреть, что это за рейхстаг…
– Пошли, пошли, старина, – сказал Дубасов, взяв Шмаю под руку, чтобы ему легче было идти. – А то приедешь домой, люди будут спрашивать, а что ты им расскажешь?..
Шмая задумался и после долгой паузы ответил:
– Может, ты и прав, Сидор, но не совсем… Я всю жизнь любил рассказывать о веселых вещах, а не о мертвечине. Не нравится мне здесь, все не нравится!..
И вот они уже подымаются по широким ступенькам, загроможденным разными обломками, пропитанным дымом и кровью. Стены разворочены. Горы кирпича и щебня высятся повсюду. Окна забаррикадированы мешками с песком, и свет скупо проникает сквозь продырявленные толстые стены. Здесь полным-полно солдат. И каждый, кто углем, кто мелом, а кто просто штыком, пишет свои имена на закопченных стенах и толстых колоннах.
Иван Борисюк поставил несколько ящиков из-под снарядов возле полуразрушенной стены, вылез на них и на самом верху написал: «Я пришел сюда из Киева мстить за отца. Гвардии капитан Иван Борисюк». На него глядя, становились на ящики и другие артиллеристы и тоже ставили свою подпись. Шмая долго колебался и вдруг попросил, чтобы подсобили ему вылезть на ящики. Взяв кусок мела, он вывел неровными буквами: «Здесь был гвардии подполковник Исаак Спивак» и чуть ниже «Здесь был пасечник с Ингульца Данило Лукач». Потом он проставил фамилии всех фронтовых друзей, которые не дошли до этого мрачного здания, осторожно слез на каменный пол и, с трудом сдерживая слезы, направился к выходу, пробиваясь сквозь толпы солдат и офицеров, которые бесконечным потоком шли сюда со всех сторон…
Как ни старался наш разбойник избежать новой встречи с врачами и сестрами, ему ничего не помогло. Последние дни, полные волнений, тревог, неожиданных встреч, совсем выбили его из колеи. Дали себя знать раны, нечеловеческая усталость. Он совсем плохо себя почувствовал, и товарищи отправили его в госпиталь.
В один из осенних дней к нему в госпиталь пришли фронтовые друзья и принесли новую шинель, сапоги – полное обмундирование. Увидев все это, Шмая-разбойник воскликнул:
– А это зачем же? Может, решили всю жизнь держать меня на военной службе?
– Нет, папаша! – обнял его Иван Борисюк. – Пусть люди видят, что домой едет не замухрышка какой-то, а заслуженный гвардеец с орденами, медалями, солдат, побывавший в самом Берлине… Вот и нужно, чтобы вид у тебя был боевой, бравый…
– Что ж, это верно… – подумав минуту, ответил Шмая, и на его морщинистом лице расцвела добрая улыбка. – Ты прав…
Спустя полчаса наш разбойник и в самом деле стал неузнаваем в новой гимнастерке, пилотке, в новой шинели и скрипучих сапогах. Он вышел в коридор с вещмешком за плечами, совсем как новобранец. А взглянув на себя в зеркало, даже рассмеялся:
– Ну видите, как нарядили? Как жениха! Теперь и не поверят, что человек четыре года как один день отбарабанил на войне…
– Кто это не поверит? – возмутился Сидор Дубасов. – Посмотрят на твой иконостас и еще позавидуют тебе! А если кто когда-либо скажет дурное слово, пусть люди его презирают всю жизнь!.. Хотя думаю: после такой тяжелой войны люди станут добрее, лучше, душевнее… Мы все пролили свою кровь за нашу землю, за нашу дружбу, люди всех наций, всех народов. И если, дорогой друг, повторится что-нибудь мерзкое из старого царского режима, будет очень плохо. Плохо для всех, если эта война не научит жить в дружбе, в согласии, как жили до войны, и даже еще дружнее…
Сидор Дубасов задумался. Он, кажется, никогда еще не был так взволнован, как сейчас. Видно, он долго думал, пока заговорил об этом, и, заметив, как внимательно его слушали окружающие, продолжал:
– Нечего греха таить, побывав на нашей земле, немцы оставили зловещий след. Много десятилетий их еще будут вспоминать с проклятиями. Они хотели разъединить, поссорить между собой народы нашей страны. Хотели посеять среди нас расовую ненависть и вражду… А у нас, советских людей, вера-то одна!.. Помню, я еще мальчонкой был, когда отца сослали в Сибирь на каторгу. За что сослали? За правду, за революцию… Вместе с ним, русским человеком, звенели кандалами в рудниках украинцы, белоруссы, евреи, грузины, армяне… И у всех была одна вера – вера в свободу и правду… Во время революции, в гражданскую войну с оружием в руках боролись за веру наших отцов русские, белоруссы, евреи, украинцы, казахи, таджики, грузины… И в эту войну опять, как всегда, мы были вместе. Одна у нас Родина, одна вера, и мы ее защищали, не щадя своей жизни…
Шмая смотрел на вдохновенное лицо друга, и в глазах его сверкали слезы. Он подошел, крепко обнял Дубасова и тихо проговорил:
– Золотые слова, Сидор… Я тоже много об этом думал, а вот ты так хорошо сказал. Спасибо тебе!
В коридоре госпиталя уже было тесно. Собрались врачи, сестры, ходячие раненые. Каждому хотелось пожать на прощанье руку старому солдату, который отправлялся домой, на родину. За то время, что Шмая здесь лечился, все к нему привыкли, полюбили его и сейчас с ним прощались, как с родным и близким человеком.
И вот уже мчится по развороченным, разбитым и сожженным берлинским улицам грузовая машина. Пожилые усатые солдаты, заполнившие кузов, оглядываются по сторонам, смотрят на развалины города.
На вокзале полно народу. Играет оркестр. Отовсюду слышатся звуки гармошки, песни, озорные шутки. Молодые бойцы прощаются со своими старшими товарищами. Вдоль перрона вытянулся длинный состав, украшенный красными флагами, плакатами, транспарантами:
«Принимай, Родина, доблестных сыновей!»
«Здравствуй, любимая земля, мы истосковались по тебе!»
«Встречай, Советская страна, солдат, штурмовавших Берлин!»
Шмая-разбойник и Сидор Дубасов стояли в тесном кольце своих друзей-артиллеристов, курили, смеялись, ловя на себе завистливые взгляды. Конечно, им можно было завидовать, они едут на Родину! Через несколько дней встретятся со своими родными и друзьями. Разве может быть для солдата большее счастье?!
Наконец раздалась команда: «Отъезжающим строиться!» – и вдоль вагонов построились пожилые бойцы. Провожающие отошли в сторону. На перроне выросла небольшая трибуна из огромных столов, и на нее поднялись знакомые командиры, генералы.
Шмая весь просиял, увидев генерала Дубравина, который сделал шаг к краю трибуны и, совсем как штатский человек, сняв фуражку, окинул беглым взглядом строй, усмехнулся в короткие усы, сказал напутственное слово демобилизованным воинам. Он поблагодарил за верную службу, за подвиги, за огромный солдатский труд, пожелал всем такого же доблестного и самоотверженного труда в колхозах, на фабриках и заводах, просил высоко держать знамя гвардейцев…
– Счастливого пути, друзья!
После Дубравина говорил еще кто-то, но Шмая не слышал его слов. Он не сводил глаз с генерала, в котором искал черты своего любимого ротного, первого красного командира, с которым его столкнула судьба в далекие годы гражданской войны.
Раздалась команда: «По вагонам!»
Сквозь шум прощальных возгласов, напутственных слов боевых друзей и грохот оркестра Шмая услышал свое имя и почувствовал, что кто-то опустил ему руку на плечо. Обернулся. На него улыбаясь смотрел генерал Дубравин:
– Видно, ты, товарищ гвардии сержант, совсем зазнался, не хочешь даже попрощаться со мной? Ты, правда, уже вышел из моего подчинения, но старую дружбу забывать не надо… Значит, домой едешь?..
– Так точно! Приказано ехать домой, товарищ гвардии генерал-лейтенант. Едем… Отвоевались!..
– Да, кто едет, а кто еще остается здесь… – грустно продолжал Дубравин. – Нам, верно, служить еще и служить. Завидую тебе, дружище, от души завидую… Нам тут еще много поработать придется, пока порядок наведем. Гитлеровскую мразь раздавили. А народ не виноват. Надо помочь ему стать на ноги, научить, чтоб он мирно жил и больше не стремился к войнам.
– Товарищ генерал! – вмешался Сидор Дубасов. – Думаю я, что после этой войны они уже никогда не захотят воевать…
– Как сказать, – улыбнулся генерал, – поживем – увидим… А пока работы много…
– Это, конечно, так… – кивнул головой Дубасов.
Генерал шутил с солдатами и все не мог наглядеться на своего старого друга:
– Так куда же теперь путь держишь, товарищ Спивак? На свой Ингулец? Хорошо там, верно, сейчас…
– Где уж хорошо! – махнул рукой кровельщик. – Коль враг побывал там, разве может быть хорошо? Жинка пишет, что считанные дома целы остались, люди в землянках и хибарках живут, коптилки да лучины вместо электричества… Да, фашисты отбросили жизнь нашу на сто лет назад…
Дубравин кивнул головой. Его загорелое бритое лицо стало печальным:
– Это ты прав, дорогой… Отбросили они нас на сто лет… Если б не война, не проклятые фашисты, какая жизнь уже была б! – И, подумав немного, добавил: – Ничего, народ у нас золотой… Дружно возьмется, скоро все отстроит, и жизнь наша еще краше будет!
– Точно! – раздались голоса вокруг. – Истосковались по работе. Немного отдохнем, и за дело!..
– Что ж, поезжай, разбойник! Устроишься, напиши, – пожимая руку старому солдату, сказал Дубравин. – Напиши мне непременно! Вот отслужу да и приеду к тебе на Ингулец… Вместе с тобой буду рыбу удить.
Шмая и все окружающие дружно рассмеялись. Задержав в своей ладони руку несколько смущенного однополчанина, Дубравин продолжал:
– Ты не думай, что я шучу… Приготовь мне рядом с твоим домом местечко, соседями будем… Пойду в отставку и к тебе прикачу. Будем с тобой ходить на рыбалку, на охоту. Зайцев у вас в степи, небось, много…
– Что вы, товарищ генерал! – смеясь, ответил Шмая. – Я-то ваш характер хорошо знаю. Такие в отставку, на отдых, не уходят… Вот я – совсем другое дело: возьму инструмент и начну опять крыши чинить, строить, а вам… вам служить и служить!
Они обнялись и троекратно, по старому русскому обычаю, расцеловались.
Солдаты молча смотрели на них. Большие светлые глаза генерала были влажны. Он махнул рукой растроганному другу и пошел в конец платформы, где его уже ждали.
Послышался долгий свисток принаряженного паровоза. Оркестр грянул марш. Под дружные возгласы провожающих поезд тронулся. Застучали колеса. Перед глазами замелькали развалины города.
Шмая стоял у окна рядом с Сидором Дубасовым и махал рукой товарищам.
Теперь, когда поезд стал набирать скорость, наш разбойник вспомнил, что многое из того, что хотелось ему сказать генералу и фронтовым друзьям, он так и не успел сказать.
Вслед за удаляющимся вагоном шли Иван Борисюк, Никита Осипов, молодые бойцы, прибывшие на батарею перед штурмом Берлина и заменившие погибших и вышедших из строя. Все что-то кричали ему вслед. Но уже трудно было разобрать слова, и Шмая почувствовал, как становится грустно. Трудно было расставаться с друзьями. Как он ни старался сдержать слезы, но они все катились по щекам.
Перрон и толпы бойцов, махавших вслед уходящему поезду руками, пилотками, исчезали в лучах заходящего солнца…
Шмая обернулся и встретился глазами с Дубасовым. Тот улыбнулся, глядя на расстроенного друга:
– Что, старина, может, передумал ехать домой? Еще не поздно… Сейчас остановлю поезд!..
– Что ты! – замахал руками кровельщик. – Самому ведь тоже трудно было с ребятами расставаться… А теперь скорее бы домой!.. Больше ничего не хочется… – И, подумав немного, добавил: – В Бресте слезем, Сидор, на несколько минут… Генерал Дубравин сказал, что прах Саши моего перенесли туда. Похоронили в саду, рядом с вокзалом… Мы успеем сбегать поклониться его могиле…
– Что ж, это можно, – грустно сказал Дубасов и опустился на полку, уронив голову на руки. – Ему от этого легче не будет, но мы, конечно, отдадим долг… Жаль, не дожил наш подполковник до этого дня…
Шмая достал кисет, закурил.
– Да… Лучшие наши ребята полегли, пусть земля им будет легка… Хорошо все-таки, что выполнили мою просьбу, перенесли прах сына… Хоть смогу иногда приезжать на его могилу…
Шмая подошел к окну, у которого столпились оживленные солдаты. Поезд набирал скорость, быстро мчался по чужой, неуютной земле, словно хотел скорее покинуть ее, эту землю, перепаханную бомбами и снарядами, сверкавшую миллионами осколков, кусками стали, чугуна, щедро пропитанную солдатской кровью. Солдаты смотрели на эту землю, а думали о другой земле – о своей, родной, близкой, до боли любимой. Вспоминали своих жен и матерей, детей и любимых. Всех радовала и волновала близость встречи с Родиной. Что они застанут дома? Что осталось после того, как по родным улицам прошла коричневая чума?..
Спустя несколько дней поезд остановился посреди степи, где торчал наполовину врытый в землю старый замызганный вагончик. Это был знакомый полустанок. Одну минуту постоял состав и, громыхая колесами, двинулся дальше, оставив над осенней степью огромные хвосты дыма.
Вагоны промчались перед глазами, скрылись вдали, и наш разбойник услышал громкие возгласы приветствий. К нему бежали люди с распростертыми объятиями, и он почувствовал, как к горлу подступает ком, душит его. Хотелось плакать от радости.
В нескольких шагах от него встречающие остановились, давая дорогу взволнованной седоволосой женщине в черном платке. В ее больших карих глазах сверкали слезы, и она смотрела на старого солдата с таким выражением, будто не верила, что это именно тот, кого она так мучительно ждала все эти тяжелые годы. За ней шли две девочки, уже вышедшие из детского возраста, но еще не ставшие взрослыми…
Девочки на какое-то мгновение остановились и одновременно воскликнули:
– Папка! Наш папа приехал! – Они бросились к Шмае в объятия, осыпая поцелуями его лицо.
Мать стояла в сторонке и смотрела на них, дав волю слезам.
Гость осторожно высвободился из рук детей, направился к жене:
– Ну что ж ты стоишь в сторонке? Насколько я помню, ты имеешь какое-то отношение к старому солдату…
Он нежно обнял ее, прижал к груди, крепко поцеловал и, выпрямившись, проговорил:
– Поседела немного, но это ничего… Видно, мудрости у тебя прибавилось, Рейзл, дорогая… Меньше будешь меня теперь пилить…
Сквозь слезы на ее лице проступила улыбка. Жена прижалась к его колючей шинели:
– Тьфу, тьфу, чтоб не сглазить… Такой же, как был… Ничуть, кажется, не изменился…
– А зачем мне изменяться? – приосаниваясь, сказал наш разбойник. – Нужно сбросить со счетов эти четыре года, и все будет в самый раз… Нужно забыть все, что было…
– Разве забудешь? Нет, родной мой, такое забыть нельзя…
Отвернувшись, чтобы скрыть невольные слезы, Шмая увидел в толпе человека на костылях:
– Овруцкий, ты? Ей-богу, не узнал!.. Разбогатеешь, значит…
– Да я уже разбогател… – ответил тот, радостно глядя на неунывающего друга. Он обнял его, прижал к себе, придерживая локтями костыли: – Значит, жив Шмая-разбойник, жив-здоров?..
– Сам видишь, прибыл в полном боевом порядке! – радуясь тому, что встретил многих своих старых друзей, ответил кровельщик и стал здороваться с остальными.
Шмая услышал всхлипывание жены, обнял ее. На них с завистью, со слезами на глазах смотрели женщины, которые никогда уже не увидят своих мужей, дети, которые никогда не встретят своих отцов…
– Ну, хватит плакать, – сказал Шмая. – Кажется, достаточно наплакались мы за эти годы. Пусть теперь уж наши враги плачут!
Овруцкий помахал рукой шоферу, который стоял в стороне, наблюдая эту трогательную встречу. Тот с трудом завел старую трофейную скрипучую машину и подъехал ближе.
Спустя несколько часов машина, громыхая и дымя, как паровоз, добралась до знакомого мостика, соединяющего оба берега Ингульца. Сердце Шмаи дрогнуло. Где-то там, за рекой, должен быть дом Данила Лукача… Придется туда пойти, передать вдове последние слова погибшего друга. Как это будет тяжело и страшно!..
Шмая отогнал от себя тяжелые думы и обратил взор на милый сердцу уголок. Страшно стало при виде торчащих полуразбитых дымоходов, рядов землянок и хибарок на месте некогда красивого поселка. Сколько будет теперь работы!
Машина резко затормозила и остановилась у невысокой каменной ограды, густо поросшей бурьяном. Люди сошли с машины. Кровельщик минуту постоял, окинув взглядом землянку, и покачал головой.
– Это наш новый дворец? – с болью в душе спросил он.
– Спасибо и за такой! – ответила Рейзл. – Когда вернулись сюда, здесь одни лишь камни застали… Это мы с дочками построили… Одну зиму с горем пополам перезимовали… Уже привыкли мучиться…
– Если б ты, Рейзл, положила еще два-три наката, был бы неплохой блиндаж. Видишь, не была на фронте, а так хорошо научилась блиндажи строить!
Окружающие рассмеялись, глядя на оживленного человека, и кто-то бросил:
– Ей-богу, остался таким же, каким ушел на войну! Что и говорить, разбойник!..
Малыши, толпившиеся здесь, прыснули. А курносый замурзанный мальчуган, весь измазанный глиной и землей, тихонько спросил, потянув мать за край юбки:
– Мам, а, мам, разве дядя – разбойник? Смотри, сколько у него медалей!..
– Да отстань ты от меня! – оттолкнула его мать. – Дай бог, чтобы ты вырос таким разбойником, как он… Это Шая Спивак, муж Рейзл… Побольше бы таких людей, легче было бы жить на Свете…
Рейзл уже хлопотала. Сбросив платок и суконную куртку, она притащила из колодца ведро воды, чтобы Шмая умылся. Соседки зашумели, забегали. Кто-то принес и расстелил на траве скатерть. Из соседних землянок и из землянки Рейзл вынесли и разложили на «столе» караваи свежего хлеба, который испекли по случаю приезда дорогого гостя. Вынесли несколько бутылей молодого вина, пироги.
Овруцкий ходил вокруг, подгоняя хозяек. Начинало темнеть, а ведь света и керосина нет. На скатерти появились самодельные кружки из консервных банок. Овруцкий поторапливал:
– Ну, сели, Шмая! Давно мы с тобой не выпивали… Теперь настал счастливый момент, – и, налив кружку вина, поднес ему и обратился ко всем:
– Давайте выпьем за возвращение нашего старого солдата!..
Шмая взял в руку кружку и пожал плечами, взглянув на окружающих:
– Почему это за солдата? Давайте за всех нас выпьем!.. – сказал он. – В этой войне всем досталось – и солдатам и не солдатам… Так выпьем за то, чтоб никогда больше не было никаких войн!..
Женщины, сбившиеся в сторонке, смотрели на неугомонного кровельщика и тихо плакали. Он подошел к ним, покачал головой:
– Что за слезы?! Неужели не успели до сих пор выплакаться, чтобы теперь смеяться, радоваться?
– Да, будешь радоваться, сосед, – отозвалась пожилая женщина, кивнув в сторону землянок и хибарок.
– Понимаю, тяжело всем… Но не вечно ведь лить слезы, дорогие мои солдатки! Вытрите свои глаза! Чтоб мы больше не видели слез! Самое страшное, самое тяжелое уже позади. Фашистские палачи хотели нас поставить на колени, сделать своими рабами, уничтожить… А посмотрели бы вы теперь на этих «победителей», на их вид, на их города и села, на их Берлин!.. Видно, уж закажут внукам и правнукам лезть в нашу страну… Не надо омрачать наш праздник, дорогие! Земля осталась нашей, Советская власть, слава богу, жива и крепка. Стало быть, все будет в порядке. Выше голову, друзья, дорогие мои земляки! Плечи у нас крепкие, руки сильные. Не впервой нам засучивать рукава. Пройдет время, и все станет на свое место. Если мы смогли выиграть такую войну, значит, и настоящую жизнь построим, – это как пить дать! Ну что ж, за все это давайте и выпьем. За хорошую жизнь, лехаим!
И Шмая-разбойник, как в былые добрые времена, одним махом опорожнил кружку, вытер рукавом гимнастерки губы и передал посуду соседу. И многие знали, что он только сегодня не такой веселый, как бывало. Пройдет какое-то время, Шмая сбросит солдатский мундир, возьмет свой инструмент, пойдет строить, чинить людям крыши и снова начнет веселить и забавлять всех. Опять, как в прошлые годы, к нему будут приставать солдатки, и он каждой из них поможет по хозяйству, а то просто успокоит ласковым словом, веселым рассказом, притчей, потешной историей. И снова начнет злиться на него жена:
– И что ты за человек, Шмая? Сколько горя перенес, а остался таким же, каким был до войны.
А Шмая-разбойник, озорно улыбаясь и блестя ласковыми глазами, ответит, орудуя молотком:
– Что ж, нет пока приказа правительства стареть. Много дел еще припасено для меня на этой земле. Если я буду стареть, кто же крыши станет чинить и дома строить? Не время нынче думать о плохом… Слишком уж много плохого было. Теперь жить надо, трудиться, не унывать. Вот и не будет времени стареть… Ты ведь знаешь мой секрет долголетия!..
Окружающие будут улыбаться, с восхищением смотреть на него, но вряд ли кто узнает, как гложет душу горечь тяжелых утрат, как ему трудно смотреть на своих поседевших, измученных соседей и как ему тяжело будет пойти к семье Данилы Лукача…
А нужно будет пойти. Это его священный долг…
Глава тридцать седьмая
ЧЕЛОВЕК РАСПРАВЛЯЕТ КРЫЛЬЯ
Приходилось ли вам после четырех лет войны, скитаний по белу свету очутиться дома, на своей постели?
Дома… Маленькая землянка с низким потолком и крошечным окошечком над землей, два твердых топчана из нетесаных досок, небольшой столик в углу. Разбросанные тетради, обрывки книг. Корки хлеба. Коптилка. Обломок зеркальца. Гребень. Две-три карточки в самодельных рамках, с которых смотрят чернобровые парни в солдатских гимнастерках, стриженые, чуть испуганные… Дымящая печурка. Мешок картошки в углу…
Но все это дом, родной дом…
Всю ночь Шмая-разбойник не мог сомкнуть глаз. Рядом спала жена, прижавшись к нему и негромко всхрапывая. Напротив, на втором топчане, сладко спали, разбросав голые руки, две черноголовые девчурки.
Кажется, совсем недавно они были маленькими. Он с ними расстался, когда только в первый класс пошли. А теперь выросли, повзрослели, похорошели – настоящие барышни, хоть замуж выдавай!
Похожи одна на другую, как две капли воды. Шмая их сперва даже не узнал. А вот теперь привыкает. Справа спит Зина, а у стенки – Мирра. Мирра… Что-то похоже на мир. Хорошее имя! Хоть бы уже никогда не было войн, хоть бы детям не приходилось расти без отцов!.. Изрядно намучились бедняжки. Да вот и теперь еще для них война не закончилась. Такие красотки, а лежат на твердом топчане, в маленькой землянке. И все же во сне улыбаются… Весело им.
Хотелось поговорить с ними. Столько гостей осаждало его по поздней ночи, что некогда было и поболтать с дочурками, с женой. А теперь не хочется их будить. Устали, бедные. И он устал. Старался уснуть, но сон, как назло, бежит от него. Он лежит, боясь повернуться, чтобы не разбудить жену, смотрит в окошечко, через которое пробивается в землянку холодный свет луны, и думает, думает.
Неужели он, в самом деле, дома, в своей семье? Как-то не верится! Да и что осталось от семьи? Вот эти две девочки… Трое сыновей уже никогда не вернутся. Правда, нашелся Мишка. Больше года мать не имела от него никаких вестей, думала, что погиб… И наконец письмо из госпиталя. Был летчиком-истребителем, и в одном воздушном бою сбили его. Полуживого, слепого привезли в Днепропетровск. Он долго не писал. Не хотелось давать о себе знать – пусть лучше мать думает, что он погиб. Это легче, чем увидеть его калекой, слепым. Но каким-то чудом его поставили на ноги, вернули ему зрение. Летать, правда, он уже никогда не сможет…
Об этом Шмая узнал только вчера. Все время думал, что нет уже в живых и Мишки. А он жив! Какое счастье!
Погруженный в свои думы, Шмая до глубокой ночи лежал с открытыми глазами. Известие о сыне принесло ему много радости. Девчата в доме – недолговечные помощники. Подрастут, выскочат замуж и даже фамилию сменят. Только и увидишь их!.. А вот сына иметь да еще такого милого парня, как Мишка!.. Очень хотелось повидаться с ним, но Шмая знал, что это будет еще не так скоро. Что-то не видно, чтобы Мишка особенно рвался домой. Он еще, видно, не совсем пришел в себя. А ему, Шмае, невозможно сейчас ехать: надо работать, помочь жене, соседям.
Только перед рассветом Шмая уснул крепким сном и даже не слыхал, как жена ушла на виноградную плантацию, а девчонки куда-то убежали.
Его разбудила тишина. Раскрыв глаза и окинув взглядом землянку, он не сразу понял, где находится и как сюда попал. В землянке было тихо, сумрачно. Вдруг в углу раздался шум крыльев. Маленький смешной петушок с неестественно большим гребнем на малюсенькой головке взлетел на шкафчик и важно произнес что-то наподобие «кукареку».
Шмая раскатисто засмеялся, глядя на гордого карлика, который и не был похож на петуха. Крошечный, худой, он, однако, знал себе цену, а также и то, что все обитатели этой землянки и ближайшие соседи от него в восторге. Да и курицы соседские с ним наперебой заигрывают… Гордый и самоуверенный, пошевеливая огненно-красным мясистым гребнем, петушок стоял на шкафчике, озираясь по сторонам, будто желая спросить новосела: «Ну, как я тебе нравлюсь? А голос?! И чего ты смеешься надо мной? Не забудь, что я пока единственный петух во всем поселке! Ко мне надо относиться с уважением. Я имею право делать все, что мне взбредет в голову. И ты мне не указчик. Кукареку-у-у!»
Задорно посмотрев на незнакомого насмешника, петушок взмахнул крылышками, вспорхнул, взобрался на подоконник, где стояли тарелки и стаканы, уставился на чужого человека красными разбойничьими глазами и слегка тряхнул гребнем, словно желая сказать: «Чего ты хочешь?.. Не угодно ли, я могу в одну минуту превратить все эти тарелки и стаканы в осколки, и тогда, когда придется тебе есть из корыта, попробуй надо мной смеяться!.. Со мной шутки плохи. Я не поленюсь тебе это доказать…»
Но все же петушок оказался милосердным и до этого дело не дошло. Он, видно, не имел ни малейшего желания ссориться с этим жизнерадостным человеком. Не лучше ли жить в мире и согласии?.. И снова взмахнув крылышками, вылетел в окошечко, взобрался на куст сирени и во всю глотку загорланил.
Солнечный луч ударил в треснутое стекло.
Шмая порывисто соскочил с постели на земляной пол и почувствовал сильную боль во всем теле. Давали себя знать осколки, застрявшие в боку, в ноге, о которых он уже давно забыл. Он осторожно натянул гимнастерку и нагнулся за сапогами, но боль усилилась. Он прислонился к сырой стене.
«Хитрые бестии, эти раны, – подумал кровельщик, – верно, узнали, что солдат приехал под крылышко жинки, и начинают докучать. Раньше они уже как будто не напоминали о себе…»
Взяв в углу палку, Шмая вышел из землянки, окинул беглым взглядом поселок и опустился на траву. Тут и там уже возвышались новые постройки, степь зеленела ровными коврами.
«Уже взялись за работу мои дорогие земляки, – подумал Шмая. – Живут трудно, ютятся кое-где и кое-как, а трудятся, не зная усталости… Сколько колонистов не вернулось с войны, сколько вдов, сирот, калек осталось, а жизнь уже идет дальше: время лечит, как самый лучший врач, и помаленьку забываются все недавние горести и муки. Жизнь начинается сызнова…»
Уже чувствовалась осенняя прохлада. Взяв полотенце на плечо, Шмая направился к Ингульцу. Постоял несколько минут, глядя на шуршащие камыши, на изумрудные воды, на мальков, стайками проносившихся вдоль скалы, на которой всегда любил сидеть и удить рыбу. Он быстро умылся студеной водой, пошел обратно и вдруг услышал стук топоров, звон пилы и повернул к усадьбе артели. Несколько пожилых мужчин и женщин приводили в порядок помещение фермы. Рядом с ними стоял, прижавшись спиной к стене, Овруцкий и тесал топором бревно.
Хоть друзья и виделись только вчера, но и сейчас они обрадовались друг другу, будто не встречались уже целую вечность.
– Здорово, разбойник! – воскликнул Овруцкий, вытирая рукавом вспотевший лоб. – Чего так рано встал? Ведь просили тебя, чтоб дал отдых своим старым костям…
– А сколько же можно отдыхать? Руки у меня чешутся, – ответил Шмая, здороваясь с окружающими. – К тому же плотницкая работа – не для женщин…
– Не святые горшки лепят! Научились мы плотничать, привыкли жить без мужиков, и кажется, что так всегда было… – отозвалась пожилая женщина с грустным лицом. – Беда научила… Посмотрел бы, как твоя Рейзл на Алтае топором работала, похлеще тебя… Что поделаешь, когда мужья нас покинули…
– Эх бабы, бабы! Разве мы покинули бы вас, если б не эта проклятая война? Да ни за что на свете! – сказал Шмая и, подойдя к женщине, взял из ее рук топор:
– Ну, хватит! Смена пришла!..
– Вижу, какая смена… – с грустью покачала она головой. – Да на тебе ведь живого места нет… Такую войну прошел… Какой уж ты теперь работник. Слава богу, что вернулся. Будем тебя беречь…
Шмая-разбойник улыбнулся и, сплюнув на руки, стал энергично тесать бревно. Окружающие с удивлением смотрели, как ловко он работает.
– Ого, сосед, а мы уже, грешным делом, думали, что ты разучился держать топор в руках… Силен, разбойник!..
– А как же! – махнул Шмая рукой. – Мой отец оставил мне наследство на всю жизнь – мою профессию. Спасибо ему за это. Ну, и стараюсь не забывать ее. Всюду она мне помогала…
– И знал же ты, друг, когда возвратиться домой, – вмешался Овруцкий, глядя, как Шмая орудует топором. – Ведь до зимы, кровь из носу, крыши залатать надо… Жести немного нашли, а вот кровельщика днем с огнем найти не могли. Сам бог послал тебя нам!..
– Что ж, постараемся, – улыбнувшись, ответил кровельщик. – Проверю, может, еще не забыл, как крыши чинят…
В полдень прибежала Рейзл. Увидев своего дорогого гостя, занятого работой на крыше, она только развела руками:
– А я его ищу по всему поселку… Ведь маковой росинки во рту не имел, а уже полез на крышу… Тебе еще отдохнуть с дороги надо бы!..







