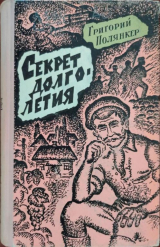
Текст книги "Секрет долголетия"
Автор книги: Григорий Полянкер
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 31 страниц)
Они вышли из домика и молча стояли, глядя на пустынную улицу, где не видно было ни единого огонька, никаких признаков жизни.
«Не бывало еще так, чтобы люди ни с того ни с сего бросали свои очаги, – подумал Шмая. – Значит, и нам не следует тут оставаться». Но он чувствовал, что если придется еще хоть час месить грязь и мокнуть под дождем, все они не выдержат. И он решил переночевать здесь, отдохнуть, а утро вечера всегда мудренее…
Наш разбойник решительно повернул обратно и вошел в домик. За ним последовали остальные.
Первым делом Шмая обошел обе комнатушки, нащупал на печке спички, нашел лампу. Завесив всяким тряпьем окна, зажег ее. Посмотрев на себя и на своих спутников, он испугался. Увидели бы их люди, шарахнулись бы, как от прокаженных…
Шифра еле добрела до кровати. Сбросив грязные ботинки, она упала на нее и через несколько минут уже спала мертвым сном. На нее глядя и Данило Лукач собрал какое-то тряпье и пристроился на полу возле пустого сундука.
Шмая стоял в сторонке и с завистью смотрел на них. Он понимал, что спать всем никак нельзя, мало ли что может случиться. И он затопил печь, поставил греть воду. Надо было смыть с себя грязь, привести себя в порядок. Опускаться ни в коем случае нельзя было.
Он ходил по дому, оглядывая каждый уголок, рассматривая фотографии на стенах. Да, вот так и он бросил свой дом… Тысячи, сотни тысяч семей оставили свои очаги и бродят сейчас по дорогам страны. Кто успел перебраться на ту сторону Волги, а кто еще мечется, не зная, как жить, куда деваться…
В каморке он увидел раскрытый комод. Все там было перерыто, и на полу валялась рабочая куртка, поношенная ватная фуфайка, латаные брюки, рваные кирзовые сапоги. Шмая обрадовался. Можно немного приодеться, легче будет двигаться дальше. Нашлось кое-что и для Данилы и для Шифры.
– Хорошие, должно быть, люди тут жили, если позаботились о беглецах, – вслух подумал Шмая. – Может быть, это и нечестно – прийти в чужой дом и взять без спроса одежду, но что поделаешь! Время такое. Да и хозяевам приятнее будет узнать, что это взяли свои люди, а не проклятые оккупанты…
Тут Шмая услышал шум в печке. Он подбежал и, увидев, что вода в чугуне уже закипела, вытащил его. Достав миску и ведерко холодной воды, кусок мыла, он вышел в сени и впервые за долгие дни умылся и переоделся. Он сразу почувствовал, как легче ему стало и усталость вроде куда-то улетучилась. Даже спать уже не хотелось.
Вернулся в комнату, посмотрел на свернувшуюся калачиком Шифру, увидел на ее лице улыбку и решил, что в эту минуту она видит какой-то прекрасный сон. Постоял немного, глядя на ее полудетское милое лицо, и направился туда, где на тряпье, как на пуховике, лежал Данило Лукач. Погасив огонь, пристроился рядом с другом и попробовал уснуть. Однако сон его долго не брал.
Шмая-разбойник перебирал в памяти события последних дней. Холод прошел по всему телу, когда он вспомнил вражеские колонны, проносившиеся мимо, обер-ефрейтора Вильгельма Шинделя, холодный и страшный глазок автомата, который был нацелен на него, Шмаю, и мог в любую секунду оборвать его жизнь. Никто в мире и не узнал бы, как глупо он погиб…
То, что после всех страданий они нашли теплое убежище, Шмая считал настоящим счастьем. Хотелось, чтобы эта ночь тянулась долго-долго, но он знал, что она когда-нибудь должна кончиться. К тому же долго оставаться в этом домике тоже нельзя было. Вот-вот начнутся холода, и немцы придут сюда. А чем жить рядом с такими соседями, лучше уж петлю на шею…
Шмая старался отогнать от себя тяжелые мысли. Надо было думать о жизни. Нужно было набраться сил и как-нибудь перейти линию фронта. Иначе, рано или поздно, они снова попадут в лапы палачей и вряд ли им уже удастся вырваться…
А пока что можно немного вздремнуть, но чуть свет подняться, нагреть воду для Шифры и Данилы, чтоб и они смогли умыться, переодеться. Надо будет поискать и что-нибудь съестное. Ведь все они голодны и совсем обессилели…
Но, оказывается, смертельно уставшему человеку трудно заранее планировать свое время.
Шифра разбудила Шмаю, когда было уже совсем светло. Она успела согреть воду, умыться, переодеться и привести в порядок свои косы; она уже слила Даниле, и оба приобрели человеческий вид, как и Шмая, которого они сперва даже не узнали… Еще успела девушка сварить картошку, разыскать в соседних брошенных домах буханку черствого хлеба, какие-то консервы – и завтрак был приготовлен на славу!
– Ты смотри! – оживился Шмая, глядя на стол. – Совсем как в мирное время!.. Если ты, дочка, будешь нас так кормить, то мы и не захотим уходить отсюда. – И, подумав немного, добавил: – Да, хорошо это, когда один за всех, а все за одного…
– А ты что думал? – вытирая полотенцем мокрую голову, сказал повеселевший Данило. – Дружба – это великое дело. Друзья познаются в беде… Будем держаться вместе, тогда, может быть, и выберемся из этого капкана.
Они уселись за стол и стали с аппетитом уничтожать все, что на нем было. Давно они не ели под крышей, в тепле, и к Шмае-разбойнику вернулось его обычное бодрое настроение.
– Молодец. Шифра! Учись, учись быть хозяйкой. Вот придем к своим, а там война кончится, и мы тебе справим такую свадьбу, что небу будет жарко…
– Что вы говорите! – краснея и давясь куском, покачала головой смущенная девушка. – Нечего вам делать… Нашли время шутить!..
– А кто тебе сказал, что это шутка? – возмутился кровельщик. – Думаешь, пришел конец свету? Беда пройдет, и мы тебе у нас на Ингульце такую свадьбу устроим, какой еще свет не видал, чтобы все враги наши лопнули от злости, а все друзья прыгали от радости!
Шифра махнула рукой, посмотрела на улыбающееся доброе лицо Шмаи, перевела взгляд на Данилу и сама улыбнулась, вспомнив, как обер принял его за еврея…
В углу, под иконой, стоял репродуктор, запыленный, старый, как мир, и сколько Шмая ни тормошил его, никак не мог вытрясти из него ни звука.
– Черт полосатый! – ругался Шмая. – Когда не нужно, он орет, как оглашенный, остановить нельзя, а вот теперь, когда так хочется знать, что слышно на свете, он молчит, как рыба…
Где-то далеко, на дороге, слышен был рокот моторов. Грузовики шли туда и обратно, немецкие грузовики. Но сюда никто не сворачивал, и поселок был по-прежнему мертв.
Только на рассвете второго дня Шифра, выглянув в окно, заметила невдалеке пожилую женщину с большим узлом и кошелкой. Увидев, что над дымоходом вьется дымок, женщина обомлела. Стояла на одном месте, не решаясь подойти к дому.
Теперь уже все трое выглядывали в окно. Никто не знал, что делать. Позвать ее? Но она может испугаться, увидев незнакомых людей. Выйти к ней? Но тогда может быть еще хуже. А вдруг она подымет шум на весь поселок и сюда сбегутся люди? Может быть, они попрятались в подвалах?
Постояв еще несколько минут, женщина направилась к дому. Навстречу ей вышла Шифра, поклонилась, сказала ей что-то и позвала в дом.
Хозяйка вскрикнула при виде двух незнакомых мужчин.
– Не бойтесь нас, мамаша, – обратился к ней Шмая, – ничего плохого мы вам не сделаем… Беда нас сюда привела. Только погреемся, отдохнем и пойдем дальше…
Хозяйка дома еще долго с опаской смотрела на незнакомых людей, не решаясь присесть. Но поняв, что это хорошие, мирные люди, поставила в уголок свой узел и кошелку, стала снимать ватник.
– А я так испугалась! – заговорила она, придя немного в себя. – Увидела дымок над трубой, и сердце оборвалось. Думала, что немцы уже пришли… Еле ушла от них и опять к этим паразитам вернулась… Хотела было уже бежать…
Шмае понравилась милая разговорчивая женщина с седой головой и усталым круглым лицом.
– Так, выходит, вы хозяйка дома? – спросил он, испытывая страшную неловкость оттого, что без спроса переоделся и переодел друга и девушку.
– Какие уж мы теперь хозяйки и хозяева! – покачала она головой. – Разве не видите, кто сейчас здесь хозяин? Саранча на нас налетела… Все жгут, всех убивают… Встретят на дороге бабу, и пять автоматчиков стреляют по ней…
– Да, мы тоже уже кое-что повидали, мамаша… – смелее заговорил Шмая. – Побывали у них в лапах и насилу спаслись… Оборванные пришли сюда от них, в одних лохмотьях, стыдно было на люди показаться… А тут, у вас, мы нашли кое-какую одежду… Ну и оделись… Если хотите, можем отдать, можем заплатить…
– Что вы! – махнула она рукой. – Носите на здоровье, если подходит. Мужа и двоих сыновей отправила на фронт… Мужа уже нечего ждать – извещение пришло. Погиб мой старик. А от сыновей никаких известий… Живы останутся, купят себе другую одежду, а если здесь немец будет – нам ничего не надо. Пропали мы тогда… А может, произойдет какое чудо и остановит проклятых злодеев?.. Ой, что делается на дорогах, возле переправы! Такие там бои, сколько убитых – и наших и ихних… Горит все… Думала, успею эвакуироваться, а дороги перерезаны. Насилу вырвалась из окружения и добралась сюда…
Она поправила волосы рукой, огляделась вокруг:
– Вы уже не взыщите, что такой беспорядок застали. Кому в голове было убирать, когда жизнь на волоске. Не взыщите!..
Женщина не переставая рассказывала о том, что видела на военных дорогах. И гости слушали ее с тоской, думая об одном: как им выбраться отсюда, как перейти линию фронта?..
Хозяйка дома разыскала среди разбросанных повсюду бумажек справку мужа о том, что он действительно является забойщиком шахты № 5, что удостоверяется подписями и печатью. Эту справку она передала Шмае – может быть, пригодится ему в дороге. Еще одну такую справку она нашла в соседнем брошенном доме. Теперь уже не так страшно будет, если их и задержат. Ежели такое случится, пусть они скажут, что они горняки и возвращаются домой, а были на окопах, куда их силой погнали коммунисты…
Это необходимо было хорошо заучить, ибо, как успела убедиться хозяйка, немало людей, когда их задерживали, вырвалось таким образом из рук фашистов…
Ранним утром хозяйка накормила своих неожиданных постояльцев, дала им на дорогу кое-что из продуктов и, пожелав удачи, попрощалась с ними, как со старыми друзьями.
Отойдя несколько шагов от гостеприимного домика, Шмая оглянулся.
– Ты что-то забыл, друг? – спросил Данило Лукач.
– Забыл посмотреть номер дома. Когда-нибудь, если живы останемся, надо будет приехать сюда поблагодарить хозяйку или хоть написать ей письмо…
После того как они хорошо отдохнули, идти было куда легче, и они двинулись по степной дороге, по которой шли другие, должно быть, так же, как и они, жаждущие перейти линию фронта.
Дождь лил не переставая, и дороги развезло так, что огромные черные грузовики оседали в грязи. Немцы возили лес, бревна, доски, рыли траншеи, окопы, видно, примирившись с мыслью, что им преградили путь и они должны зарыться пока что в землю. С одной стороны, это радовало наших путников, но с другой – они понимали, что пересечь линию фронта и перебраться к своим стало гораздо труднее и опаснее. Остаться же в одном из рабочих поселков, которые попадались им на дороге, нельзя было, так как там стояли немецкие обозы.
И тут им неожиданно повезло. Они познакомились с группой шахтеров и присоединились к ним. Долго, настойчиво искали лазейку, чтобы перескочить на ту сторону, но все никак не удавалось.
Однажды ночью, когда, казалось, цель уже была близка, неожиданно из-за сарая, казавшегося пустым и заброшенным, появилось, словно из-под земли, несколько немецких автоматчиков. Послышалось знакомое:
– Хальт! Хенде хох!..
И вот они уже бредут по раскисшей дороге, окруженные конвоирами-автоматчиками, чувствуя на своей спине жуткий холодок автоматных глазков.
Долго гнали их. Из двадцати человек пятерых уже пристрелили тут же, на дороге, так как они не в силах были двигаться дальше. Наконец их пригнали к колючей проволоке, за которой тянулись длинные покосившиеся бараки. И тут впервые в жизни Шмая-разбойник, Данило Лукач и Шифра услыхали незнакомое слово – лагерь.
Прошло еще два часа. Новичков втиснули в переполненный барак. За стеной слышалась стрельба.
– Что это?
Старожилы успокоили их:
– Это часовые забавляются. Запугивают арестантов и себя подбадривают…
А издали доносился грохот пушек. Он не отдалялся и не приближался. По этому грохоту можно было судить, что фронт стоит на месте и ни одна из сторон не продвигается вперед.
У Шмаи-разбойника сразу же возникла мысль о побеге. Если б можно было договориться и все дружно бросились бы к воротам барака, снесли бы их и разбежались кто куда, верно, можно было бы спастись… Но прислушавшись к шепоту соседей, он понял, что это не так просто. Уже пробовали. Проволока вокруг лагеря – под электрическим током, и если даже вырвешься из барака, через проволоку невозможно пробраться…
Ночь была холодная и темная. Шмая старался разглядеть сквозь темень, кто сидит рядом с ним, но, кроме бородатого лица и испуганных глаз, ничего не мог различить. Он попытался заговорить с соседом, но тот смотрел на него удивленно, недоверчиво и упорно молчал…
Рано утром за стеной барака послышался гортанный крик, топот, лязг оружия и хриплый лай собак. Люди, не дожидаясь команды, вскочили со своих мест. Двери барака раскрылись с угрожающим скрипом, и раздалась команда:
– Выйти! Построиться! Шнель, шнель, швайн!
Дождь все не прекращался. Оборванные, обросшие люди, с ненавистью глядя на белобрысых молодчиков, бежали из барака, подгоняемые прикладами автоматов, и строились по четыре в ряд – мужчины отдельно, женщины отдельно.
Шифра рванулась было к Шмае, но солдат оттолкнул ее прикладом. Глаза девушки наполнились слезами. Неужели их разделят и она больше не увидит этого милого человека, на которого была вся ее надежда? И куда их погонят? Ночью она слыхала от одной старушки, что немцы недавно выгнали из барака больше ста задержанных, повели их к затопленной шахте и сбросили туда. Неужели и с ними будет так? Не укладывалось в голове, что человекоподобные существа могут так по-зверски поступать с ни в чем не повинными людьми. Как глупо все получилось!.. Погибнуть в бою, с оружием в руках – это тоже страшно, но не так обидно, как погибнуть здесь. И почему она не убежала тогда, когда такие же девчата, как она, ехали на грузовиках, в пилотках и шинелях?..
Грозный окрик автоматчика прервал ее мысли.
Она вздрогнула всем телом, оглянулась. На нее холодными неподвижными глазами смотрел белобрысый солдат. Возле него виляла хвостом огромная серая овчарка. Первое, что пришло в голову девушке, это броситься к Даниле Лукачу, к Шмае, которые стояли в нескольких шагах от нее, но тут она услышала громкое рычание. Казалось, страшный пес вот-вот разорвет ее.
– Мама! – крикнула она не своим голосом и прижалась к высокой худой женщине, которая обняла ее, как мать, и заплакала вместе с ней.
Скоро перед строем появился холеный офицер в пенсне. Окинув рассеянным взглядом поникших арестантов, он приказал отделить стариков и больных от работоспособных людей и повести их назад.
Длинная колонна узников вытянулась вдоль дороги. По обе стороны – конвоиры с автоматами и огромными овчарками. И вдруг с той стороны, где за колючей проволокой остались старики, больные и калеки, донеслись душераздирающие крики, мольбы о помощи, проклятья. Автоматные очереди прекратили шум, и скоро там воцарилась зловещая тишина.
Шмая на ходу обернулся, прислушиваясь к автоматным очередям. Дрожь прошла по всему телу. «Палачи, стариков и больных пристреливают!..» – промелькнуло в голове.
Понуро брела колонна. Все уже знали, что их гонят чинить дорогу. И еще знали, что в любую минуту их могут по дороге пристрелить так же, как стариков и больных, оставшихся в лагере…
Командовал конвоем пожилой толстый ефрейтор с одутловатым лицом и большими зелеными глазами навыкате. Он вел на поводке огромного рыжего пса, который все время рычал на узников, готовый каждую минуту броситься на несчастных.
Если Шмая еще недавно радовался тому, что дожди размыли дороги, мешая врагу продвигаться вперед, то теперь он их проклинал. Как мучительно трудно было, не разгибаясь, таскать булыжник, песок. И все это надо было делать бегом, под угрозой смерти.
День тянулся мучительно долго. До густой темноты люди мостили дорогу, с ненавистью посматривая на толстяка ефрейтора, который уже пристрелил нескольких узников, бил палкой отстающих, издевался над обессилевшими людьми.
Но вот послышалась долгожданная команда строиться. В лагерь люди пришли промокшие, вконец измученные и уже не в силах были даже пойти за баландой…
Чуть свет снова началось движение за стенами барака, послышался лай собак, крики солдат.
Двери распахнулись, последовал приказ выйти, строиться.
Тот же толстый ефрейтор подошел к строю, обвел узников насмешливым взглядом:
– Ну, работнички, сегодня вам было свободнее спать? Видите, как мы заботимся о вас!.. Почему опустили головы? Веселее!.. Вот исправите дорогу, начнем наступать, заведем в России новый порядок. Научим вас жить, как люди, а то вы на свиней похожи… Вчера вы плохо работали… Я недоволен вашей работой. Может, есть среди вас больные? Ну-ка, больные, три шага вперед!..
Он отошел от строя. Пять человек несмело сделали три шага.
– Еще кто болен? Три шага!.. Больных я не могу заставлять работать. Мы, немцы, люди гуманные…
Из строя нерешительно вышли еще два старика.
– Гут! – потер ефрейтор озябшие руки. Отвел больных к проволоке и, сняв с плеча автомат, дал по ним длинную очередь… Потом окинул холодным взглядом убитых и, направляясь к строю, сказал: – Больных у меня не будет! Нам нужны работники… Симулянтов буду расстреливать… Форвертс!
Строй на какое-то мгновение замер. Казалось, люди сейчас бросятся на ефрейтора. Но, увидев пулеметы на вышках и автоматчиков, все, понурив головы, направились к воротам.
Шли молча, по четыре в ряд, поддерживая друг друга под руки.
Холод пронизывал.
Шмая шагал, еле передвигая ноги. Рядом шел Данило, белый, как стена… Когда несколько минут назад ефрейтор объявил, чтобы больные вышли из строя, он уже хотел было выйти вперед вместе с Данилой, который явно был болен, но какая-то неведомая сила удержала его. Какое счастье, что они не сделали трех роковых шагов! А то навсегда остались бы лежать возле колючей проволоки…
Какая-то доля секунды решила их судьбу. И вот они идут рядом, они живы… Но разве это жизнь? Они совершают преступление перед своей совестью, ремонтируя для врагов дорогу. Не лучше ли смерть, чем такое унижение, такой позор? Не броситься ли на этого толстяка ефрейтора, не задушить ли его, а потом уже умереть с чистой совестью?
Думая так, Шмая все же понял, что это не выход. Один в поле не воин, гласит пословица.
Стоя рядом с Данилой, Шмая с ожесточением орудовал киркой и волновался. Что-то слишком присматривался к нему ефрейтор, долго задерживал на нем и Даниле свои выпученные мертвые глазищи. Его надменный, неподвижный взгляд бросал Шмаю в жар и холод. Не обнаружил ли этот пес, что он, ко всем своим грехам, имеет еще один страшный грех – позволил себе родиться не чистокровным арийцем, а что ни на есть настоящим евреем? А уж это одно является страшным преступлением перед фашистами… Не вызывает ли подозрение бородка Данилы Лукача? Ведь она его однажды уже чуть было не погубила, когда они встретились с обер-ефрейтором Вильгельмом Шинделем…
Шмая облегченно вздохнул, заметив, что ефрейтор перевел свой свирепый взгляд на других и отошел в сторону. Значит, пока пронесло! Но надолго ли? Как страшно каждую секунду подвергаться смертельной опасности!..
Была поздняя ночь, когда их пригнали в лагерь. Барак уже был набит новыми узниками, и для этих не нашлось места. Так, под проливным дождем, дрожа от холода и проклиная свою судьбу, скоротали они еще одну ночь.
Только под утро им удалось кое-как втиснуться в переполненный барак. Однако места, чтобы сесть или лечь, нельзя было найти. И Шмая со своим другом стояли, прижатые к косяку дверей. Невозможно было пошевельнуться, млели ноги. А как хотелось спать!.. Но не успеешь вот так, стоя, задремать, как кто-то тебя толкнет в бок, и сон сразу пропадает. И все же то, что над ними была крыша, казалось вконец изнуренным людям величайшим счастьем…
За стеной барака бушевал ветер, лил холодный, противный дождь. Шмая прислушался. Издалека доносился грохот орудий. Видно, там идет ожесточенный бой. Дальше немцев не пускают. Кончилось их продвижение. Застряли на месте надменные колбасники, получили по зубам! Уже несколько дней они не поют, не хохочут, как прежде. Вчера по дороге шли бесконечным потоком немецкие машины с искалеченными фрицами. Эти уже отвоевались. Они уже не хотят войны и молят бога помочь им скорее вернуться нах гауз – домой…
С каждым часом везут все больше раненых. На огромных грузовиках, на которых еще так недавно восседали автоматчики, нынче возят гробы, осиновые кресты…
Барак слегка сотрясался от взрывов, хотя они раздавались не так уж близко от лагеря.
– Слышишь, Данило, наши бьют!.. – прошептал над ухом друга Шмая. – Слышишь, брат, что там делается? Должно быть, бьют гадов по чем зря. Сбили с них спесь… Ничего, мы еще увидим, как их будут гнать с нашей земли!
– Скорее бы дождаться этого дня…
– Хоть бы глоток воды, горло смочить, – простонал кто-то в углу. – Палачи, лучше б убили!
– Сколько может человек терпеть? – бросил кто-то. – Это ведь сущий ад… Целый день держат людей под дождем, заставляют работать до изнеможения и куска хлеба не дают, глотка воды не дают!.. Да где ж это видано, люди?..
– Все равно погибнем… Только починим дорогу, а там нас всех перестреляют…
– Может, бог даст, наши вернутся, спасут…
– Спасут тебя!.. У фашистов столько танков, машин, пушек, а наши все отступают…
Шмая молча слушал ропот соседей. Когда стало тихо, он спросил:
– А вы слышите, как пушки бьют?
– Ну и что ж? – прозвучал сердитый голос. – Сейчас бабахнет снаряд по бараку, и от нас только мокрое место останется…
– Ты это брось! – сердито кинул Шмая. – Я о другом говорю… Это фронт остановился, и наши дают немцу сдачи… Разве не видите, как фрицы хвосты поджали?..
– Пока они хвосты подожмут, мы тут пропадем… Видали, что сегодня творил этот паразит ефрейтор? И управы на них нет!..
– Будет!..
– Пока солнце взойдет, роса очи выест…
Чуть свет раскрылись ворота барака, и люди высыпали во двор. Приехала повозка, с которой сняли два котла баланды, горку пустых консервных банок и мешок сухарей. Сразу выстроилась длинная очередь, и мрачный немец-повар молча наливал каждому банку похлебки и совал в руки два сухаря.
Люди, не отходя от котлов, жадно съедали баланду и не уходили, ждали, может быть, еще нальет. Но тут появился ефрейтор и погнал голодных узников за ворота строиться.
Хотя находились люди, которые косо посматривали на Шмаю и ворчали: незачем, мол, строить себе какие-то планы, когда все потеряно, он все же не поддавался унынию и, как только часовые забирались в шалаши греться, старался поддержать павших духом.
Правда, самому было вовсе не весело. Он все больше беспокоился о судьбе Данилы. Немцы с подозрением смотрели на его бородку и о чем-то шептались между собой. Иные даже подходили и, презрительно глядя на Данилу, спрашивали, не еврей ли он. Шмая был в отчаянии. Будь у него ножницы, он тут же остриг бы другу бородку, и тогда пусть эти гады горят на медленном огне! Но пока Шмае уже не раз приходилось доставать справки, которые дала им в дорогу старушка из шахтерского поселка, и частично по-немецки, частично по-русски, а главное – руками и мимикой – доказывать, что Данило является его соседом, вместе с которым он работал в шахте, и божиться, что в жилах Лукача нет ни капли еврейской крови… Хотя, если здраво рассуждать, то у всех людей на земле одна кровь, так как все происходят от одного Адама и одной Евы, и все дышат одним воздухом, и все недолговечны на этой земле, и для каждого, будь он трижды генералом или солдатом, трижды арийцем или неарийцем, заготовлено всего лишь два метра земли…
В те минуты, когда Шмая объяснялся с немцами, Данило дрожал от страха, но не за себя, а за друга…
– Да, старая, как божий свет, басня, – тихонько философствовал Шмая-разбойник, – старый заезженный конь. На нем Гитлер далеко не уедет… и до него, проклятого, были такие мудрецы, которые хотели отыграться на вражде между народами. Сеяли вражду. Наши цари… Династия Романовых… А чем все это кончилось? Крахом. Таков уж, видно, закон: кто этим делом занимается, того ждет плохой конец. Да, не от хорошей жизни начинают тыкать пальцем: ты, мол, еврей, ты – русский, а ты – грузин, а он – узбек, а тот – украинец, мулат. И начинают выдумывать, кто умней, кто лучше… У кого какая кровь течет в жилах… До этой проклятой войны, кажется, никому в голову не приходило спрашивать: какой нации твоя бабушка и прабабушка. А тут вспомнили старые царские штучки. Ищут козла отпущения… Невестка, мол, виновата, что хата валится…
– Пришли устанавливать «новый порядок», фашистские звери, – задумчиво сказал Данило, жуя кусок черствого хлеба, брошенный сюда кем-то, – хороший порядочек, ничего не скажешь! За колючей проволокой… А какую красивую жизнь нам поломали… – и, подумав немного, добавил: – Ничего, они за это еще поплатятся! Заплачут, гады, горькими слезами. А то, что ты, Шмая, сказал о царских порядках, это ты правильно сказал, дорогой… Но вся эта подлость была только там, в верхах… Народ, простой человек, наш брат, рабочий и крестьянин, этого не понимал. Не хотел знать! Сколько лет, скажи, жили мы с вами, с колонистами, душа в душу… Одни горести были у нас, одни радости и заботы…
Тяжелый, каторжный труд, голод, унижения сблизили людей, согнанных в этот мерзкий барак за колючей проволокой. Без опаски, откровеннее стали они разговаривать друг с другом.
По ночам узники шептались в углах, договариваясь о побеге. Каждый раз возникали новые планы. Не обходилось и без споров. Не лучше ли выждать, говорили одни. Мол, толстяк ефрейтор сказал как-то, что, если будут хорошо работать, скорее отремонтируют дорогу, тогда всех отпустят по домам…
– Да, нашли кому верить!.. За посул денег не берут… Вы уже забыли, как он своими руками убивал больных людей на наших глазах? Это они сейчас, когда бьют их, гадов, стали немножко мягче, кормят вонючим супом и швыряют кусок просяного хлеба… – Эти слова Данило Лукач произнес тихо, но гневно. – Закончим чинить дорогу, всех нас сразу в расход пустят. Или мы уже не сможем на ногах держаться от истощения и сами подохнем. Надо бежать, и чем скорее…
– Легко сказать – бежать, когда кругом пулеметы, автоматы, собаки…
– И куда ты побежишь, когда повсюду немцы?
– Но мы на своей земле, а враги тут – временные жители…
– Может быть, бог даст, и отпустят домой?
– Тут выбирать нечего… Надо попробовать вырваться из этого ада…
– Как бы хуже не было…
– Что? Хуже? Еще хуже? – раздался голос Шмаи, в котором слышалась горькая усмешка. – Если уж на то пошло, могу вам рассказать одну историю… Как-то присудили двух дружков-цыган к расстрелу. Уже вырыли для них могилу, и солдаты повели их на расстрел. Идут они, значит, идут. Еще несколько десятков шагов, и конец… А близко, у самой дороги, был лесок. «Бежим, брат, – шепнул один дружок другому. – Бежим, может, бог даст, и спасемся». А тот, другой, посмотрел на дружка и говорит: «Бежать? А хуже нам не будет?..» Так и здесь получается. Что может быть еще хуже? Нет, хуже уже не будет!..
И узники стали готовиться к побегу.
Но однажды ночью, когда все уже было готово и люди ждали сигнала, где-то вдали началась ожесточенная перестрелка. А утром прибыл усиленный конвой и погнал узников в тыл.
Целый день и всю ночь гнали обессиленных людей и наконец привели в другой лагерь. Та же колючая проволока, но бараков тут было больше, да и людей бесчисленное множество.
Фронт отсюда был гораздо дальше. Но режим в лагере был не менее жестоким, чем в прежнем, и работать заставляли еще больше.
Шмаю и Данилу все время мучила мысль о Шифре. Когда они работали на дороге, то часто видели ее – она подносила им булыжник, а когда немцы с лихорадочной поспешностью собрали узников и погнали их в тыл, совсем потеряли ее из виду. Правда, они ничем не могли помочь девушке, но все же легче было, когда видели ее хоть издали, знали, что она жива.
И когда оба уже потеряли всякую надежду найти Шифру в этом людском водовороте, они неожиданно увидели ее в колонне женщин, которых гнали в соседний барак. Девушку трудно было узнать. Она срезала свои косы, была одета в какие-то лохмотья. Краса ее померкла.
Прекратились дожди. Небо быстро очищалось от облаков. Ночи становились холоднее. По утрам на крышах сверкал иней. Болота постепенно замерзали, и вскоре мороз сковал землю.
То, что узников так внезапно перегнали в другой лагерь, перемешали с незнакомыми арестантами, усложняло побег. Надо было искать новые связи, знакомиться с людьми, начинать все сначала.
И опять потянулись мрачные дни.
Шмая-разбойник сокрушался, кажется, больше всех. Он почему-то был уверен, что побег закончился бы благополучно и тогда он с Данилой, Шифрой и новыми друзьями попытался бы пробиться к своим, за линию фронта.
В лагерь каждый день пригоняли новых арестантов. Говорили, что вот-вот подадут эшелоны и всех отправят на работу в Германию. Разные слухи ходили за колючей проволокой, но из всех слухов кровельщика больше всего радовал разговор о том, будто поблизости действует какой-то партизанский отряд. Партизаны нападают на фашистов, взрывают склады, поезда, освобождают людей из лагерей. Некоторые говорили, что это вовсе не партизаны, а бойцы Красной Армии, выходящие из окружения, которые сколотили сильную часть и, прорываясь к своим, громят по пути немецкие гарнизоны.
И снова появилась надежда на спасение.
А несколько дней спустя поздно ночью в поселке, находящемся в двух километрах от лагеря, послышалась стрельба, взрывы гранат. Над железнодорожной станцией показались огненные языки, и густые облака дыма взвились в небо. Вокруг лагеря забегали немцы, начали стрелять из автоматов, что-то кричать. Паника нарастала, однако двери барака были наглухо закрыты и нельзя было разглядеть, что происходит на воле.
Узники вскочили со своих мест, двинулись к дверям, стали ломиться, но двери не открывались. А тут послышались вопли раненых конвоиров, возгласы: «Капут! Капут!»
Среди стрельбы и взрывов в барак донесся цокот копыт. А через несколько минут рухнули двери барака, и люди увидели в зареве пожара красноармейцев в зеленых фуражках пограничников. Люди глядели на них, не веря своим глазам. Откуда тут могли взяться пограничники? И неужели пришло спасение?..
– Ну чего ж вы стоите? Смелее, товарищи! Вы свободны! – слезая с коня, сказал коренастый бородатый офицер, всматриваясь в изможденные лица узников. – Можете не бояться! Свои пришли…







