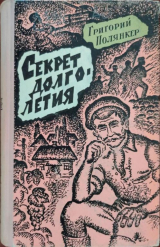
Текст книги "Секрет долголетия"
Автор книги: Григорий Полянкер
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 31 страниц)
– Ну, Шмая, скажи наконец что-нибудь, не выматывай душу!
– Стратегия? – переспросил он. – Как же вам это объяснить?.. Стратегия – вещь очень деликатная… Стратегия, насколько я понимаю, это сила и мудрость страны. А коли так, то клянусь вам, что Гитлер и вся его банда плохо кончат… Попомните мои слова! Это уже такой закон: все, кто нападал на нашу страну, плохо кончали. А чем этот душегуб лучше других?
Старый кузнец кивнул головой:
– Честное слово, Шмая-разбойник прав! Уж если, напав на старую Россию, все враги себе голову тут ломали, то какая же гибель ждет этого злодея в Советском государстве!..
– Золотые слова! – оживился Шмая, радуясь тому, что старик помог ему выйти из неловкого положения.
Хотя бабы, выслушав ответы кровельщика и кузнеца Кивы, молчали, но, должно быть, только из вежливости. Не хотелось смущать их. В душе они считали, что ответ не точен и надо будет еще к этому вопросу вернуться.
На следующий вечер, когда Шмая ушел к Овруцкому – надо же было старым друзьям поговорить о текущих делах артели, – у него в доме собралось много соседок. Долго сидели они здесь, болтая о том, о сем. Хозяйка поставила на стол сулею доброго вина, угостила всех, и бабы, охмелев, вдруг то и дело стали вспоминать неизвестную им «стратегию». Пристало к ним это словечко, хоть никто и не знал, что оно означает. И тогда жена кузнеца Кивы, высокая, худая, очень словоохотливая Марьям, заявила, что никакая стратегия ей не нужна. Она, мол, умеет хорошо гадать и сейчас в точности ответит на вопрос, чем закончится эта война…
Не прошло и десяти минут, как она притащила из дому большую клетку и пустила в нее огромного, могучего красавца петуха. Он расхаживал по клетке гордо и важно, с удивлением глядя на повеселевших, раскрасневшихся женщин, мирно поклевывал зерно. Потом в эту клетку бросили несколько маленьких карликовых петушков. Они сразу кинулись на могучего петуха, а он, бедняга, от неожиданности забился в угол. Петушки, воспользовавшись этим, изрядно пощипали его. Однако это избиение длилось недолго. Петух опомнился, пришел в себя, расправил крылья и как стал бить петушков, только перья полетели. Наконец огромный петух начал топтать мелюзгу. Бабы и не успели выхватить из клетки заносчивых петушков, которые нашли здесь свой бесславный конец…
– Вот так будет с Гитлером и его союзничками. Это уж наверняка! – воскликнула жена кузнеца.
Женщины от души смеялись и радовались, выпили по этому поводу еще вина и пустились в пляс. Со всех сторон сбежались сюда люди, спрашивая, что случилось, что за веселье. А жена кузнеца Марьям гордо объясняла:
– Такая уж у нас стратегия!..
Время летело, казалось, очень быстро. Однако ничего утешительного оно не приносило. Известия приходили самые мрачные, и всем уже ясно было, что недалек тот день, когда придется подняться с места со всем хозяйством, с отарой, стадом и двинуться в глубь страны.
Ждали из района распоряжений, готовились к эвакуации (это мудреное слово все уже знали), но все же надеялись, что до этого дело не дойдет.
Все больше людей уходило в военкомат, а оттуда – в армию. Шмая еще раз ходил вместе с ними, но неудачно. Его возвратили домой, напоминая, что когда нужен будет, его позовут… пока пусть работает на своем месте в артели, и так уже там осталось мало мужчин…
С начала войны не было весточек от сына-пограничника, и Шмая бродил по колонии мрачный, как туча. Неужели погиб Сашка? И он даже не сможет узнать, что с ним было, как он там сражался на своей заставе. Где его жена, ребенок? Несколько писем пришло от сыновей, от Мишки, но потом и ребята замолкли. Слезы не высыхали на глазах у Рейзл. Трое сыновей, и ни один не пишет, не дает знать о себе… Сердце у Шмаи разрывалось, когда он смотрел на убитую горем жену.
Работа не клеилась. За что бы он ни брался, все валилось из рук. На месте тоже не сиделось. То он пропадал у Овруцкого, в конторе или дома, то уходил к своему другу Даниле Лукачу, на ту сторону Ингульца, в соседнюю, украинскую артель. Сидели, курили, разговаривали, стараясь понять, что же происходит на фронте. Оля смотрела на отца Мишки с уважением. Ей очень хотелось узнать, есть ли от сына письма, но она не решалась заговорить об этом. Девчонка похудела, сильно осунулась, и никто, должно быть, кроме Шмаи, не знал причины этого.
Данило Лукач, человек спокойный, немногословный, в последние дни совсем растерялся. Его сын тоже ушел в первые дни войны на фронт, и скоро пришло извещение: «Погиб смертью храбрых…» После этого Марина, жена, стала совсем плоха, плачет дни и ночи – глаза уже выплакала, – вот и делай что хочешь…
Да, всем достается… И что ты скажешь другу в утешение? В таких случаях лучше всего молчать. И Шмая, немного посидев у Данилы, молча пожимал другу руку и снова где-то без толку бродил.
Однажды поздней ночью Шмая-разбойник, облокотившись на измазанный чернилами и клеем канцелярский стол, крепко задремал. Как депутат сельсовета он должен был сегодня до утра дежурить здесь у телефона.
После того как по тракту несколько дней и ночей кряду шли на восток новые обозы с беженцами, отарами овец, бесчисленными стадами коров, тракт неожиданно опустел, и люди ломали себе голову, думая, что это могло означать. К лучшему оно или к худшему? Может быть, остановили где-то на Днепре врага и сюда война не дойдет? Не иначе как фашистам уже нанесен смертельный удар и они откатываются назад. Значит, больше не придется отступать, эвакуировать людей, имущество, скот?..
Посреди ночи Шмая проснулся, подошел к окну, посмотрел в сторону тракта, но там не было никаких признаков жизни – не горели костры беженцев, не слышно было людского гама, ржания лошадей.
Оттого, что стало так тихо, на душе было и радостно и тревожно. Если судить по сообщениям радио, которые Шмая внимательно слушал несколько раз в день, никак нельзя было сказать, что дела на фронте изменились к лучшему. Так что же означает эта тишина? Почему прекратилось движение на тракте, ведущем на восток?
Не то от безделья, не то от тяжелых дум Шмая почувствовал невыносимую усталость и снова уснул, сидя у стола.
И странно, не успел он сомкнуть глаз, как уже видел сны. И хорошие сны! Он видел, как вдоль Днепра выстроились огромные пушки со стволами, чуть ли не достигавшими облаков. Они со всей своей яростью обрушились на фашистов, и вот уже снаряды рвутся в Берлине. Город горит со всех сторон. И потянулись по дорогам немцы – женщины, старики, дети – на фургонах, подводах. Они колесят по полям, испуганные, голодные, и там, на полях, горят костры беженцев, ржут кони, мычат голодные коровы…
«Это вам за наши истерзанные города и села, это вам за кровь и муки наших сыновей!.. – шепчет Шмая во сне, и лицо его сияет от радости. – Что ж, проклятые фашисты, разве вы не знаете старой истины: кто роет другому яму, сам в нее попадет?..»
Он не успел договорить, как его разбудил резкий и продолжительный звонок телефона. Телефон трезвонил, как на пожар.
Шмая вскочил с места. Что случилось? Где это звонят?
Телефон гудел настойчиво и угрожающе.
Прошла долгая минута, пока наш разбойник протер глаза, сообразил, где он находится, и направился к аппарату.
Сердце тревожно билось. Это был какой-то необычный звонок. Не к добру, видно… Сперва даже не хотелось снимать трубку. Страшные мысли проносились в голове.
Звонили из района. Продиктовали срочную телефонограмму.
Нужно немедленно поднять всех на ноги, взять все, что удастся эвакуировать, а остальное сжечь, уничтожить, ничего не оставлять врагу. Понятно? Главное – успеть вывезти всех людей в глубь страны…
Понятно…
Шмая слушал слова секретаря райкома, а сердце замирало, голова кружилась, горло сдавливали спазмы.
– Все пропало, – прошептал Шмая и вышел на крыльцо.
Над головой раскинулось синее звездное небо. Далеко, на берегу Ингульца, квакали, совсем как в мирное время, болтливые лягушки. Теперь дежурному по сельсовету предстояло сообщить людям страшную весть.
И должно же было так случиться, чтобы произошло это именно тогда, когда он, Шмая-разбойник, был на дежурстве!.. Как повернется у него язык сказать людям: «Бросайте свои насиженные гнезда, все нажитое за долгие годы жизни и езжайте куда глаза глядят»? И как они будут разрушать то, что своими руками с таким трудом построили?
Он шел, чувствуя, что ноги его будто наливаются свинцом.
Колония еще спала тяжелым, неспокойным сном, когда Шмая пришел на колхозную усадьбу и подошел к столбу, к которому был подвешен кусок рельса. Схватил палку и хотел было бить тревогу, но тут же подумал, что так можно насмерть перепугать женщин, ребят, и двинулся к дому Овруцкого. Осторожно постучал в окно:
– Проснись, хозяин! Слышишь, вставай!..
– Что за чертовщина! Кто это? – донесся сонный голос. Слышно было, как Овруцкий доставал костыли. В одном белье, встревоженный, взлохмаченный, вышел он на крылечко.
– Что там случилось?
– Не спрашивай, одевайся! – с болью в голосе ответил Шмая. – Из райкома звонили… Срочно надо выезжать…
Скоро вся колония уже была на ногах. Люди готовились в дальний путь, собирали свое немудреное имущество, закапывали, прятали, разбивали то, чего не могли с собой взять, грузили свои пожитки на подводы и арбы.
Шмая стоял у себя во дворе, сколачивая из жести и фанеры кибитку, чтобы дети могли укрыться от дождей и холода. Он делал свою работу быстро, молча, не глядя в ту сторону, где заплаканная Рейзл упаковывала в мешки домашний скарб.
Было еще темно, и в доме и во дворе горели замаскированные лампочки. И вдруг послышался страшный взрыв. Повсюду стало темно. Дети испуганно закричали. Рейзл схватила Шмаю за руку:
– Бомбы уже падают, бежим!
– Спокойнее, Рейзл! Никто нас не бомбит… Это работа Овруцкого. Взорвали нашу электростанцию, и все…
– Так что же, света больше не будет?
– Бог даст, вернемся обратно, и все у нас будет. Пустыню они тут застанут, гады проклятые!..
Непривычно мрачно выглядели улицы без затемненных фонарей, дома с погасшими окнами.
Тут и там слышались взрывы. Рушились постройки, валились крыши.
Люди спешили. Еще два-три часа, и надо будет отправляться…
Как обидно было сейчас Шмае, что его не взяли в армию, не пустили на фронт! Там ему все же было бы легче… Лучше уж драться с врагом, чем наблюдать эту страшную картину, видеть, как все рушится, как колонисты бросают свой угол, свое хозяйство. Неужели, думал он, сюда придут фашисты? И будут жить в его доме, валяться своими грязными сапожищами на его постели, будут пить его вино, есть из его тарелок, укрываться от дождя – под его крышей, которую он так любовно мастерил? Надо бы всем взяться за топоры, оглобли, вилы и выйти навстречу врагу, драться за каждый клочок родной земли…
Но тут же он спохватился: «Что за глупости лезут мне в голову? Всех крепких молодых ребят забрали на войну. Кто тут остался? И с голыми руками разве пойдешь против фашистских танков, самолетов, пушек? Такая армия, как наша, не может остановить фашистские полчища, так что уж о нас говорить?..»
Сколотив кибитку, Шмая погрузил в нее мешки и узлы, сказал жене, чтобы скорее собиралась, а сам пошел на усадьбу.
Резкий запах вина стоял в воздухе. В канавах текли ручьи красного вина, вылитого из подвалов. И Шмая стал помогать разбивать бочки, ломать постройки, машины. Все это он делал как во сне.
Скоро все было закончено. На улице уже выстроились подводы с имуществом артели и колонисты. Возле колодца сгрудилось большое стадо – коровы, овцы, свиньи. Все это скоро потянется по старому тракту и возьмет курс на восток, к Волге, а там, может быть, дальше, куда укажут.
Овруцкий ходил вдоль обоза, проверял, все ли забрали, все ли хорошо уложено.
Рейзл, взволнованная и испуганная, догнала председателя уже около его двуколки, стоявшей в хвосте обоза:
– А где же мой? Где его носит, когда уже надо ехать?
Овруцкий остановился, потер рукой потный лоб. Он совсем было забыл о том, что Шмая утром говорил ему. Никуда, мол, он не хочет выезжать, отправит семью, сам останется на месте, а когда наши части подойдут сюда, упросит, чтоб его взяли в армию… Возьмут непременно! Если откажут, он пойдет к партизанам. Овруцкий забеспокоился: куда же мог деваться разбойник? От него всего можно было теперь ожидать…
Несколько человек побежало искать кровельщика. Искали на плантации, возле разбитых построек. А Овруцкий поехал на двуколке к нему домой и застал его сидящим на завалинке, позади дома. Шмая уже приготовил сухой хворост и бутыль керосина, чтобы сжечь свое хозяйство, а сейчас тщательно чистил старое ружье, с которым Азриель-милиция когда-то поддерживал порядок в поселке, а потом охранял плантацию.
Заметив издали, что едет Овруцкий, Шмая насторожился, чувствуя, что ему влетит. Они встретились глазами, и председатель укоризненно покачал головой.
– Что ты себе думаешь, Шмая? – с трудом сдерживая гнев, проговорил Овруцкий. – Или ты, может быть, еще не проснулся после ночного дежурства? Ты что ж, милый мой, не видишь, что делается? Люди уже готовы в путь, надо спешить, еще раз звонили из района, а ты тут торчишь! Ну, есть, конечно, старики, старухи, несколько чудаков, которые думают, что им нечего выезжать, что никто их не тронет, – это их дело, насильно мы никого не увозим… Но ты?.. Ты всех задерживаешь!
– Мне надо приготовить оружие… – тихо промолвил Шмая. – Подойдут наши войска, и я или с ними останусь, или в район двину. Говорят, что создается где-то партизанский отряд. В степь уйдем…
Овруцкий пожал плечами и, сдерживая злость, сказал:
– Что ж, это дело неплохое… Я бы сам остался. Но если б ты там нужен был, тебе не постеснялись бы об этом сказать. Но, видно, обойдутся тут как-нибудь без тебя. И нечего самовольничать!.. – Подумав минутку, он добавил: – Ты не забудь, что мы обязаны спасти людей, хозяйство, скот… А тебя правление назначило старшим гуртовщиком… Ты должен весь скот перегнать через Волгу. Ты отвечаешь за это головой. Это ведь государственное дело… Государственное, понимаешь?..
– Государственное дело, говоришь? – поднялся с места Шмая, глядя в озабоченное лицо Овруцкого. – Что ж, если это государственное дело, значит, я обязан. Но зачем же ты меня старшим гуртовщиком назначил? Я не обижусь на тебя, если буду просто пастухом. Мне чины не нужны…
Не говоря ни слова, Шмая сунул свое ружье в двуколку Овруцкого и побежал к площади. Подойдя к кибитке, где сидели жена с детьми и соседки, он сказал, что пойдет за стадом, и направился к большому гурту.
Пастухи, погонщики и доярки очень обрадовались, увидев озабоченного кровельщика.
– Дядя Шмая, это правда, что вы будете нашим начальником?
– А что поделаешь? – с грустной улыбкой промолвил кровельщик, взяв кнут в руки. – Кем только я уже не был на своем веку? Теперь пришлось стать погонщиком… Ну, что ж, ребята, гайда!
Подводы двинулись к тракту. Они вытянулись цепочкой, нагруженные домашним скарбом – корытами, узлами, ведрами, чайниками, детскими колясками. Позади горели постройки, застилая дымом весь поселок. Выли собаки. Испуганные кошки выскакивали из домов и прятались в огородах…
Подводы уже были за мостом, когда Шмая дал команду и пастухи выгнали гурт на дорогу. Над трактом поднимались облака пыли.
Обоз казался бесконечным. Он растянулся на добрый километр по старому тракту. Позади тяжелой поступью шли упитанные коровы, быки, шумно неслась с горки вниз большая отара овец. На подводах с бидонами сидели доярки, молча глядя в степь, где пылали скирды нового урожая.
Как ни старались двигаться быстро, но это не удавалось. Трудно было шагать по пыльной степи в зной, сквозь дым. Куда ни взглянешь – всюду горело, и едкий дым застилал степь, поселки, села. По всем дорогам тянулись гурты и обозы с беженцами. Надо было часто останавливаться, чтобы напоить скот, подоить коров, накормить людей, отдохнуть.
День за днем тянулся обоз. Люди постепенно привыкали к кочевой жизни. Детворе она даже нравилась, особенно когда проходили мимо брошенных баштанов и садов, где можно было без страха брать огромные полосатые арбузы, одним ударом о землю раскалывать их и с наслаждением вонзать зубы в их мякоть, взбираться на раскидистые яблони и набирать полную пазуху яблок. Арбузами и фруктами лакомились не только ребята и взрослые люди, но и коровы, лошади, овцы… Доярки даже сокрушались: некуда было девать молоко и приходилось выливать его на землю, в канавы.
Отойдя далеко от поселка, люди уже не так остро тосковали по своему дому. Теперь все уже стремились поскорее добраться до заветной Волги, чтобы переправиться через нее, перегнать скот и поскорее найти себе приют. Все понимали, что мешкать нельзя, скоро наступит осенняя распутица, тогда еще труднее будет…
Постепенно приходил в себя и Шмая-разбойник. Он и сам не мог себе объяснить, что с ним творилось в последние дни дома. Теперь он уже снова шутил, забавлял пастухов.
Овруцкий все чаще отлучался куда-то. То, что, несмотря на все старания, обоз и гурт продвигались вперед так медленно, очень его тревожило. Он заезжал в близлежащие села, советовался, как быть дальше, и решил, что надо поскорее добраться до большой узловой станции, может быть, там удастся погрузить людей и имущество в вагоны. Он отлично понимал, что это не так просто: кто в такое время, когда вывозят на восток заводы и фабрики, даст ему вагоны, – но все же не оставлял этой надежды.
Однажды перед закатом солнца послышался отдаленный грохот. Он надвигался на тракт, как могучая морская волна. Все с ужасом устремили взоры к горизонту. И вот уже все оглушены зловещим рокотом моторов. В небе показались бомбардировщики. Чьи они? Свои? Чужие?
Вот они уже близко, и в лучах солнца на фюзеляжах отчетливо видны ненавистные черные кресты.
Люди соскочили с подвод. Дети с плачем жались к матерям. Лошади ржали, рвались в степь, и трудно было их удержать. Гурт сбился на дороге.
– Фашисты!..
– Боже мой, куда бежать?
– Что делать?
Шмая-разбойник поднял руку козырьком и посмотрел на ровные треугольники, мчавшиеся в небе с угрожающим ревом:
– Спокойно! Разве они не видят, что мы гоним гурт, что мирные люди эвакуируются…
– Будут они тебя стесняться, эти людоеды… Бежим куда-нибудь!..
Люди замолкли, увидев, что самолеты, развернувшись, пошли на небольшое село, спрятавшееся за косогором. Прошло несколько секунд, и взрывы потрясли воздух. Все увидели, как село потонуло в дыму и огненные языки взвились над крышами…
– Гады… Бомбят мирных людей!.. – удрученно бросил Шмая и, заметив, что самолеты снова направились к тракту, крикнул не своим голосом:
– Чего вы столпились, как отара овец? Разбегайтесь по степи! Ложитесь в ямки и канавы!..
Люди рассеялись по степи, попадали на землю. Шмая со своими пастухами погнал гурт на обочину дороги. Коровы подняли страшный рев. Лошади рвались из оглобель.
Шмая успел только отскочить в сторону и припасть к земле, как близко раздался оглушительный взрыв. Казалось, вся земля вздыбилась. А тут еще застрекотали пулеметы…
– Душегубы проклятые! Нет на вас погибели! – поднявшись с земли, крикнул Шмая и бросился к тракту, где стонали раненые. Тут и там лежали сраженные пулеметным огнем коровы, овцы…
Весь остаток дня до полуночи обоз и гурты двигались дальше. С подвод доносились стоны людей, раненных во время бомбежки. Уже было недалеко до узловой станции, но там виднелись огромные облака дыма – горели цистерны с бензином и нефтью, громоздились обгоревшие вагоны, сброшенные с рельс воздушной волной. Развороченные паровозы торчали среди обломков зданий, валялись искореженные рельсы, и повсюду зияли воронки, наполненные водой и нефтью…
Никто уже не тешил себя надеждой, что здесь удастся сесть в поезд. И обозы, гурты, не останавливаясь, шли все дальше и дальше на восток.
Найти уцелевшую станцию, свободный эшелон стало целью жизни Овруцкого. Только бы погрузить имущество посадить женщин, стариков и детей, отправить их, а остальные с гуртом уже как-нибудь своим ходом доберутся до переправы.
Как только миновали разрушенную станцию и вышли в чистое поле, Овруцкий помчался на своей двуколке вперед, вдоль железнодорожного полотна, всматриваясь вдаль: нет ли поблизости разъезда? Он совсем загнал коня, но все же достиг цели. На небольшой станции стоял длинный состав – эвакуировался какой-то завод. На запасном пути паровоз брал воду. Ждали еще каких-то машин. И Овруцкому удалось упросить старшего погрузить в вагоны людей, имущество, несколько пар лошадей.
Он быстро поехал обратно и отправил обоз с людьми к станции.
Шмая-разбойник подбежал к кибитке, где сидела его жена с детьми.
– Ну, Рейзл, хорошо, что вы поедете дальше поездом. Вижу, как вам трудно… Смотри хорошенько за дочками… Скоро мы встретимся там, за Волгой. Сама понимаешь, надо спасти скот, это ведь все наше богатство…
– Я все понимаю… Что ж поделаешь… Бог даст, там, за Волгой, уже встретимся… Но как же с письмами будет? Письма будут приходить в «Тихую балку», а оттуда кто нам их перешлет?..
– Ну, хватит об этом… Не ты первая, не ты последняя…
Шмая с грустью смотрел на жену, на спящих детей. Такое теперь творится на дорогах, что неизвестно, когда они увидятся, где сойдутся их пути. Но как бы то ни было, Шмая рад был, что они сядут в поезд и, возможно, больше не попадут под бомбежку… Пусть они больше не видят этой страшной дороги страданий…
– Ну, дорогая моя, – нежно обнял он жену, – спеши скорее на станцию! Смотри, не отставай… Береги детишек… Езжай, а мне надо к гурту идти… Скоро увидимся!
Он осторожно поцеловал детей, чтобы не разбудить их, и отошел от кибитки.
Рейзл взглянула на него заплаканными глазами:
– Ох, как горько мне, дорогой мой, как горько!.. Лучше уж я с тобой останусь…
– Что ты? Горько, говоришь? Я понимаю… Но скоро врагам нашим будет горько… Ты думаешь, что за это им не отомстят? – кивнул он на разбитую станцию, на облака дыма, затянувшие полнеба. – Такое не прощается…
Он хотел ей еще что-то сказать, но лошадь рванулась с места, и кибитка покатилась за обозом.
– Счастливого пути! Держись молодцом, не унывай, не падай духом!..
Он помахал фуражкой вслед удаляющейся кибитке и быстро пошел к гуртку, сгрудившемуся на дороге. Там его уже ждали пастухи и доярки.
– Ну что ж, друзья, – возбужденно воскликнул кровельщик, – значит, пошли! Отправили наших на станцию, легче теперь будет. Они нас только задерживали. Давайте теперь двигаться веселее…
И снова заклубились над трактом облака пыли.
Шмая-разбойник шагал с кнутом позади гурта, запыленный, заросший, и негромко напевал свою любимую солдатскую песенку. Но на душе у него было вовсе не так весело, как могло показаться со стороны…
Глава двадцать пятая
БЕДА НА ДОРОГАХ
Все свое нехитрое имущество – подушечку, полотенце, пару белья, портянки и кусок мыла – Шмая аккуратно перевязал бечевкой и взял под мышку. Коровы совсем отбились от рук, обнаглели, не слушались окриков пастухов, и зевать было нельзя, а то разбегутся по белу свету… А сверток Шмае мешал, и он решил ткнуть его куда-нибудь. Но куда? Несколько подвод, оставшихся с гуртом, он послал вперед – может, хлопцы подыщут подходящее местечко для ночевки. Единственная подвода с бидонами, на которой ехала молоденькая доярка Шифра, где-то отстала, и ее даже не видно. Верно, возится девушка со своими длинными косами и обо всем на свете забыла… Вот и попробуй ткни куда-нибудь свой узелок…
И тут неожиданно ему в голову пришла счастливая мысль.
Шмая двинулся к огромному величественному быку, который все время важно шествовал во главе гурта, к животному с багровыми разбойничьими глазищами, богатырскими рогами и могучей, сморщенной, как у слона, шеей. Он с минутку смотрел на быка и, подойдя с опаской поближе, осторожно погладил его по шее.
– Эй, красавец мой драгоценный! – обратился он к гордому быку. – Прошу тебя, не смотри на меня так сердито и не важничай, веди себя прилично. Не согласишься ли ты, дорогой, понести мой узелок? Ну-ка, милый, нагни головку. Вот так. Ниже! Не фыркай, дьявол!.. Не злись, пожалуйста, не реви, как на ветфельдшера, хлопчик!.. И ногами не дрыгай. Стой спокойно, а то, если заденешь меня своими рогами, от старшего гуртовщика ничего не останется… Ну не сердись, сделай милость! Я тебя не собираюсь ни резать, ни убивать… Я только привяжу к твоим рогам этот маленький узелок… Он ничего не весит… Даже не почувствуешь. Слышишь, красавчик?..
Так мирно разговаривал Шмая с породистым животным – гордостью артельной фермы, а шедшие рядом пастухи, погонщик Азриель-милиция и подоспевшая доярка Шифра покатывались со смеху.
– Вот так дядя Шмая!.. Кажется, уговорит Тюльпана… Сейчас он нагнет голову…
– Просто умора!..
И все же всех немного беспокоило то, что свирепый бык косо посматривает на старшего гуртовщика. Как бы беды не случилось…
– Ну-ну, не шали, сударь! – продолжал тем же веселым тоном Шмая-разбойник. – Не задавайся, мой мальчик! Ты, верно, думаешь, что это тебе дома, где все с тобой носились как с писаной торбой и пылинке упасть на тебя не давали? Нет, милый мой, прошли те времена. Теперь война… Видишь, как поцарапал осколок твой бок, и нельзя даже ветеринара позвать!.. Ты уже забыл, как метался, словно угорелый, по полю, когда налетели бомбардировщики, бросали в тебя бомбы и стреляли из пулеметов? Еще хорошо, что жив остался. Ничего не попишешь, война… Конечно, у нас на ферме ты был важной птицей, единственным кавалером. Водили к тебе барышень со всего района, и то по особым талонам из земотдела… Готовили тебе отдельный рацион, чтоб, упаси бог, ты не похудел… В Москву на сельскохозяйственную выставку возили тебя напоказ, и ты стоял там рядом со всеми лучшими быками… За красоту свою и силу, за чистые крови золотую медаль заслужил… Да, времена переменились, и всем нам теперь туго приходится…
Шмая-разбойник снова подступил к быку, собираясь привязать к его рогам свою ношу, но тот ускорил шаг, раздул влажные розовые ноздри, а заплывшие глазищи глянули на Шмаю, будто говорили: «Отстань подобру-поздорову. Мне и так осточертела эта дорога, а тут еще ты пристаешь!..»
Но старший гуртовщик не оробел. Он одним прыжком догнал быка, потянул железное кольцо, вдетое в его ноздрю, и продолжал:
– Но-но! Ты только без фокусов! Спокойнее, мой дорогой!.. Что поделаешь, когда такая беда на весь мир свалилась, такая страшная война идет, что не знаешь, где теперь фронт, а где тыл. Это тебе не прежняя война, когда были позиции, окопы и все выглядело совсем иначе…
Всем теперь плохо… Никого проклятые фашисты не щадят – ни человека, ни скотину… Они хотят со всех нас шкуру содрать… Но не надо унывать, падать духом! Мы уже хорошо знаем немца, мы уже сидели в окопах нос к носу и били его в хвост и в гриву. Он, паршивец, правда, потом снова приплелся к нам на Украину, грабил, убивал, разбойничал… А чем все это кончилось? Едва ноги от нас унес. Ничего, милый мой, потерпи еще немного… Нам бы только до Волги добраться и перескочить на ту сторону. Там и нам и тебе уже будет лучше, возьмемся за работу. А разобьют врага – домой вернемся и снова поставим тебя в станок на усиленный рацион… И опять к тебе будут гнать невест со всей округи… А пока, сударь, не будь таким гонористым и шагай веселее! Живее переставляй ножки, не стесняйся!..
И случилось невероятное. Свирепое животное успокоилось, послушно наклонило могучую шею и дало привязать сверток к своим рогам.
Теперь Шмая чувствовал себя свободнее. Он шагал за гуртом, лихо размахивая кнутом. Время от времени он покрикивал на усталых коров:
– Айда, айда, шире шаг, девчата! Не отставайте от вашего кавалера! Медлить нам никак нельзя. И так уже задержались в пути…
Однако, как ни старался он бодриться и подбадривать остальных, предчувствие близкой беды все больше охватывало его. Горизонт был весь в дыму и пламени. Земля сотрясалась от взрывов бомб. Грохот артиллерии, не прекращавшийся ни днем ни ночью, все отчетливее доносился сюда. Приуныли люди, и в глазах у каждого можно было прочесть тревожный вопрос: «Выберемся ли мы отсюда живыми?»
Шмая украдкой посматривал на товарищей и неожиданно для всех начал напевать: «Солдатушки, бравы ребятушки…» Но в ту же минуту поймал на себе удивленный взгляд долговязого Азриеля, ставшего теперь погонщиком. Тот смотрел на него осуждающе и наконец не выдержал:
– Сколько лет я тебя знаю, Шмая, и каждый раз удивляюсь. Не иначе как в тебе засел какой-то бес, который веселит тебя, делает беззаботным… У меня душа болит, разрывается, что покинул дом, потерял свою семью, тащусь за этим гуртом неизвестно куда, а ты себе шагаешь, будто на свете все хорошо, даже веселишь нас, песни поешь…
Глаза Шмаи на мгновенье подернулись печалью. На высоком лбу, опаленном солнцем, сбежались глубокие морщины. И он не сразу ответил Азриелю:
– Что тебе, дорогой мой, сказать на это? В самом деле, не родился я меланхоликом и, видно, уже неисправим, таким умру… К тому же, должен тебе признаться, люблю смотреть вперед. И вот я вижу впереди, что и на нашей улице будет праздник. Пока жива Москва, мы не пропадем!
– «Жива Москва!» А немцы с аэропланов разбрасывали листовки – сам читал, – что они уже захватили Москву и Ленинград…
– Шиш с маком они захватили! – перебил его Шмая. – Они уже трижды объявляли, что вот-вот покончат с нами. А мы каждый день слышим по радио Москву… Не верь всяким выдумкам!
– Это, конечно, так, но нашим, Шмая, видно, трудно приходится, – продолжал Азриель. – Посмотри вон туда – все там горит. А уж если наши все сжигают, затопляют шахты, взрывают рудники, стало быть, скверно, а?
– Чудак ты! – воскликнул кровельщик. – Кто тебе сказал, что скверно нам? Даже очень паршиво, дорогой мой! Но опускать голову нельзя… Говоришь, затопляют шахты? Это я сам вчера видел. Сжигают склады, вывозят машины, оборудование заводов – тоже видел. А разве ты бы хотел, чтобы все это добро мы оставили врагу?..
– Но ведь так можно ломать и сжигать черт знает сколько! А с чем мы останемся?
– Не бойся, все будет сделано с головой, с умом. А выгоним фашистов, все отстроим заново… Для нас, понимаешь, самое главное, чтобы жила Советская власть… Будет Советская власть – все станет на свои места. Не будет Советской власти… – Шмая на минутку призадумался и решительно добавил: – Наша Советская власть вечно будет!
– Твоими устами да мед пить… И еще я хочу спросить тебя, Шмая, куда повезли наши семьи? Кто их встретит, кто им поможет?..
– Государство у нас огромное, а Советская власть всюду одна. Везде живут наши советские люди, они и помогут. Башкиры, узбеки, казахи… В прошлом году на выставке в Москве мы их видели, гуляли с ними… Они были в папахах, в полосатых халатах, в тюбетейках… Еще сидели с ними в чайхане и пили чай из пузатых чашек, ели кишмиш и плов с изюмом… Помнишь?







