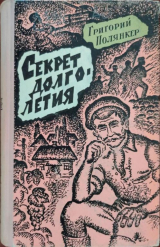
Текст книги "Секрет долголетия"
Автор книги: Григорий Полянкер
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 31 страниц)
И думы у тебя, конечно, крамольные. Спрашиваешь себя: за чьи грехи отдуваешься? За что страдаешь? Ради кого?.. Из дому приходят письма, одно другого грустнее, тошно жить становится… Думаешь: скорее бы настал конец этим мукам! Ого, чего захотел! Разве так скоро может настать конец всему этому? Разве царю на голову каплет? Пока августейшая царица да любезный ее сердцу Гришка Распутин не подскажут, война, надо думать, не кончится. Оттуда, из царского дворца, должна прийти добрая весточка. А ты, стало быть, сиди и жди у моря погоды!
А ведь у бывалых солдат золотые руки, они мастера хоть куда! Отпусти их домой, они и одеть, и обуть, и накормить всю страну могли бы. Так нет же! Лежат тут под огнем, как проклятые, и гибнут ни за понюшку табаку.
Но солдаты – народ особый. Ко всему привыкают. Голову не вешают, духом не падают. Совсем рядом смерть, а солдат о жизни думает: «Вернуться бы домой к жинке, к детишкам, к родным и друзьям!..»
Посмеяться, пошутить – это единственное, что солдату не запрещено. Правда, шути, смейся, да оглядывайся. Услышит начальство, что шутки шутишь да смеешься, подумает, что высмеиваешь царя-батюшку и Гришку Распутина, тогда тебе несдобровать. Хотя начальство тебя тут, пожалуй, не услышит. Оно сюда и носа не показывает. Тут опасно для начальства. Стреляют… Чего доброго, и убить могут!..
Денек выдался спокойный. Вовремя кухни приехали. Ребята достали свои котелки, поужинали чем пришлось, закурили махорку и сразу повеселели. Один пожилой солдат, шутник и острослов, и говорит мне:
– Слышь, браток, хорошо бы теперь к жинке на пироги поехать, а? Вот бы поесть пирогов с вишнями да еще кувшинчиком кислого молока запить… Когда уж эта война кончится, Шмая-разбойник?
(Кто-то из моих земляков проболтался, что меня прозвали в нашем местечке разбойником, вот и приволоклось за мной это прозвище и сюда, на фронт).
– Когда война кончится? А я почем знаю? Что я, пророк? А мне, думаешь, она не надоела хуже горькой редьки?
– Чего б это она тебе надоела? – заговорили ребята. – До ефрейтора уже дослужился, «Георгия» нацепили. Кто тебя знает, может, до генеральского чина решил дослужиться…
– Из-за тебя, верно, война и затянулась так, Шмая…
– Почему, – говорю, – из-за меня?
– Если б не взял ты в плен того генерала, может, перемирие вышло бы, а так сердится кайзер Вильгельм…
– Устроил бы ты, Шмая-разбойник, чтоб скорее война кончилась. А то воюем-воюем, а конца-краю не видно… Придумал бы чего…
– А что я могу сделать? Царь я, что ли?
– Ты еще выше царя! – кричат ребята. – Царь, он на земле сидит, а ты кровельщик, всю жизнь на крышах. Стало быть, ты повыше всех царей на свете!..
– Эх, братцы, – говорю, – как бы не так! Был бы я царем, все по-иному пошло бы!
– Все так говорят, пока до престола не доберутся! – отвечают мне. – А взберутся на престол, обо всем, кроме своего пуза, забывают!
– Нет, ребята, – говорю, – стал бы я царем хоть на одну недельку, все было бы иначе…
– А как?
– Ого, будь я царем!.. Уж вы лучше не спрашивайте, что было бы! Перво-наперво, выдал бы я каждому из вас по паре теплого белья и портянок, чтобы не мерзли вы здесь, в окопах, как собаки. Это первым делом. Потом выдал бы каждому по два котелка гречневой каши с салом, а то перловка уже из горла лезет, а от овсянки скоро ржать начнем… Кроме того, приказал бы каждому из вас залатать обувку, чтобы под пальцами лягушки не квакали. Еще бы я все сделал, чтобы такие милые парни не гнили в этих проклятых окопах, а лежали бы под боком у своих женушек…
Слушают солдаты и смеются, а дождь льет и льет, и в окопах полно грязи, все промокли до нитки – зуб на зуб не попадает. Тут и там гремит артиллерия. Свистит шрапнель… А вы знаете, милые, что такое шрапнель? Дай бог, чтобы никогда не знали!..
Подкрепились малость, а тут снаряд над головой разорвался. Упал рядом со мной солдат, с которым только что из одного котелка кашу ел… Санитары положили его на носилки и тащат в лазарет… Смотрят на меня солдаты печальными глазами:
– Ну, Шмая-разбойник, как тебе нравится такая жизнь?
– Мне, – говорю, – очень нравится такая жизнь. Пожелал бы Гришке Распутину, Николке с его царицей и свите их хоть на недельку поселиться в наших окопах. Узнали бы, почем фунт лиха, может, скорее закончили бы войну…
– Но ты, Шмая, теперь тоже вроде имеешь какое-то отношение к свите… Тоже высокая шишка… До ефрейтора дослужился, теперь уже и до генерала недалеко… Написал бы высочайшему, что согласен остаться в ефрейторском чине, лишь бы война кончилась…
Вот так помаленьку сидим в окопах, курим махорку, зубоскалим, а смотришь – еще одного стукнуло. Был человек, и нет человека…
Глава вторая
УДИВИТЕЛЬНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ
Тут Шмая-разбойник заметил, что солдатки, слушавшие его не переводя дыхания, приуныли, тяжело вздыхают, а некоторые вытирают платком мокрые глаза, и немного растерялся. Он не любит, когда люди плачут, расстраиваются. Разве мало слез пролито за эти годы? А сколько еще придется пролить их! Не лучше ли рассказать женщинам что-нибудь веселое? Но ведь на войне совсем не весело. И все же нельзя перед землячками ударить лицом в грязь. Может, придумать что-нибудь? Они на него не обидятся, если что не так и получится.
Глаза у нашего кровельщика заблестели. Вбив несколько гвоздей в стропила и приладив один ржавый кусок жести к другому, он, после долгой паузы, заговорил снова:
– Так на чем же мы остановились? Ах да, вспомнил! Сидим мы, значит, в окопах. На душе кошки скребут. Уже не шутим, не смеемся, каждый занят своей грустной думой. Вдруг слышу – вызывают ефрейтора Спивака в штаб. Прибегаю. Козыряю, как полагается: мол, по вашему приказанию ефрейтор Шая Спивак явился. Посмотрели на меня, на мой потрепанный мундир, скривились. Велели немедленно привести себя в божеский вид и вручили секретный пакет: «Вот эту штуковину, ефрейтор, ты должен немедленно доставить в полк, начальству». Спрятал я пакет за пазуху и пошел с божьей помощью грязь месить. Штаб полка стоял где-то в городе, за железной дорогой. Долго петлял, бродил по темным улочкам.
А дождь хлещет и хлещет, я уже промок весь, пока нашел этот штаб. Сдал пакет и двинулся было обратно в свой рай. А тут мне в голову стукнуло: эх, была не была! Зайду-ка я на станцию, погляжу, что там делается. А то приду, ребята пристанут с расспросами, а что я им скажу? Свернул я на станцию.
Хоть здесь и не стреляют, но все не лучше, чем там, у нас. Куда ни глянешь, беженцы, раненые, нищие, бесприютные дети – грязные, голодные. Детишки плачут, матери проклинают все на свете. Посмотрел я эту картину, и сердце защемило. Вышел на перрон. Иду не спеша, по сторонам оглядываюсь. Паровозы гудят, возле вагонов толпы народу. Все куда-то спешат, толкаются. Светопреставление!
Иду дальше. Вдруг вижу – далеко от станции, в тупике, стоит поезд. Не поезд – красота! Куколка! А вагоны, сроду таких не видал! В таких вагонах самому царю разъезжать. Подошел ближе. В первом вагоне особенно светло, весело, музыка играет, и внутри, вижу, пьют, танцуют, будто никакой войны на свете нет. Кто же это, думаю, здесь? Подхожу тихонько к вагону, а на нем – табличка, и на табличке той золотыми буквами написано: «Поезд его императорского величества. Солдатам и прочим входить воспрещается…» Знай, мол, свинья, свое корыто!.. Стою возле этой таблички, и зло меня берет. Слыхали такое: «Солдатам и прочим не входить»?.. Мы на войне кровь проливаем, гибнем, как мухи, и вот тебе благодарность за все твои страдания! Такая меня досада взяла, что не сдержался, сорвал табличку. И решился: ничего, хоть бы сам царь тут сидел, я все равно зайду к нему и спрошу, скоро ли кончится эта проклятая война.
Недолго думая, вскочил я на подножку вагона, рванул дверь на себя, а меня, чувствую, уже кто-то схватил за шиворот и хочет столкнуть вниз. Оглядываюсь – какой-то чубатый казачина с красной рожей, пьяный, еле на ногах держится, орет на меня, брызжет слюной и ругается такими неприличными словами, что мне, голубушки соседки, неудобно даже повторить их вслух. В общем, ругается так, что наш балагула Хацкель против него мальчишка и щенок! Что же мне делать? Ну, стал я ему втолковывать, объяснять, что я тот самый ефрейтор, который генерала взял в плен, что имею «Георгия», три ранения, не говоря уже о контузиях и отравлении газами. А он мне на это: «Брось! Прекратить! Не пущать! У нашего царя-императора на позициях несколько миллионов таких бродяг, как ты. Что ж, ему больше делать нечего, как пускать вас к себе в вагон, чтобы вы ему всякую заразу да вшей притащили? Слазь, сказано! Слазь!»
На шум выбежал еще какой-то не то прапорщик, не то штабс-капитан. Узнав, в чем дело, посмотрел на меня и махнул рукой: мол, ладно, пущай бедный солдатик зайдет, погреется. Выкинуть его из вагона мы всегда успеем…
Добравшись до того места, как он попал в царский вагон, Шмая-разбойник несколько растерялся, чувствуя, что уже заврался. Тут бы какая-нибудь из женщин остановила его: не туда, брат, заехал, – или скептически пожала плечами, усмехнулась бы. Да где там! Поверили, черти!
Разинув рты, слушали, пожирая кровельщика глазами. Ничего не поделаешь, нужно держаться до конца. Все равно ведь не отстанут и работать не дадут. И, словно пускаясь в дальнее плавание без компаса, без руля и без ветрил, отвернувшись, чтоб не видели его усмешки, Шмая повел рассказ дальше – как раз в это время фантазия его разыгралась вовсю.
– Да, и вот я, значит, вхожу в вагон. Со всех сторон на меня удивленно смотрят: откуда это взялся здесь солдат в рваных башмаках и куцой шинельке, обтрепанных обмотках? Что это за чучело в вагоне его императорского величества? Министры и подминистры, консулы, господа исправники, генералы и прочие всякие шишки таращат на меня глаза, но не смеют худого слова сказать. А я оглядываюсь по сторонам. Батюшки мои, что тут делается! Шмая-разбойник попал прямо в рай! Только ангелов еще не видно… Все вокруг блестит, сверкает золотом и бриллиантами. Персидские ковры набросаны всюду, как старые шинели и опорки в цейхгаузе. На столах не коптилки чадят, а керосиновые лампы с фитилями горят. Столы ломятся от всякой снеди. А вино и водка льются ручьем. Знаете, у меня даже что-то внутри похолодело. Мурашки по всему телу поползли. «Дурень, – думаю про себя, – куда это тебя занесла нечистая сила? О чем ты, несчастный солдатишко, будешь толковать с этими важными министрами и губернаторами, с этими полуголыми красавицами, с ног до головы увешанными бриллиантами? Разве они поймут тебя? Ведь издавна известно, что сытый голодного не разумеет».
Я уже пожалел, что приперся сюда. А тут еще замечаю, что вся эта компания, хоть уже еле на ногах держится, снова рассаживается за столом, который ломится от жратвы. Пьют, гуляют, обнимают красавиц, поют похабные песенки – даже наши солдаты постеснялись бы такие петь.
Стою я в сторонке, облизываю сухие губы и смотрю на стол. Чего там только нет! Шампанское, зельтерская вода, квас, а на закуску служанки подают что только душе угодно: сало с чесноком, кисель, воблу, печеную картошку, пшенную кашу – и с молоком и без молока, поросячьи ножки, жирный суп перловый с двойной порцией мяса, гречневую кашу, – ну, всего, конечно, не перечтешь. И паек этот выдается им бесплатно, без копейки денег! И музыка играет. А кто из братии на ногах держится, тот танцует, ногами разные кренделя выделывает…
– Кто такой будешь, солдатик? – подходит вдруг ко мне толстяк с козлиной бородкой и красным носом – видать, министр или губернатор, – сует мне в руки стакан спирта и кричит:
– Выпей, дурак, за нашего царя-батюшку и отечество!
Недолго думая, взял я стакан, посмотрел на красную рожу министра и выпил одним духом. Потом схватил со стола кусок хлеба и головку чеснока, закусываю. А вокруг меня уже собирается царская свита. Крупные, видать, воротилы. Смотрят на меня, расспрашивают, кто я такой, какого полка, какого батальона, за что «георгия» получил, как живется там, в окопах… Ну, я, конечно, выкладываю все, что на душе накопилось. Рассказываю, как солдаты на позиции страдают, как народ бедствует и голодает, обо всем рассказываю, не стесняясь…
Тут толстяк подсунул мне стакан крепкой самогонки.
– Не рассуждать! – гаркнул он и вытаращил на меня свои бараньи глаза. – Пей, дурак, и думай поменьше!.. Теперь такая каша в России заваривается, что сам черт не разберет. Выпей, дурак, за царя-батюшку и за дорогого нашего Гришку Распутина…
– Нет, – говорю, – вашесокопревосходительство, за Гришку Распутина пусть царица пьет и другие его полюбовницы… Я лучше выпью за моих братишек солдат, которые в окопах пропадают…
Ну, выпил снова и взял себе котелок гречневой каши. Рубаю на чем свет стоит. Потом потихоньку выбрался из этой толчеи, пошел по вагону. Открываю боковую дверь и вижу – кого вы, бабы, думаете, я вижу? Вижу, конечно, не царя, не царицу, а Татьяну… Татьяну Николаевну, царевну! Ну, царскую дочку… Тоже, думаю, неплохо. Присматриваюсь к ней. Одета она, как сама царица, только на голове – белая косынка с красным крестом посередине, как у сестры милосердия. Это она, оказывается, приехала на фронт с целой оравой бездельников раненым солдатам помогать. Вот и помогает, значит, лечит. Чтоб ее так на том свете лечили!
Смотрю на нее, на царевну, и думаю: «Ну, Шмая, с этой шлюхой и ее свитой тебе сегодня о серьезных делах поговорить не придется». Но тут, дорогие мои соседушки, подняла на меня Татьяна глаза и поманила пальцем:
– Подойди-ка сюда, солдатик, ближе подойди. Не бойся, я не кусаюсь… Кто такой будешь?.. – спрашивает она и протягивает мне пригоршню жареных семечек.
Отрапортовал я, кто такой, какого полка, какого батальона, какой роты, фамилию назвал.
А она поднялась из-за стола и аж просияла вся:
– А ты, милый, случайно, не тот, о ком в газетах писали? Не ты ли взял в плен немецкого генерала?..
– Так точно, я! – отвечаю. – Только не я один, один не справился бы с таким пузаном. Вместе с ребятами из нашей роты взял его…
– Вот оно что! Молодец солдатик! В таком разе присаживайся возле меня к столу, пей и закусывай, чем бог послал. Один раз на свете живем! Гуляй, коль ты такой молодец! – говорит она и глазки строит.
Я человек простой, не даю себя долго просить. Выпил две кружки шампанского, запил квасом, достал кусок вяленой воблы, взял себе холодца, куриную ножку ухватил, и сразу веселее на душе стало. А царевна тоже опорожнила добрую кружечку самогонки и еще больше повеселела. Придвинулась ко мне, целоваться лезет. А я потихоньку отодвинулся и прошу эту самую Татьяну Николаевну налить мне кружку кипятку и приказать своим полюбовникам выдать мне двойную порцию сахарку, пачку махорки и моргаю ей глазом, чтобы хахали ее убрались отсюда и оставили нас с ней наедине: мол, есть серьезный государственный разговор.
Царевна топнула ногой, бездельники убрались, и остались мы с ней вдвоем в купе.
– Что скажешь, солдатик? – спрашивает она.
– Скажи-ка мне, птичка божья, что это все значит? – говорю я Татьяне. – Твоего милого папашу колошматят на всех фронтах, от его империи скоро рожки да ножки останутся, а ты, красавица моя, гуляешь, тебе весело…
Задумалась барышня, будто сказать хочет: «Простой солдат, а поди ж ты, понимает, что к чему. Дело говорит…»
– Молчишь, Татьяна?.. Не знаешь ты, как люди бедствуют. Посадить бы тебя, папашу твоего и мамашу хоть на один день и на одну ночь в наши окопы, быстро начали бы соображать… Стали бы думать, как люди, и покончили бы с войной…
– Нельзя быть грубияном, солдатик, – надулась Татьяна, как индюшка, – неприлично так с царевной разговаривать. Неприлично!..
Ишь ты, какая важная! Слова ей нельзя сказать!
– Скажи-ка, Татьяна Николаевна, – снова говорю я, – что он там, на своем престоле, думает, его императорское величество? Или отшибло у него мозги? Долго ли еще война протянется? Ведь скоро солдаты поднимутся, а тогда от вас и трухи не останется…
Тут Татьяна и спрашивает меня:
– А что ты посоветуешь, что?
– Я вам не советчик, – говорю, – а только папаше своему передай, что долго он на престоле не удержится. Полетит, как пить дать…
Татьяна скривилась. Не понравились ей, видно, мои слова.
– Разве тебе не известно, солдатик, что государь император, папаша мой, упрям как осел? Меня он все равно не послушает, если я ему что скажу. Лучше бы тебе самому к нему во дворец поехать. Там все ему и выложишь…
Я немного испугался – страшновато ведь ехать к царю да вести с ним такие разговоры. Чего доброго, не понравятся ему мои слова, топнет он ногой, вызовет полицию, загонят меня в кутузку – и все тут! Но если сказал «а», нужно сказать «б».
– Согласен! – выпалил я. – Могу поехать с тобой во дворец, к милому твоему папаше. Скажу ему все, что солдаты в окопах о нем и всей его братии думают. Я не постесняюсь…
– Что ж, – говорит Татьяна, – коль на то пошло, солдатик, то располагайся здесь, сейчас поедем…
Не буду вас долго мучить, дорогие мои солдатки. Одним словом, скоро паровоз загудел, колеса застучали, и мы поехали.
Сбрасываю башмаки, снимаю шинельку и лезу на третью полку. Железная печурка топится в вагоне, тепло тут, как в бане. Двое казачков подбрасывают в печку уголек, дровишки, а я лежу себе, как барин. Шинельку под бок подостлал, башмаки под голову положил, чтобы не утащили, а портянки на трубе развесил – пусть сушатся.
Поезд летит, будто сам дьявол его подгоняет, колеса стучат, а Татьяна каждый раз покрикивает своей свите: «Тихо, солдатик спит!» Заснул я, конечно, храплю на весь вагон, и никто мне не смеет плохого слова сказать. Вы себе представляете, если б я так храпел в землянке, сколько солдатских сапог в меня уже полетело б!.. А тут спокойно! Все-таки в царском поезде еду!
Прошел день, другой. Никто меня не будит. Только кашевар иногда слегка тормошит, когда котелок каши и кипяток приносит.
Потом наш поезд въехал в какой-то сад или лес, уже не помню точно, куда он въехал. Я выглянул в окно вагона. Кругом красивые деревья, кусты, цветы, реки и озера, а посредине – царский дворец. Ну что вам сказать? Разве передашь словами эту красоту? Матушка родная, куда меня привезли! Поклясться готов, что в таком саду праматерь Ева соблазнила праотца Адама…
Слез я с третьей полки, начал искать свою обувку, портянки, а на перроне уже музыка играет: нас встречают.
Взяла меня Татьяна под ручку и ведет. Смотрю, а навстречу бежит Гришка Распутин, в рясе с крестом. Здоровенный, как дуб, и весь длинный – волосы длинные, руки длинные, ноги длинные… Не приведи бог встретиться с таким в лесу! Взглянул на него, и сердце у меня оборвалось. Вот предо мной настоящий разбойник с большой дороги!
Бог ты мой, думаю, и это страшилище командует империей?! Водит всех за нос…
Татьяна заметила, что я немного растерялся с непривычки встречаться с царями, царицами и придворными, и повела к папаше и мамаше, которые, как истуканы, стояли на лужайке.
Взглянул на меня царь, протянул руку и сказал:
– Ну-с, солдатик, что там нового на фронте слыхать?
– Плохо там, – говорю, – царь-батюшка, совсем плохо!.. Кажется, империя твоя уже трещит по всем швам…
Царь, конечно, немного поморщился, пощипал свои рыжие усы и говорит:
– Брось шутить, солдатик! Коли приехал в царский дворец, то веди себя, как человек, а не как биндюжник, не то я тебя на гауптвахту или в штрафную роту могу отправить, хоть ты у меня и гость…
Стало мне немного страшновато. Это вам все-таки царь-император, а не хвост собачий! Рассердится он и в бараний рог тебя согнет…
Шмая так далеко зашел в своей фантазии, что сам уже не знал, как выйти из положения и чем закончить эту удивительную историю. Но, как говорится, нет худа без добра. Он и не заметил, что в сенях с ехидной улыбкой на тонких губах стоит балагула Хацкель и сочувственно смотрит на женщин, завороженных рассказом кровельщика. Возможно, Хацкель дослушал бы до конца всю историю, но, заметив, что в небе появились облака, предвещавшие дождь, выбежал из сеней и заголосил:
– Ну что ж это такое, люди добрые? Будет ли конец этому? С царем и империей ты, разбойник, быстро справился, а вот с крышей моей никак не разделаешься!.. Может, на сегодня уже хватит басни рассказывать? Разве не видишь, что замучил уже бедных женщин своими дурацкими выдумками? Пожалей их! Вот ведь несчастье на мою голову!.. Эдак, милый мой, до зимы крышу мою не залатаешь… Э-э, бабоньки, побойтесь бога, имейте совесть, ступайте по домам! У вас там в печах, верно, уже молоко ушло, котлеты подгорели… Пора кончать собрание! Хватит на сегодня! Оставьте немного на завтра…
И, подойдя к кровельщику, Хацкель уже мягче проговорил:
– Ради бога, ради всех святых, прошу тебя, сосед, возьмись веселее за дело. Ведь все знают, что стоит тебе только захотеть, работа будет гореть у тебя под руками. Золотые руки у тебя! А ты, разбойник, режешь меня без ножа…
Женщины стали расходиться, в душе проклиная балагулу, прервавшего рассказ Шмаи на самом интересном месте. Но что поделаешь, придется потерпеть, обождать до завтра…
Наш кровельщик работал молча, не глядя на хозяина, который стоял внизу, сложив руки на груди, и сверлил его пристальным взглядом.
Досада все больше разбирала Шмаю-разбойника. Когда его называли разбойником шутки ради, он ничуть не обижался. Но называть его так в сердцах, со злобой, это уж ни на что не похоже! За это наш кровельщик может так отчитать, что другим неповадно будет.
Хацкель все еще стоял внизу. Он заметил, что Шмая сердится, и пытался наладить разговор с кровельщиком. Но тот даже не глядел в его сторону и молчал.
Должно быть, такое случилось впервые за последние годы – чтобы человек заговаривал с ним, а Шмая молчал, словно воды в рот набрал.
Глава третья
ВОСКРЕС ИЗ МЕРТВЫХ
Если бы в ту минуту нашлось у нашего кровельщика несколько керенок в кармане, швырнул бы он, недолго думая, эти бумажки в лицо балагуле: «На, Хацкель, подавись своим задатком, и я тебя больше знать не знаю! Низкий ты человек!»
Кто красив, а уж наши раковские бабы умны! Это они сказали: «Никогда не следует иметь дело с низким человеком. Низкий человек никогда не простит тебе, что ты на несколько вершков выше его…»
Мудро сказано! Лучше не придумаешь!
В самом деле, что за нравы: какое твое собачье дело, что мне иногда хочется с людьми поболтать? И можно ли при всем честном народе так позорить человека?
Возьмем, к примеру, портного. Когда он шьет штаны или пиджак чинит, он любит напевать себе под нос грустную песенку, сапожник, латая чьи-нибудь опорки, насвистывает, извозчик, въезжая на крутую гору, честит своих конячек так, что пассажиры краснеют. Почему же, скажите на милость, ему, кровельщику, нельзя душу отвести, потолковать с людьми? Ведь так уже повелось на свете испокон веков! А тут появляется балагула Хацкель и хочет завести свои порядки!..
Новый распорядитель! Новый указчик явился, чтоб тебе пусто было, грубиян!
Шмая сидел на крыше и молча работал. Внизу уже никого не было, если не считать Хацкеля, который восседал на бревне и дымил трубкой. Работа у Шмаи не спорилась. Инструмент валился из рук, человек готов был сам себя съесть. Подумать только, такой позор! И за что, про что?
Хацкелю тоже не по себе. Он жалеет, что обидел человека, подходит ближе, достает свою прокуренную трубку, снова набивает ее табаком.
– Эй, крепко сердишься на меня, Шмая? – посмеиваясь в длинные рыжеватые гусарские усы, спрашивает балагула.
– Провались ты к чертовой бабушке!..
– Может, слезешь на минутку с крыши? Посидим, покурим…
– Сатана пускай с тобой курит! Спасибо тебе за ласку, Хацкель! Хороший ты человек, только жаль, бог смерти не дает…
– Ты что же, брат, серьезно сердишься и считаешь, что прав?
– Нет, ты прав!.. Только отстань от меня. Не могу смотреть на твою рыжую морду, тошнит меня…
– Что ж, Шмая, пусть будет по-твоему. Но ты напрасно обижаешься. Я тебе зла не желаю… Уважаю тебя.
– Спасибо на добром слове, только отвяжись! – махнул рукой кровельщик.
– Не хочешь, значит, слезть на минутку? – ехидно подмигнул Хацкель. – Ну, сиди себе на крыше, а я сам как-нибудь справлюсь…
Он достал из кармана бутылку водки и кусок колбасы.
– Один выпью за твое здоровье… – продолжал балагула. – Но послушай мой добрый совет. Ты сегодня, кажется мне, еще маковой росинки во рту не имел, а наговорить уже успел с три короба. Ну слезай, хватит тебе важничать! Хоть ты и ефрейтор, и три железяки у тебя на груди, а только ничего с тобой не сделается, если ты выпьешь с простым балагулой…
Против такого соблазна Шмая-разбойник устоять не мог. Вытер грязные руки о штаны, слез с крыши и присел рядом с Хацкелем на бревно.
Балагула со знанием дела ударил ладонью по дну бутылки, пробка вмиг вылетела, и крепкая жидкость вспенилась, забурлила. Хацкель весь просиял и отмерил большим пальцем половину:
– Ну, будем здоровы! Лехаим! [2] – важно проговорил Хацкель и приложился к бутылке. Отпив ровно половину, понюхав и откусив кусок сухой колбасы, он добавил: – Эх, хороша, чертяка! И как люди жили бы без этой святой водички?..
– Что ж, – неторопливо сказал Шмая, глядя на бутылку, – конечно, штука неплохая… Ладно, будем здоровы, и пусть уж на нашу землю придет порядок и настанет справедливость, чтобы простому человеку спокойно жилось на свете… Лехаим!
Он медленно, с толком выпил остаток и быстро закусил. Скоро глаза его загорелись веселыми искорками и, поправив на голове фуражку, он оживленно заговорил:
– Знаешь, что я тебе скажу, Хацкель? Цари – это большие паршивцы, чтоб их всех из могил выкинуло! Но кто-то из них все же умную вещь придумал: сороковку. Кажется, это работа нашего Николки?
– Дурень! Куда ему до такого додуматься? Сороковку, слыхал я, придумали не то древние греки, не то древние евреи, когда выбирались из египетской неволи. Чтоб веселее им было идти по пустыне…
– Да уж кто б ни придумал, а напиток неплох. Жаль только, что мало… – сказал Шмая. – А что касается того, кто придумал напиток, то я с тобой не согласен… Если мне память не изменяет, то в священном писании сказано, что за шесть дней бог создал небо и землю, Адама и Еву и – вдобавок – эту самую сороковку, чтоб им приятнее было разгуливать в райских кущах…
– Мы с тобой, разбойник, разбираемся в этих делах, как баран в аптеке… Но что касается истории, то я больше тебя кумекаю… Хоть гимназий я не проходил, но все понимаю. Я вечно в пути. Сижу на козлах, смотрю на мир божий с высоты своего облучка и вижу все, что делается вокруг…
– А я сижу еще выше! На крышах сижу и вижу еще дальше, чем ты…
– Может быть, это и так, но я разных пассажиров по свету вожу. Часто попадаются такие, как ты, которые много повидали на своем веку, покалякать любят, вот и рассказывают мне… А я все мотаю себе на ус и знаю больше профессоров разных и даже больше, чем наш аптекарь… Только не люблю даром языком молоть. Не думай, что я ничего не знаю…
– Что же ты знаешь, Хацкель?
– Все знаю!.. Знаю, что скоро порядок у нас будет… Возил я одного доктора в Жашков, и он мне всю дорогу про Керенского говорил, про этого теперешнего главного…
– Тоже мне шишка! Пустозвон и только… – махнул рукой Шмая. – О Керенском и говорить не стоит… Он удержится наверху, сколько сорока на крыше… Что, не видно разве, куда он гнет? А деньги выпустил, эти самые керенки – курам на смех… За мешок керенок буханки хлеба на базаре не купишь… Какие деньги – такой и правитель… Приезжал к нам на фронт. Языком только болтает… Солдаты его чуть на штыки не подняли. Его счастье, что бог ему дал длинные ноги и они его быстро унесли…
Шмая немного помолчал, потом заметил:
– Ты, кажется, про доктора хотел сказать…
– На кой бес мне тот доктор! – оборвал его Хацкель. – Нужен он мне, как моим кобылам очки!..
– А все-таки что же тебе рассказал этот доктор?
– Многое… Вез это я его в Жашков, к роженице, никак, бедная, не могла разродиться… Всю дорогу мне голову морочил, про политику да про Керенского толковал…
– Когда доктора начинают вмешиваться в политику, то дела уже совсем плохи… Лучше бы они людей лечили…
– А почему ты так о докторах говоришь? Приличный был человек… Хорошо мне заплатил… Я к нему ничего не имею…
– Я врачей не очень-то уважаю… – отозвался Шмая. – Попался мне на войне один доктор, чтоб он скис! Чуть меня на тот свет не отправил… Не везло мне с докторами… В лазарете один был, в очках, и все путал. У тебя живот болит, а он велит пиявки ставить, голова у тебя трещит, а он – клизму! Хохоту было, когда он лечил наших солдат! Но хуже всего то, что трусом был и каждой паршивой пуле кланялся. Залезет в землянку, и ты его оттуда не вытащишь. А чтобы подойти ближе к позициям, упаси бог!..
Хацкель понял, что у соседа назревает новая история, и перебил его:
– Так ты что же, противник врачей?
– Нет, почему же? Врач на войне – очень нужная особа. Без него никак не обойтись… Но, если хочешь, могу тебе рассказать про нашего доктора…
Шмая растянулся на земле возле бревна и, заложив руки за голову, неторопливо начал рассказ о незадачливом враче, который чуть было не отправил его на тот свет…
Если бы нашему кровельщику теперь насыпали полные карманы золота, это не доставило бы ему столько удовольствия, сколько то, что рядом с ним вытянулся на брюхе балагула Хацкель и, подперев кулаком голову, приготовился его слушать.
– Было это, как сегодня помню, во время одного жаркого боя. Летний знойный день. Солнце уже стало садиться, собиралось на отдых. Три раза шли мы в штыки. Надо было захватить высоту… Ты, Хацкель, хоть и был на фронте, но служил, кажется, в обозе?.. Стало быть, не пришлось тебе узнать, что такое штыковая атака…
Хацкель насупил густые рыжеватые брови:
– А если в обозе, так, думаешь, мало горя хлебнул? Мне в обозе еще труднее было, чем тебе в пехоте! В пехоте тоже, конечно, несладко, но в пехоте – что? Ты себе знаешь винтовку, лопатку, скатку, котелок, и дело с концом. А у меня винтовка, скатка, котелок и все другие причиндалы, а к тому еще пара лошадей с подводой. Ты, брат, после атаки мог поесть и завалиться спать, а мне еще приходилось чистить, кормить и поить лошадей да колеса смазывать, ибо старая мудрость гласит: не помажешь – не поедешь… Ты, Шмая, зарылся в окоп – и готово, а я должен был вырыть окопчик для себя, чтоб дурацкая пуля меня не зацепила, да еще яму для лошадей, чтоб они не торчали на виду у немца… А то останешься с одним кнутом… Вот и посчитай, у кого было больше хлопот на войне. А кроме того, ночью подстелишь ты себе под бочок соломки, шинельку и дрыхнешь, как у бога за пазухой, спишь в обнимку со своей винтовкой, а мне в это время нужно ехать на станцию, в цейхгауз за патронами, снарядами, возить в лазареты раненых… Так что не задавайся…







