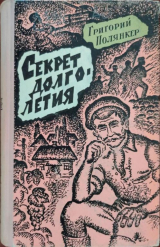
Текст книги "Секрет долголетия"
Автор книги: Григорий Полянкер
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 31 страниц)
Было уже за полночь, когда Шмая проснулся. Со стороны усадьбы Авром-Эзры доносились пьяные выкрики, грохотанье барабана, громовой рев медных труб. Музыканты, привезенные на свадьбу из Херсона, просто разрывались, угождая пьяным гостям. По всей колонии разносились простуженные и визгливые возгласы:
– Эх, гуляем!
– Давайте фрейлах. Ударьте, клезморим, шер! [4]
– Виват!
– Веселее, партачи! Я плачу чистоганом!
– Горько! Лехаим!
– Танец для молодоженов!
– Играйте, черти! Рыжий Хацкель женится на дочери Авром-Эзры!
– Шире круг!..
Шмае было противно. Он накрылся шинелью, но это не помогало. Как он ни старался заснуть, это ему не удавалось.
Он лежал, погруженный в свои тревожные мысли, и вдруг услышал торопливые шаги. Кто-то спешил сюда. Шмая приподнялся, сел на топчане.
На пороге показалась женщина, закутанная в большую шаль. Промокшая под дождем, дрожащая не то от холода, не то от волнения, она не могла и слова вымолвить.
– Рейзл?.. В такой холод?! – просияли его глаза, только что затуманенные печалью. – Это ты, Рейзл?..
Он больше ничего не мог сказать. Ему казалось, что само счастье вошло сейчас в его дом.
Шмая не знал, где посадить дорогую гостью, что ей сказать. Он понял, что отныне единственный его друг на свете – она, эта милая женщина с глубокими, полными слез глазами, сидевшая на стуле у разбитого окна.
– Здесь холодно… – после долгой паузы сказал Шмая. – Попробую растопить печь, хоть и не знаю, будет ли гореть…
– Зачем? Не надо… – остановила его Рейзл, поднявшись с места. – Я… я сейчас уйду. Я забежала на одну минутку… Хотела посмотреть, как вы здесь, в этих развалинах… Сейчас ухожу…
– Не уходи, не надо уходить… – прошептал Шмая, словно боясь, что их кто-нибудь может подслушать.
Он опустился на топчан и, взяв ее крепко за руку, усадил рядом с собой.
– Что вы! Не надо… Я уйду… Не надо… Вы только ничего плохого обо мне не подумайте!.. Так поздно пришла… Но я иначе не могла… Не осуждайте меня… Пусть бог простит мне мой грех, но я… я давно вас люблю, люблю, как жизнь, как своих детей… С первого дня, как только вы переступили мой порог, я… Не осуждайте меня!.. Может быть, это нехорошо, но я должна была это вам сказать…
Шмая молчал. Сердце его сильно билось, лицо освещала счастливая улыбка.
– Я мерзкая, подлая… Но я люблю вас… Не могу без вас жить…
Он смотрел сияющими глазами на эту дорогую ему женщину и видел в ней свою судьбу. Он слушал ее взволнованную речь, которая сладкой болью отдавалась в его душе.
– Я пришла к вам… Не могла дождаться рассвета… Совесть меня мучила бы всю жизнь! Вы столько добра принесли мне и моим детям, моему дому… Нет, вы не понимаете, что творилось у меня в душе! Сижу дома, смотрю, как льет дождь, и думаю, что вы – в развалинах, под дождем, один, без друзей… Я накинула на себя шаль, пошла… И вот пришла сюда… Я не шла, бежала. На улице так темно, так страшно. У Авром-Эзры свадьбу справляют… Черная это свадьба! Мне хотелось побежать туда, разбить им все окна, чтоб их дождь мочил так же, как вас… Я долго стояла возле вашего дома, Шая, не решалась войти… Мне кажется, что вся колония видела, как я бежала к вам… Завтра все будут надо мной смеяться, чесать языки, называть меня плохими словами… Но мне не страшно… Пусть все знают, что я посреди ночи прибежала к вам! Пусть смеются надо мной! Пусть…
– Не думай об этом, Рейзл, – прижимая к своей груди взволнованную женщину, негромко произнес Шмая. – Никто не будет смеяться над тобой. А если кто посмеет, убью, не дам тебя в обиду…
Дождь все усиливался. Корыто на полу было уже переполнено, но ни Шмая, ни Рейзл этого уже не замечали…
Где-то на горизонте утренняя заря окрасила тучи, когда Рейзл вскочила с топчана и стала поправлять растрепавшиеся волосы. Избегая взгляда Шмаи, набросила на плечи шаль, посмотрела в окно – нет ли кого-нибудь на улице – и направилась к двери. Щеки ее пылали, глаза блестели, вся она светилась внутренним светом.
Глядя на ее стройный гибкий стан, лебединую шею, гордую красивую голову, Шмая приподнялся на топчане:
– Куда ты? Почему ты уходишь, родная?
Он вскочил с места, подбежал к ней и обнял, осыпая поцелуями губы, щеки, глаза:
– Куда ты от меня уходишь?
– Что вы! – испуганно посмотрела она на него, вырываясь из его сильных рук. – Ведь люди уже скоро встанут… Увидят, откуда я иду…
– Ну и что, если увидят? – еще крепче обнял он ее. – Украли мы у них что-нибудь?
– Ведь они обо мне бог знает что говорить станут…
– Ничего плохого никто о тебе не скажет, Рейзл… Ты теперь моя жена. Так и говори всем: «Я – жена Шмаи-разбойника!»
Лицо ее просияло, в глазах засверкали слезы – невольные слезы солдатки, которая уже потеряла все надежды найти когда-нибудь свое счастье и неожиданно нашла его.
Многое хотелось ей сказать любимому человеку, но все слова казались бледными по сравнению с охватившим ее счастьем.
Она вырвалась из его рук и уже на пороге обернулась: – Поздно, пойду будить ребят… Пора им уже выгонять стадо… И приготовлю тебе поесть. Ты придешь ко мне попозже, позавтракаем вместе. Слышишь, родной, я жду…
Теперь Рейзл не торопилась покинуть дом Шмаи. Она вышла из него не украдкой, как пришла сюда ночью. Наоборот, в ней заговорила женская гордость, и ей очень хотелось, чтобы кто-нибудь попался навстречу и увидел, откуда она идет и как она счастлива. Но на улице было безлюдно, и только из большого дома Авром-Эзры все еще доносились пьяные голоса и визг скрипки…
А Шмая стоял на пороге и провожал восторженным взглядом женщину, которая принесла ему сегодня ночью такой драгоценный подарок – свою любовь, свою нежность, свою жизнь…
– Эх, бабоньки, – подумал он вслух, – кто же вас выдумал таких? Трудновато с вами, а без вас совсем худо…
И, посмотрев на освещенные окна Авром-Эзры, прислушиваясь к воплям скрипки, тихо проговорил:
– Вот и получились сегодня две свадьбы и один развод…
Шмая быстро умылся и, достав из солдатского мешка бритву, начал наводить на себя красоту. Потом вытащил свою единственную целую сорочку, пиджак и новую фуражку.
Нужно было привести себя в надлежащий вид, одеться по-праздничному и отправляться в свой новый дом.
Глава шестнадцатая
ШЛИ КОЛОНИСТЫ К ПЕРЕКОПУ
Хоть мир и лад царили в новой семье кровельщика, но тревога не покидала его.
Банда батьки Махно орудовала в этих краях, время от времени вихрем налетая на колонии и соседние села, и опустошала все на своем пути.
Неподалеку отсюда, за Каховкой, шли кровавые бои с белыми полчищами барона Врангеля.
Колонисты напряженно ждали вестей с фронта. Ведь там решалась и их судьба…
Шмая по-прежнему чинил людям крыши, строил дома, плотничал, а к тому же помогал жене по хозяйству, работал в огороде и на винограднике.
Он чувствовал себя окрепшим, бодрым. Раны уже зажили, можно было снова браться за оружие. Правда, жаль было оставлять жену, тем более, что она готовилась подарить ему ребенка. Но что поделаешь! У многих есть жены, которые готовятся стать матерями, а защищать родину, когда опасность стоит возле твоего дома, это для солдата первейший закон!
В одно осеннее утро, когда уже скосили хлеба и собрали виноград, издалека послышалась солдатская песня с присвистом. Колонисты испугались, решив, что к ним идут махновцы. Шмая подошел к калитке, всматриваясь в ту сторону, откуда приближались песня и шум, и подумал, что это вовсе не махновцы.
И разбойник оказался прав.
В колонию въехал необычный обоз. На возах, двуколках и арбах – мешки с хлебом, мясо, фрукты, сено. Опережая его, неслись на резвых конях лихие парни из соседней колонии.
На небольшой площади возле сельсовета обоз остановился.
– Эй, колонисты! Собирайся на сход!
– На сход! На сход!..
Всадники мчались по улицам, приглашая людей на сход и пугая собак.
Народ повалил на площадь со всех сторон. Стар и млад, все сбежались взглянуть на ранних гостей, узнать, что случилось и куда эти люди держат путь.
Не успели еще старшие прийти на место схода, как малыши оседлали все ближайшие заборы и деревья, нетерпеливо ожидая, что здесь будет.
Прислонившись к одному из возов, стоял чернобровый крепкий человек лет двадцати пяти. Он был в казачьей кубанке. На плечах – голубоватый кавалерийский френч, в руках нагайка, а у пояса – допотопный пистолет.
Шмая сразу узнал Овруцкого, председателя сельсовета соседней колонии, подошел к нему и дружески протянул руку:
– Кого я вижу? Сам Овруцкий в гости к нам пожаловал! Здорово, начальник! Куда ты со своими молодцами собрался? Скажи, если не секрет…
Тот задорно улыбнулся и ответил:
– От тебя, Шмая-разбойник, у нас пока что секретов нет. Погоди минуту, соберется народ, и мы все расскажем, все!..
– Что ж, послушаем! – промолвил кровельщик, внимательно разглядывая прибывших.
Овруцкий достал из-за голенища книжечку в клеенчатом переплете, фиолетовый карандаш и стал что-то записывать, то и дело слюнявя языком кончик карандаша, видимо, не зная, что язык у него стал уже совсем синим.
– Эй, дяденька Овруцкий, дяденька председатель! – дружно загалдели ребятишки на деревьях и заборах. – Язык, язык себе испортите!..
Овруцкий рассмеялся, достал платок, вытер им язык и притворно строго крикнул:
– Чего раскричались, как галчата! Ну-ка, быстро все по домам!
– А вы нам скажите, куда едете! Тогда сразу уйдем!..
– Ишь, какие хитрые, чего захотели! Расскажи им… Ну, к Перекопу едем…
– А зачем к Перекопу?
– За песнями… Поняли? За песнями! А теперь гайда домой!
Некоторые из менее смелых соскользнули с деревьев, отошли в сторону; те, что посмелее, остались на своих местах, а кое-кто из них даже подкрался к Овруцкому и стал ощупывать нагайку, пистолет, просить, чтоб дал им выстрелить из него хоть разок.
– Марш отсюда! Нашли себе игрушку! Это такая игрушка, что может вас сразу курносыми сделать! – с напускной суровостью сказал тот и неожиданно улыбнулся. – Я вам лучше на скрипочке сыграю…
– Сыграйте!..
Он вырвал из конской гривы волосок, взял один конец в зубы, второй – в руку и подергал пальцем натянутую струну. Ребята весело рассмеялись. Им эта музыка очень понравилась, а еще больше – то, что такой взрослый человек с ними запросто разговаривает, смеется, шутит.
– Дядя Овруцкий, поиграйте еще немножко на вашей скрипочке…
– Э нет, ребятки, больше нельзя. А то вырву у лошади всю ее чуприну, какой же я буду иметь вид на плешивой кобыле?..
А люди тем временем собирались на площади. Народу пришло много, пора было начинать сход. Но Овруцкий, окинув внимательным взглядом собравшихся, спросил:
– А где же ваш пуриц, то бишь пан? Этот, как его, Авром-Эзра?..
Долговязый Азриель, старший и единственный милиционер колонии, подъехал к нему и заговорил, словно оправдываясь:
– Я уже два раза ездил к этому черту, товарищ Овруцкий. И по-хорошему и по-плохому объяснял – не идет, собака!
Овруцкий даже переменился в лице:
– Так что же, он ждет, чтобы его сюда с музыкой привели?
Азриель, неуклюже сидевший на низенькой лошадке, так что ноги его чуть не касались земли, понурил голову:
– Холера его батьку знает, что он себе думает, кровопийца… Не идет – и все. Говорит, что еще не завтракал, а не поевши, мол, не пляшут. Не горит, говорит, потерпит твой Овруцкий. Не горит…
– Поезжай скоренько, Азриель, и скажи ему, что именно горит! – вспылил председатель. – Скажи, что если он немедленно не явится сюда, на сход, то я сам за ним приеду. Тогда плохо ему будет, этой свинье. И зятька его сюда притащи! Как его там зовут?
– Хацкель…
– Хацкель? Ах, этот рыжий жулик? Ну, одним словом, пусть быстрее пошевеливаются. А не то сами расшевелим их!
– Ну что ж, – уныло промямлил Азриель, – мне не трудно еще раз заскочить к ним. Но я уж им говорил, старику и зятю, а они смеются…
– Как это смеются? Что же ты им такого сказал?
– Ничего будто… Ну, я сказал Авром-Эзре и его зятьку, что их вызывает на сход Овруцкий…
– Вот это ты нехорошо сказал: «Овруцкий»! Овруцкий еще недавно у Авром-Эзры коров пас… Овруцкий этому пурицу, что прошлогодний снег…
– А что ж я должен ему теперь сказать?
– Скажи, что не Овруцкий, его бывший пастух, зовет, а Советская власть, народ!..
– Говорил, что власть зовет…
– Ну, а он что?
– А он говорит: «Плевать мне на вашу власть…» Ему наша власть, говорит, не указ…
– А ты ему что на это?
– Что ж я ему скажу? Его не переговоришь. Сыплет, собака, как из дырявого мешка. Слова сказать не дает…
– А ты?
– А я? Показал я ему дулю и пригрозил, что Советская власть за все его поступки по головке не погладит…
– И больше ничего?
– Больше ничего… А он мне сказал, что, если я к нему еще раз приеду и буду его тревожить, он меня оглоблей по черепу огреет…
– Да-а, милиция… Что и говорить, сильна!.. – после долгой паузы, покачав головой, проговорил Овруцкий. Потом вынул пистолет и протянул его Азриелю, сказав при этом:
– На, возьми эту игрушку. Пугни его. Если будет артачиться, пощекочи его – сразу подобреет. Только, гляди, не стреляй… Убьешь собаку – мороки не оберешься…
Парень сразу повеселел, взял револьвер и уехал.
Через несколько минут два выстрела, один за другим, нарушили тишину.
– С ума он спятил! Вот черт!.. – воскликнул взволнованный Овруцкий.
Все с испугом смотрели туда, где за высоким забором стоял дом богача, и вскоре увидели удивительную картину. Авром-Эзра шагал по направлению к ним в одном белье, накинув на плечи длинный кожух. На стриженой голове его еле держалась черная ермолка. Большие серые чуть навыкате глаза горели злобой, усы дергались, лицо было багровым. Подойдя к толпе, он крикнул:
– Что это делается? Где ж это видано такое свинство? Стреляет, проклятый! Он меня насмерть перепугал, этот Азриель, холера бы его забрала!.. Милиция наша… Провались…
– Зачем же проклинать человека, у которого есть жена и дети? – воскликнула какая-то старуха.
– Господин Цейтлин! – сурово сказал Овруцкий, забирая у милиционера пистолет и засовывая его за ремень. – Разве вы не знаете, что, если власть зовет, надо немедленно, сразу же явиться?!
– Уж я теперь и сам не знаю, кто у нас тут власть! Всякая шушера, босячня. Махно ко мне приезжал, так сидел мирно, обедал, выпил и все… А эти… Короче говоря, начальник, что тебе от меня надо?
– А зятек ваш, Хацкель, где? Испарился? Может быть, за ним отдельно посылать прикажете? Новый пуриц в колонии объявился! – сердито сказал Овруцкий. – Порядка не знает!..
– Зять мой прихворнул… – не сразу ответил Авром Эзра Цейтлин, и его глаза тревожно забегали. – Говорите, что вам от меня надо… Я ему передам ваши мудрые слова…
Овруцкий даже не взглянул на него и, обернувшись к собравшимся, сказал:
– Ну, в общем, граждане и товарищи, начнем митинг. То есть сход…
Он взобрался на воз, снял кубанку, обвел взволнованным взглядом толпу и заговорил:
– Так вот что, граждане и гражданки, товарищи колонисты. О чем тут долго толковать? Мировая революция не стоит на месте… Власть наша Советская все крепче становится на ноги, и мировому капиталу и контре скоро придет конец… Сколько мы уже этой проклятой контры разгромили и отправили ко всем чертям! А она, эта сволочь, как пиявка, на теле рабочего и крестьянина сидит и хочет сосать рабочую и крестьянскую кровь… Недалеко отсюда, под Каховкой, засел черный барон Врангель. А черный он потому, что крови много насосался, гадина проклятая! Так надо, чтобы он скорее издох… Правильно я говорю?
– Правильно! Давай, давай дальше, Овруцкий!..
– Там, у Каховки, нас ждут не дождутся наши братья-красноармейцы. Кто из вас, граждане и товарищи, был на фронте, тот, конечно, знает, что без хлеба и мяса, без фуража война – не война, солдат – не солдат, лошадь – не лошадь… Так вот, сошлись наши колонисты и решили, что нужно помочь фронту. Собрали все, что могли. Конечно, каждый давал по возможности. А еще пятьдесят наших орлов решили добровольцами пойти в Красную Армию, чтобы поскорее Врангеля разгромить.
У кого душа пролетарская, пристраивайтесь к нам! Будем драться до последней капли крови за нашу родную Советскую власть! Кто имеет совесть, пусть притащит с собой все, что только может, для наших братьев-красноармейцев, которые своей рабоче-крестьянской крови для нас не жалеют и отдают ее каплю по капле мировой революции. Правильно я говорю или нет? Скажите прямо!
– Правильно! Хорошо говоришь, Овруцкий!
– Ну вот! – махнул он рукой, нахлобучил кубанку на голову и умолк.
– Так я все-таки не понимаю, чего от меня хотят, – раздался недовольный голос Авром-Эзры. – Может быть, ты, Овруцкий, собираешься сделать из меня на старости лет солдата-новобранца?
– Солдатом вас сделать? Нет, господин Цейтлин, мы вам винтовку не доверим, поскольку вы сами являетесь первейшей контрой… прыщом на здоровом теле революции… От вас мы хотим только получить хлеб и несколько лошадей…
Одобрительные возгласы послышались со всех сторон:
– Правильно! Правильно!
– Пусть дает хлеб и лошадей!
– Конный завод у меня, что ли?! – стараясь перекричать всех, завопил Авром-Эзра. – Горе у меня, болячки, не лошади!.. И хлеб где я вам возьму? Рожу его вам, что ли? Или урожай у нас нынче очень велик? И разве не знаете, сколько хлеба и всякого добра вывез батько Махно?..
– Нет у него, несчастного, хлеба? Что ж, давайте, люди, соберем пану Цейтлину милостыню!..
– Пожертвуйте, люди добрые, на пропитание бедняку… Умирают с голоду Авром-Эзра Цейтлин и его зятек!..
– Пусть он отдаст тот хлеб, который еще в прошлом году закопал в землю!..
– Голодранцы, босяки! – воскликнул Авром-Эзра, и мясистое лицо его побагровело. – Вы что, уже забыли, как я вас всех спасал от голода в прошлом году? Но ничего, теперь вы у меня пухнуть будете, если вы такие умники! Никому не одолжу ни ведерка муки, вот и будете знать, как смеяться над Цейтлиным…
– За каждое ведерко ты три шкуры с нас драл!
– Как на панщине мы у тебя работали, живодер!
– Это кто сказал? – оглянулся по сторонам Авром-Эзра. – Не забывайте старую поговорку: «Придет еще коза к возу и скажет: «Ме-е!»
– Не дождешься!..
Овруцкий не выдержал, снова вылез на воз и сорвал кубанку с головы.
– Господин Цейтлин! – крикнул он. – Не устраивайте ярмарку! Говорите: дадите вы лошадей и хлеб или не дадите?..
Старик махнул рукой:
– Ладно, пусть будет по-вашему. Хлеба пожертвую мешок-другой. Но лошадей? Где я вам их возьму? Лошади мои подохли… Хоть стреляйте, нет у меня лошадей!
А люди уже тащили к возам мешки, узлы, верейки. Несколько человек подошли к Овруцкому, прося записать их в добровольцы.
Стоя рядом с женой, Шмая-разбойник вдруг тряхнул головой, взял Рейзл за руку и торопливо заговорил:
– Что ж, Рейзл, дорогая, я тоже пойду С НИМИ… Не дело в такое время дома сидеть. Надо подставить плечо… Запишусь…
– С ума ты сошел! – испугалась она. – Мало ты в окопах провалялся? Ты же весь изранен! Пусть идут те, кто помоложе…
– Ничего, родная моя, за битого солдата шестерых небитых дают! – ответил наш разбойник и твердым шагом направился к Овруцкому.
– Ну что ж, начальник, пиши и меня в список. Пойду с вами…
Овруцкий обрадовался, похлопал Шмаю по плечу:
– Молодец, товарищ Спивак! Немного еще повоюешь, зато на старости лет сможешь спокойно греться на печи…
– Нет, брат, и на старости лет мы тоже не будем сидеть на печи… Руки у нас не приспособлены к тому, чтобы ничего не делать. Не будут они винтовку держать, возьмутся за топор, за молоток. Покой у нас уже будет на том свете…
Овруцкий обнял Шмаю.
– Вот так я люблю! Это по-нашему! – И, заметив влажные глаза Рейзл, добавил: – А она что говорит?
– Ничего! Ей не привыкать быть солдаткой… Кому-то ведь надо воевать? Три года с гаком я за «веру, царя и отечество» воевал, надо теперь повоевать и за свою власть…
– И я так считаю! – оживился Овруцкий, записывая его в список.
Авром-Эзра затерялся в толпе, надеясь, что о нем забудут в этой суматохе. Но Овруцкий, поискав его глазами, громко спросил:
– Куда это девался наш барин? Не думайте, Авром-Эзра, что мы с вами шутки шутим! Вы нас задерживаете…
– Возьми нож, душегуб, и режь меня на части! Перережь мне глотку!.. Нет у меня никаких лошадей. Я от ваших замечательных порядков скоро нищим стану…
– Смотрите, не пожалейте! – крикнул Овруцкий. – Не забудьте, что я человек сердитый! Не для себя беру, а для тех, кто идет кровь проливать за нашу землю. Мы жизни своей не жалеем, а вы торгуетесь тут, как на ярмарке!
Цейтлин кряхтел, ломал руки, проклинал все на свете и оттягивал время, словно ожидая чуда.
Вдруг мальчишки на деревьях закричали хором, указывая пальцами в сторону степи:
– Дяденька председатель! Дяденька Овруцкий, видите, рыжий заика лошадей угоняет!..
– Кто? Кто угоняет лошадей?
– Этот черт… Его зять… Хацкель! Удирает в степь с лошадьми, видите?
Овруцкий вскочил на коня. Выхватил из-за ремня пистолет, перезарядил его, выстрелил в воздух и что есть духу понесся в степь. Вслед за ним помчалось несколько всадников.
Шмая вместе со всей толпой несколько минут следил за погоней, потом пошел домой, надел свою старую солдатскую фуражку, выгоревшую гимнастерку, сапоги. Взял шинель, солдатский мешок. Посмотрел участливым взглядом на жену, сидевшую на завалинке возле дома. Глаза ее были полны слез.
– Что с тобой, родная? – с мягкой укоризной сказал он, нежно обнимая ее. – Не надо грустить! Эх, женщины, все вы на один лад скроены, будто одна мать вас родила.
– Солдат в тебе заговорил!.. Значит, уходишь от меня?
– Кто это от тебя уходит? Я ведь скоро вернусь…
– Дай-то бог!.. Но я же знаю, в какое пекло ты идешь…
– Эх, Рейзл, Рейзл… Ты подумай: работу на огороде мы закончили, крыши как будто я всем соседям починил, вот и представь себе, что я на осеннее время пошел в Херсон или в Екатеринослав на заработки.
– А почему эти проклятые Цейтлины, Хацкель твой рыжий с места не трогаются, дома сидят?
– А разве ты не слыхала, что сказал на сходе председатель Советской власти товарищ Овруцкий? А он человек толковый, с головой! Он сказал, что таким паразитам винтовки не доверит. Это же контра… Им и при батьке Махно и при Врангеле будет хорошо. А нам может быть хорошо только при одной власти, при Советах, понимаешь? И не надо плакать. Вытри слезы, дорогая моя солдатка!
– Легко тебе говорить: «Не надо плакать…» Душа моя плачет…
– Ну, если так, то поплачь, но только здесь, возле дома, а уж когда выйдем на площадь, держи себя на людях, как солдат, и чтоб глаза были сухие, слышишь?
– Только б ты вернулся домой. Ты должен жить! Ради меня и… ради того, кто скоро на свет появится. О нем ты, Шая, наверно, забыл, да? – тихо добавила она.
Шмая обнял ее еще нежнее.
– Нет, не забыл, – ответил он после долгой паузы. – Клянусь тебе, не забыл… – Лицо его осветилось ласковой улыбкой: – Эх, если будет у нас сынок… И ради него тоже надо идти! Чтоб он уже не знал этих проклятых войн…
Шмая хотел еще что-то сказать, но Овруцкий уже прислал за ним.
Когда он вместе с женой пришел на площадь, все уже были готовы в путь. На дороге вытянулся обоз, нагруженный продовольствием и сеном. Тут же стояло с полдесятка откормленных коней, которых Овруцкий с добровольцами отбил у Хацкеля. Ребята с сумками на плечах, как новобранцы, стояли около возов, и председатель сельсовета громко и торжественно вызывал каждого по имени и фамилии, как и положено в таких случаях.
Молодые добровольцы были одеты по-разному: кто пришел в потрепанном пиджачке, кто – в старой фуфайке, кто – в крестьянской свитке. У одного на ногах старые опорки, другой – в лаптях. Но зато Шмая-разбойник явился в своей видавшей виды шинели и в фуражке набекрень, как лихой солдат-рубака. Усы были молодецки подкручены. Волосы выбивались из-под козырька, и вид у него был бравый. Добровольцы смотрели на него не без зависти: ему легче на войне будет, как-никак человек бывалый.
Добровольцы уже начали устраиваться на возах и двуколках. Когда Шмая подошел к ним, все потеснились, освобождая для него местечко. Но он с улыбкой поглядел на ребят, потом недовольно покачал головой, швырнул наземь окурок цигарки и сказал:
– А может быть, земляки, вы слезете с возов? Кто вы такие – солдаты или женихи, что свататься к невестам собрались?
Добровольцы рассмеялись, а глядя на них, засмеялись и все, кто пришел их проводить.
Миг, и все соскочили с возов, а Шмая скомандовал:
– Станови-и-ись! Равнение напра-а-а-аво!
Добровольцы неумело строились, некоторые не могли найти себе места в строю, что вызывало веселое оживление окружающих, добродушный смех Овруцкого.
– Смирно! – гаркнул Шмая. – Ничего, я вас вымуштрую! Стыдно явиться в полк, не зная ни бе ни ме…
– Так, так, возьми их в работу, разбойник, возьми! – весело поддержал его Овруцкий. – Конечно, их подучить надо… В дороге мы ими займемся.
Добровольцы бодро двинулись к пыльному тракту, идущему в сторону Каховки.
По тропинке, змеившейся в высокой стерне у дороги, шагал Шмая-разбойник. Жена крепко держала его под руку. Она шла, опустив голову. Рядом бежали ее ребятишки, которые сейчас наглядеться не могли на своего «дядю» – ведь он снова стал солдатом!
– Дядя, а вы нам с войны гостинцев привезете? – спросил младший.
– А что, к примеру, вам привезти?
– Ружье привезите и много патронов!..
– Зачем вам ружье? – серьезно спросил Шмая, обнимая малышей, которые стали ему дороги, как родные дети. – Давайте уж лучше мы повоюем за вас, и пусть настанет конец войнам… Привезу вам другие подарки, если жив останусь. Игрушки разные, книги, тетрадки… Поганое это дело война…
– Правда, – тихонько промолвила Рейзл.
Возле моста Овруцкий остановил обоз и обратился к провожающим:
– Ну, спасибо, колонисты, за проводы! Теперь возвращайтесь по домам, сами дорогу найдем. Прощайтесь…
Несколько минут спустя обоз тронулся дальше. Только Шмая еще немного задержался. Он стоял с женой на мосту, опершись о перила, и смотрел на прозрачные воды Ингульца.
Овруцкий подошел к ним, увидел заплаканные глаза Рейзл, дольше задержал свой взгляд на ее выпуклом животе и тихо вздохнул:
– Понимаю… Но что поделаешь, война, Рейзл…
Затем он перевел взгляд на опечаленного кровельщика:
– И бывалому солдату тоже трудно с женой расставаться?
– А ты думаешь, легко? Сам знаешь, в колонии такие волки засели… Чего стоит один этот Цейтлин? Беззащитными остаются наши жены и дети…
– Не волнуйся, Советская власть найдет управу на этих живодеров! – ответил Овруцкий и пошел к возам, чтоб не мешать человеку проститься с женой.
Шмая смотрел ему вслед и, когда Овруцкий отошел в сторонку, нежно обнял жену, заглядывая в ее добрые, теперь такие несчастные глаза:
– Ну, довольно, не плачь, милая. Береги себя и наших детей. Роди мне хорошего сына… Бог даст, вернусь, вся жизнь еще впереди… Что ты, родненькая? Ну, хватит… Не плачь!
Он расцеловался с ней и стал догонять своих.
Шмая шел широким, размеренным шагом, стараясь не оглядываться, хоть знал, что Рейзл все еще стоит на мосту и смотрит ему вслед.
Он не предполагал, что ему так тяжело будет оставлять свой новый дом, жену, детей. Сколько счастья принесла ему эта милая женщина! Теперь, после года их совместной жизни, она стала ему еще дороже.
Не сдержавшись, он оглянулся.
Рейзл все еще как прикованная стояла на мосту и махала ему рукой.
В эту минуту наш разбойник почувствовал, что какой-то комок подступил к его горлу…
Увидев Шмаю, Овруцкий окинул его чуть насмешливым взглядом:
– Что-то больно долго ты, дружок, с женой прощался. Совсем как жених с невестой…
– А чем же я не жених? – ответил Шмая и, пройдя, несколько шагов, добавил: – Не впервые приходится мне покидать свой дом, жену, детей… Тяжело это, ох как тяжело… Но ты, кажется, убежденный холостяк, тебе не понять этого. Да и старею я все-таки…
– Кто это стареет? Ты, разбойник? Да нет! Ты принадлежишь к той породе людей, которые никогда не стареют. Ты совсем не изменился с тех пор, как пришел сюда. Наоборот, еще возмужал, стал таким, что любой девке еще можешь голову вскружить…
Подумав немного, Овруцкий добавил:
– Верно, только скучные и плохие люди быстро стареют… А веселый человек, по нем даже не видно, сколько ему лет, он вечно остается молодым.
– Может быть, ты и прав, – задумчиво сказал Шмая.
Колония уже скрылась из виду, осталась за косогором. Не видно уже было стоявшей на мосту Рейзл, и Шмая приободрился. Сейчас, когда жена была далеко от него, он себя почувствовал настоящим солдатом и, стараясь отогнать от себя тоску, озорно крикнул добровольцам, которые снова взобрались на возы:
– Ну-ка, слезай, ребята! Пошли пешочком, чтобы ножки привыкли к службе!
– Еще успеем натопаться! Пока пусть лошади нас везут, а там мы их повезем….
– Нет, нет, это непорядок! – настаивал на своем кровельщик. – Пускай лошадки отдохнут. Много у них работы еще будет… Не стесняйтесь, мальчики, привыкайте! Там, на войне, у вас будет русская трехлинейка, а может, и максим, да еще скатка, лопатка, мешок. Навьючат, будь здоров! Русский солдат – это тебе не английский или шотландский хлюпик, которые идут воевать в коротких штанишках, в юбках, шляпках и, если не ошибаюсь, даже в сатиновых лифчиках…
Все громко рассмеялись, глядя на повеселевшего кровельщика, и соскочили с возов.
Построились колонной, пошли по степи, где пахло полынью и чебрецом. Суслики, высовывая головы из бурьяна, пугливо оглядывались, прислушиваясь к непривычному шуму на дороге, и ныряли в свои норки.
Ребята с грустью смотрели на пустующую, незасеянную степь, на бурьяны.
– Что носы повесили, орлы? – крикнул кровельщик, выбегая к голове колонны. – Ну-ка, давайте песню, чтоб аж небу жарко было!
И он приятным грудным голосом затянул старую солдатскую песню про казака, ушедшего на войну, и про девчину, подарившую ему на прощанье платок…
Овруцкий подхватил песню. И через минуту пели уже все. А кто не знал слов песни, все равно пел, находя слова в своем сердце. Песня неслась по степным просторам. И казалось, что сразу стало легче идти.
Глава семнадцатая
КОМАНДАРМ И КРОВЕЛЬЩИК
– Да, братцы… А я и не догадывался, откуда взялась пословица: «На турецкую каторгу», – сказал Шмая-разбойник уставшим, запыленным красноармейцам, шагавшим за скрипучей двуколкой, на которой лежало несколько ящиков с патронами и стоял старенький, видавший виды пулемет. – Поставят перед тобой Турецкий вал: впереди – огромный ров, наполненный водой, слева – море, справа – гнилой Сиваш, позади посадят барона Врангеля, который опутал весь перешеек колючей проволокой, как паук паутиной, да еще лупит из пушек, и попробуй пройди к Перекопу, в Крым… Вот тебе и «турецкая каторга»!
– Ты думаешь, не доберемся мы до этого барона? – перебил его ротный Николай Дубравин, высокий худощавый парень с большими зеленоватыми глазами и льняным чубом, выбивавшимся из-под коротенького козырька. – Доберемся как пить дать! Еще несколько деньков, ну неделька-другая пройдет, и мы ему, продажному псу, сломаем хребет. Уже почти всю страну очистили от всякой гадости, а этот еще торчит у нас бельмом на глазу и не дает нам спокойно жить. Скоро уже получит и этот пес по зубам, да так, что и следа от него не останется. Понял? Вот…







