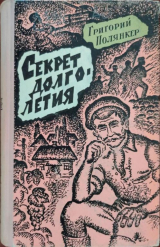
Текст книги "Секрет долголетия"
Автор книги: Григорий Полянкер
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 29 (всего у книги 31 страниц)
Когда немного затихло движение и автострада очистилась от машин, девчонка снова взглянула на усатого солдата:
– А вы, папаша, куда ковыляете?
– Я тебе не папаша, а гвардии сержант!.. – бросил он.
– А мне откуда это известно? Что я, гадалка? – стараясь выглядеть строгой, оборвала она его. – По погонам я ничего не вижу…
Лишь теперь он спохватился, что погоны у него совершенно лысые, солдатские.
А она все еще продолжала пристально смотреть на него. Чувствуя за собой власть – кто же старше ее на этой дороге, кроме, может, еще двух девчат с автоматами, которые сидят там в сторонке, в небольшой будке, – кинула ему:
– Откуда вы такой?..
– Какой же? – уставился он на нее.
– Ну, не бритый, не стриженый и одеты не по форме… С палкой… Без хлястика…
– А тебе что? Я фронтовик, а не щеголь какой!..
– Находитесь, папаша, в Европе, и вся Европа нынче на нас будет смотреть. Надо, значит, чтобы форма была соответствующая. Прямо неудобно так…
– Не указывай мне! Молода еще! – сердито оборвал он ее. – Ты вот останови попутную машину и посади меня. Мне нужно в хозяйство генерала Дубравина…
Она рассмеялась:
– Никуда я вас не отправлю… Откуда я знаю, кто вы такой? Предъявите документы…
Он замялся. В самом деле, никаких документов у него нет. Все осталось в госпитале…
– Какой же ты начальник, кто дал тебе право проверять документы?.. Я гвардии сержант… Добираюсь в свою часть… Твое дело махать флажками… И все… Я добираюсь…
– Так не добираются! И без документов я вас никуда не отправлю… Тут прифронтовая полоса, а не место для прогулок…
Она отошла в сторонку, поправляя русые волосы, которые выбивались из-под пилотки. Девушка начала напевать:
На позицию девушка
Провожала бойца.
Темной ночью простилися…
Он понял, что с ней нельзя ссориться, и усмехнулся:
– Послушай, дочка, голосок у тебя какой звонкий… Тебе бы в опере петь или в ансамбле пляски, а не стоять здесь с флажками…
– А это вас не касается! Я военнослужащая, и куда меня послали, там я несу службу. – И продолжала:
А пока за туманами видеть мог паренек,
На окошке у девушки все горел огонек…
– Так что же, не остановишь машину?..
– Сколько можно повторять? Нет!.. Вы и на военного не похожи…
– А ты похожа? Хоть бы косички спрятала… Я четыре года на фронте, а ты мне указываешь. Да у меня столько ран, сколько тебе лет… И я из госпиталя…
– Тем более должен быть документ… И из госпиталя в такой одежде не выпускают… Приказ есть – выдавать новое обмундирование. А если четыре года на фронте, то должны знать…
Она стала поправлять шинель, расстегнула крючок и невзначай поправила на гимнастерке новенькую медаль «За отвагу», мол, не думай, что имеешь дело с девчонкой. Есть, дескать, боевая награда…
– А ты не хвастай!..
– Я не хвастаю, – гордо ответила она, – а между прочим, меня представили еще к Звездочке. Говорите, что четыре года на фронте? Как же за четыре года ни одной награды не заслужили?..
– Как ты со мной разговариваешь? Ты, вижу, только с одним лычком, а я – гвардии сержант!.. А что касается наград, то у меня орден Славы, Красная Звезда, Отечественная война первой степени, две медали и к тому же Боевое Знамя. Еще от Фрунзе получил, под Перекопом. Ты еще на свете тогда не была!.. В школе тебя учили, кто такой был Михаил Васильевич Фрунзе? А генерал Дубравин был моим ротным… А ты со мной вступаешь в пререкания…
– Вы, папаша, не обижайтесь… Никаких наград не вижу на вашей гимнастерке… – уже учтивее ответила она, – а на слово не могу вам поверить… Прифронтовая полоса, сами должны понимать, что бдительность у нас – это закон… Позову старшую, поговорите с ней, а я не имею права… Отправлю вас, а на следующем КП вас снимут, и мне еще нагорит, что без документов…
Шмая-разбойник не дал ей вызвать старшую. Надо было самому решить, как быть. В самом деле, все осталось в госпитале. Документы, ордена, медали, обмундирование, и он одет – курам на смех. Иди докажи, кто ты такой… И кто еще знает, на кого он может в пути напороться? Нет, уж, пожалуй, раз не повезло, надо возвращаться в госпиталь. Можно здесь попасть впросак. Правда, над ним там, в госпитале, посмеются, да начальство госпиталя будет ругаться. Но это не так страшно. Такая девчурка его отчитала, научила уму-разуму, а нечем было крыть. Она права.
– Дочка, прости, товарищ ефрейтор, – мягко проговорил он, – так что же ты мне советуешь, отправиться в госпиталь за документами и наградами?
– А как же! – обрадовалась она, что он уже на нее не сердится. – Конечно! И обмундировку получите новую, бумаги и сухой паек. Все, что положено. Все же вы не дома, а в прифронтовой полосе, к тому же в центре Европы. Вся Европа нынче на нас смотрит и шапку снимает. Что вы, шутите? Скоро наши Берлин возьмут и войне капут! Поняли?
– Понял… – пробурчал он, – яйца кур учат… Будь здорова, русявая!..
– Счастливого, папаша! – просияла она. – Только не надо на меня обижаться…
– Ну, ладно. Пойду обратно в госпиталь…
– Так бы сразу сделали… Но постойте, сейчас будет машина, я вас туда отправлю… До госпиталя далеко, и вы, вижу, еще здорово хромаете…
Скоро подкатила машина. Из кабинки выглянул усатый черномазый шофер, озорно кивнул девчонке, махнул ей рукой, а она сурово подняла красный флажок, подошла к шоферу, откозырнула, как положено, и сказала:
– Товарищ водитель, отвезите гвардии сержанта в госпиталь…
– Чего же, это можно! – кинул тот, почесав затылок. – А я, грешным делом, подумал, что ты, красавица, хочешь со мной прокатиться.
– Непременно прокатимся! – блеснула она большими зеленоватыми глазами. – Только после войны. Непременно с тобой прокатимся… А пока не болтай лишнего, езжайте! Счастливого!..
Она открыла дверцу кабинки и помогла усатому солдату сесть рядом с шофером.
Шмая-разбойник кивнул ей, и машина покатила.
Только через неделю с большим трудом удалось Шмае выписаться из госпиталя, получить документы, награды, обмундирование и пуститься на поиски своей части. Он точно не знал, где она находится, но сердце ему подсказывало, что корпус должен быть где-то на Берлинском направлении.
Глава тридцать пятая
ПУТЬ К БРАНДЕНБУРГСКИМ ВОРОТАМ
Он встречал их на запутанных дорогах Германии в разных позах, но больше всего с поднятыми руками и разинутыми ртами, со страхом в глазах. Они неистово орали вместо «Хайль Гитлер!» – «Гитлер капут!». Вместо «Дойчланд юбер аллее!» – «Капитуляция!».
Он видал их, только что выкарабкавшихся из-под развалин, из мрачных подвалов, из канализационных колодцев и очумевших от грохота пушек, танков, самолетов, жалобно умолявших: «Пощадите! Не стреляйте, сдаемся в плен! Капитулируем!»
Он видел живых и мертвых, чистых, получистых и просто грязных арийцев, откормленных, как свиньи, и худых, высохших, словно их только что выкопали из могил, совсем не похожих на тех «чистокровных арийцев», которые самодовольно улыбались с обложек иллюстрированных журналов Третьего рейха. И каждый раз, встречая их, Шмая-разбойник вспоминал обер-ефрейтора Вильгельма Шинделя и толстяка ефрейтора из лагеря, которые так надругались над ним и его друзьями в далекой донецкой степи… Что же теперь осталось от этих гитлеровских ефрейторов!..
Долго пришлось нашему разбойнику шагать и колесить на попутных машинах и подводах по незнакомым дорогам, пробиваясь к своей части.
Дело усложнялось тем, что на каждом шагу его останавливали патрули, допытываясь, куда едет, почему отбился от своих. Вот и приходилось изъясняться. А тут еще раны давали себя знать. Все труднее становилось двигаться, превозмогать ноющую боль.
Но тучи советских бомбардировщиков и штурмовиков, которые шли на Берлин, казалось, придавали ему новые силы. Он смотрел на запад. Там, сквозь облака дыма и пламени, виднелись шпили Берлина.
И хоть наш разбойник никогда не радовался чужому горю, сейчас он от души был доволен, видя, что этот город испытывает на своей шкуре все ужасы войны. Это заслуженное возмездие!..
Весна расстилала по земле зеленый ковер, к только чернеющие на каждом шагу воронки от снарядов и бомб нарушали его красу. Густой черный дым, обволакивающий поля, чем-то напоминал предутренний туман в глубоком ущелье. На деревьях, израненных осколками и пулями, распускались почки. Но небо не было весенним – в нем отражались бушующие над городом пожары.
День уже был на исходе, когда в одном из садов на окраине города под изувеченными деревьями Шмая набрел на второй эшелон своей дивизии.
Его окружили знакомые солдаты, стали расспрашивать, где был и что слышно в тылу. Накормили, поднесли чарку, и старый солдат сразу приободрился, стал шутить и рассказывать о том, как он поссорился с толстушкой медсестрой. Увлекшись своим рассказом, он и не заметил, что люди не смеялись, как обычно, слушая его рассказ, и смотрели на него с участием.
Узнав, какая подвода идет на участок его полка, он примостился на ней, поехал. Ездовой, пожилой, с виду угрюмый солдат, стал его осторожно уговаривать остаться пока во втором эшелоне. Как же он, такой слабый, сразу полезет в самое пекло? Мало ли что может случиться. Немец все время контратакует, возможно, придется даже немного отойти, пока появятся штурмовики. Но Шмая ничего и слышать не хотел: вези, мол, ничего страшного не будет…
И ездовой умолк, с грустью посмотрел на него и закурил трубку.
– Да, зверюга, знает ведь, что уже издыхает, а сопротивляется, – пытался Шмая продолжать разговор. Но ездового уже трудно было расшевелить.
Уже сгустились сумерки, когда они подъехали к узкому переулку, заваленному кирпичом и щебнем. Ездовой ткнул кнутовищем в сторону, где среди развалин виднелись орудия, которые били по высокому, изрешеченному снарядами дому.
Шмая осторожно слез с подводы и оглянулся. Жутко стало безоружному солдату среди развалин. На камнях тут и там валялись трупы в ненавистных серо-зеленых мундирах и черных касках. Улицы были засыпаны кирпичной пылью. Старый солдат старался не смотреть на них.
Но вот он увидел Сидора Дубасова, возившегося возле пушки, и ускорил шаг. Тот посмотрел на него как-то странно, будто даже не узнал. Потом вытер руки о полу куртки, подошел к нему, обнял:
– Вернулся, старина?..
Но тут же отвернулся, пряча от старого друга навернувшиеся на глаза слезы. Шмая хотел расспросить Сидора, но почему-то не отважился. Какой-то странный он сегодня, Дубасов! Столько времени не виделись, а он вроде и говорить не желает…
Но вот гостя уже увидели другие артиллеристы. Неторопливым шагом пошел ему навстречу с распростертыми объятиями Никита Осипов, поздравил его с возвращением, но и он был сегодня не такой, как обычно. Подходили и остальные артиллеристы, пожимали ему руку, но никто не шутил, не смеялся… И сердце подсказало недоброе старому солдату…
Почему ему ничего не говорят? Что скрывают от него?
Шмая просто не мог узнать товарищей. Он понимал, что все они безумно устали, прямо падают с ног. Шутка сказать, все время – беспрерывные бои. Ни сна, ни отдыха. Да какой теперь может быть сон, какой отдых, когда они уже видят перед собой Берлин! Еще немного, и закончится самая тяжелая из всех войн. А это такое счастье для каждого солдата – завершить свой боевой путь у стен этого проклятого города!..
И он никак не мог понять, почему же все тут такие мрачные? Почему они молчат?
А может быть, каждый ждет, чтобы заговорил другой?..
Тяжелое предчувствие мучило Шмаю, и он спросил Осипова:
– Никита, а Никита, чего это все на меня смотрят, будто не узнают?..
Он хотел еще что-то спросить, но издали увидел Борисюка, который спешил сюда, перебираясь через развалины.
Командир дивизиона уже не был похож на того юнца, с которым Шмая встретился на берегу Волги в ту знаменательную зиму. Он возмужал, окреп, в каждом его движении чувствовался бывалый воин. И усы, отрощенные для солидности, придавали его мальчишескому лицу важность боевого командира.
– Ты смотри, нашел нас! – просияло на мгновение лицо Ивана Борисюка. Он подбежал к Шмае, обнял его, поцеловал в колючую щеку. – Верно, сбежал из госпиталя?.. Я сразу понял… Но на что это похоже?
– А ты думал, что я в такое время буду сидеть там и глотать таблетки? Уж после долечусь…
– Напрасно ты это сделал… Сейчас подойдут подводы с боеприпасами, и я тебя отправлю во второй эшелон. Тут тебе пока нечего делать… Видишь, какая война пошла… Среди развалин… Куда тебе с больной ногой? Да и рука у тебя, вижу, покалечена. Ну зачем ты пришел?.. Все время контратакуют, гады. Ты нам только мешать будешь…
– До сих пор я, кажется, ни для кого не был обузой, – удрученно бросил обиженный кровельщик.
– Да что ты, панаша! Не понял ты меня, – стал его успокаивать Иван Борисюк. – Отдохнешь немного во втором эшелоне…
У Шмаи даже слезы выступили на глазах. С таким трудом нашел он их, добрался сюда и вот…
И почему Борисюк отошел от него, ничего больше не сказав? Почему все так смотрят на него и чего-то недоговаривают?..
Осипов не сводил со Шмаи глаз. Протянул ему табакерку, угощая табачком, и не знал, с чего начать. Парторг считал, что лучше уж сказать горькую правду, чем так мучить человека, и решил рассказать ему все, но в эту минуту ударила вражеская артиллерия. Снаряды засвистели где-то совсем близко, и артиллеристы побежали на свои места.
Шмая опустился в глубокую воронку, недавно вырытую огромной бомбой. Там уже лежал маленький черномазый казах-связист с быстрыми карими глазами. Он прижимал к уху трубку и что-то кричал охрипшим голосом.
«Новичок? – подумал Шмая. – Ну, конечно. Сколько за эти бои уже сменилось людей! Сколько вышло из строя, погибло!.. Даже страшно подумать…»
Шмая хотел о чем-то спросить связиста, но тот был занят своим делом и не обращал на него внимания.
Огонь немного затих, и связист с облегчением вздохнул. Теперь он внимательно посмотрел на незнакомого пожилого сержанта, остановил взгляд на перевязанной руке.
– Ты чего сюда пришел, однорукий? – бросил паренек, мигнув, чтобы Шмая дал ему докурить свою цигарку. – В самое пекло тебя принесло… Не видишь разве, что тут делается?
Шмая хотел было ему ответить, но тот уже снова что-то кричал в трубку, вызывая наблюдательный пункт полка.
– Слышь, сынок, спроси-ка, нет ли там комбата? – коснувшись рукой плеча связиста, сказал Шмая, поудобнее усаживаясь на ящике из-под снарядов.
Тот удивленно взглянул на него:
– Какого тебе, батя, комбата?
– Гвардии майора Спивака… Знаешь такого?..
– Знаю… А кто ж его не знал? Но он уже подполковником был, командиром полка, – после паузы ответил связист. – С ним уже не свяжешься…
– Почему?..
– Как это – почему?.. Война… Командир полка, гвардии подполковник Спивак ночью был на наблюдательном пункте вон там, на станции, видишь? Ну где водонапорная башня торчит… Хороший был человек…
– Почему – был? – схватил парня за плечи Шмая так, что тот перепугался. – Говори толком! Почему – был? А где он сейчас?..
– На рассвете погиб… Ночью я еще с ним разговаривал… Передал ему телефонограмму из корпуса… Генерал Дубравин звонил… Двадцать четвертый, ну, корпусной… Передал Спиваку, что ему присвоили Героя, поздравил… А чуть свет, когда мы отбивали контратаку и перебирались вон к тому дому, фашисты ударили из фаустпатрона. И убили, гады, подполковника Спивака… Весь полк плакал, когда его не стало. Золотой был человек. Душа! Ты что, знал его?
У Шмаи закружилась голова, и если б он не схватился за плечо изумленного связиста, наверно, упал бы… Глаза затуманились слезами.
– Ты не обманываешь? Как же это так?..
– Что вы, батя? Самому не верится… – вымолвил парень. – Разве ребята не говорили вам? – кивнул он в сторону пушкарей. – У них на руках он скончался…
Артиллеристы молча смотрели на сгорбившуюся фигуру товарища. Как человек сразу осунулся, постарел!.. И никто не мог найти для него слов утешения. Ну как ты утешишь старика, который потерял на войне трех сыновей, а о четвертом нет никаких известий?
Шмая закурил, поправил повязку и медленно пошел в сторону перекрестка. Около разбитой улочки Шмая остановился.
Дорогу пересекли повозки с ранеными. Шмая подошел ближе, стараясь разглядеть лица лежащих на соломе солдат. Но что это? Или померещилось ему? Вслед за крайней повозкой шла, понурив голову, Шифра. Она ничего, казалось, перед собой не видела, не отводя глаз от того, кто лежал на повозке. Шмая с трудом узнал Васю Рогова. Вася был смертельно бледен и, кажется, бредил. Вместо правой руки под окровавленным одеялом зияла впадина. «Руку оторвало…» – мелькнуло в голове у Шмаи, и он бросился к повозке.
– Вася! Сынок! – не своим голосом крикнул Шмая. Но тот даже не пошевельнулся. Только Шифра подняла на земляка заплаканные глаза.
– Руку ампутировали, – не останавливаясь, промолвила она. Подумав мгновение, опустила голову. – А утром мы хоронили вашего сына… Просто не верится… Как живой стоит перед глазами…
Шмая прошел несколько шагов за повозкой, рассеянно слушая Шифру, и, заметив, что веки Васи дрогнули, погладил его по лицу:
– Держись, сынок, держись, дорогой!.. Такой тяжелый путь прошли… И вот в последние часы войны… Не повезло тебе… А мне?.. Нет у меня уже сыновей… Ты мне теперь будешь сыном…
Вася открыл глаза, что-то пробормотал, но Шмая не расслышал его слов.
Повозка пошла быстрее, и Шифра вцепилась в нее, чтобы не отстать.
Два дня и две ночи шли уличные бои. По развалинам домов, через горы кирпича и щебня, среди пылающих зданий, сквозь дым и пыль пушкари перетаскивали свои орудия, обрушиваясь на обезумевших гитлеровцев, которые все еще верили, что им удастся отодвинуть час своей гибели. Советские воины неудержимо рвались вперед. Ведь до центра Берлина было уже рукой подать, и надо было спешить. Каждый боялся пропустить тот великий момент, когда над пузатым куполом рейхстага взовьется красное знамя Победы, когда весь мир узнает о падении вражеской твердыни.
Упоенные боем, люди не замечали, как шло время, когда кончался день и начиналась ночь.
Ранним майским утром вдруг прекратился пушечный гром и настала какая-то удивительная, звенящая тишина.
Шмая открыл глаза и поднялся с ящиков, стоявших рядом с пушкой Сидора Дубасова. Тут и там сидя дремали пушкари. Кажется, всех разбудила эта неожиданная тишина. Шмая долго тер глаза, стараясь вспомнить, где он находится, и, увидев улыбающегося Ивана Борисюка, направился к нему:
– Почему так тихо, гвардии капитан?
– Не вечно же воевать… Кажется, все…
Он хотел еще что-то сказать, но вдруг среди тишины послышался рокот самолета. Это был не бомбардировщик, не штурмовик, не истребитель, от которых надо было лезть в щель, падать на землю, укрываясь от пуль и осколков. Важно, с чувством собственного достоинства плыл над развалинами знаменитый «кукурузник». Выключив мотор, он спланировал, и сверху, с небес, раздался взволнованный голос:
– Поздравляем с победой, друзья! Берлин пал! Фашисты капитулировали!..
– Победа! Полная победа над фашизмом!..
Пушкари вскочили со своих мест. Минуту следили за маленьким самолетом, махали ему вслед руками, пилотками, касками. Бойцы обнимались, целовались, поздравляли друг друга, не находя слов, чтобы выразить свой восторг. Все еще не верилось, что так необычно закончилась война, казалось, что это только сон. Но все было именно так.
По дороге, ведущей в Берлин, мчались машины, танки, на броне которых сидели и стояли бойцы с поднятыми автоматами. Отовсюду слышались выстрелы из автоматов и винтовок. Каждый салютовал, палил в воздух в честь победы, и все спешили к Бранденбургским воротам, к рейхстагу, полюбоваться на развевающееся на нем красное знамя Победы.
Артиллеристы выкатили пушки на обочину дороги, отряхнули с сапог кирпичную пыль. Взобравшись на груды камней, на разбитые стены, они всматривались в ту сторону, где среди развалин громоздился мрачный, весь окутанный дымом рейхстаг с развевающимся на нем алым знаменем, которое, как чудилось всем, поднималось из пламени.
Товарищи помогли старому солдату вскарабкаться на толстую стену. Глаза его были полны слез. Это были слезы большой солдатской радости и гордости. Шмая был счастлив, что дожил до этой великой минуты, но вместе с тем сердце его сжималось от горя. Гибель сына давала себя чувствовать еще сильнее, терзала душу, мешала дышать. Он вспомнил боевых друзей, которые не дожили до этого часа, холмики могил, на которых остались наскоро сколоченные из досок солдатские обелиски с краткими надписями…
А бойцы ликовали, и Шмая старался затаить в глубине души свою скорбь, не омрачать общего праздника. Старый солдат знал, что у каждого есть свое личное горе, своя особая скорбь. Но в такие минуты об этом не нужно думать.
Вот они высыпали на дорогу – тысячи испуганных, униженных головорезов. Идут, проклятые, и орут во всю глотку: «Гитлер капут!..» Смотрят заискивающе, со страхом на победителей – русских солдат. Идут, понурив головы, с белыми тряпками на рукавах, с сорванными погонами, без крестов, без нашивок, и жаждут поскорее попасть в лагерь для военнопленных. Пленные прижимаются к развалинам, пропуская колонны машин, идущих к Бранденбургским воротам.
– Ишь, как дрожат, гады! – указывали ребята на понурых пленных. – Захотелось им войны, вот они ее и получили!..
– А помнишь, как они, фрицы, шагали в начале войны!
– Ничего, больше они так никогда не будут шагать! Вырвали клыки, сломали им хребет!..
На машинах поют, смеются, радуются советские воины. Вот идут пехотинцы, а на сапогах у них пыль исхоженных дорог, пыль всей Европы. Они пришли сюда сквозь смертельные бои и принесли с собой немеркнущую славу советского оружия. Идут с песнями неровным строем, автоматы, винтовки, пулеметы несут кое-как. Со стороны даже может показаться, что это идут на отдых рабочие люди после тяжелой трудовой вахты.
Войска подтягивались к центру города. Иван Борисюк приказал прицепить пушки к машинам и ехать к Бранденбургским воротам. Он помог своему старому другу взобраться в кузов, стал рядом с ним, облокотившись на запыленную крышу кабинки. Заметив слезы на глазах Шмаи, он положил руку ему на плечо и, кивнув в сторону пленных, толпами бредущих по обочине дороги, сказал:
– Вытри, папаша, слезы… Неудобно. Пусть они теперь плачут кровавыми слезами!..
Шмая поднял на Борисюка влажные глаза и кивнул головой:
– Ты прав, сынок. Очень хорошо сказал…
Глава тридцать шестая
В ЛОГОВЕ ЗВЕРЯ
Город, поверженный в прах, задыхавшийся в облаках дыма, пыли и пламени, разбитый, наказанный за тяжкие преступления перед человечеством, сейчас пел, ликовал, говорил на всех языках и наречиях народов Советской страны.
Робко, с опаской выползали из своих нор, из мрачных подземелий метрополитена, из-под развалин и погребов военные и штатские с неизменными белыми тряпками-флажками в руках. Сдаются, капитулируют, молят о пощаде, дрожат, как в лихорадке…
Кто они, эти испуганные, трусливые, пришибленные фрицы и Гансы? Какие погоны на них были несколько дней, несколько часов тому назад? Сколько крестов и медалей болталось на их кителях, насквозь пропахших кровью, слезами их бесчисленных жертв? Бывшие эсэсовцы прятались за спины штатских немцев. О чем все они теперь думают? Какими глазами смотрят на жизнерадостных, человечных русских воинов, которые сразу после битвы подобрели, стали такими же, как были на своих заводах, в институтах, в колхозах, – мирными, добродушными людьми?
Из своих укрытий стали выбираться женщины, старики, заплаканные, оборванные, по горло сытые бредовыми речами своего одержимого фюрера, воплями Геббельса, предсказывавших скорую победу над всем миром…
Немцы с тележками, колясками, с котомками за плечами брели по дорогам, испуганно оглядываясь по сторонам.
Им говорили, что русские будут им мстить, убивать их, резать… Но что-то пока на это не похоже: никто их не трогает, а, напротив, их останавливают, предлагая хлеб, курево, с участием расспрашивают о пережитом, спрашивают, куда они идут и как теперь намерены жить…
Горожане все смелее вступали в разговоры, жадно курили русскую махорку, ели русский хлеб, плакали, клянясь, что они не хотели войны, всей душой ненавидели Гитлера и его банду, знали, что он доведет их до этого…
Подходили к бойцам и другие. Согнувшись в три погибели, они заискивающе улыбались, восхищались могучей силой русского оружия, предлагали свои услуги: не хотят ли товарищи-камрады посмотреть достопримечательности города? Битте, пожалуйста, за краюху хлеба или пачку табака они охотно покажут имперскую канцелярию, Унтер-ден-Линден, Бисмаркштрассе, театр оперы…
Сидор Дубасов, глядя в льстиво улыбающееся, заросшее рыжей щетиной лицо долговязого немца в гражданской одежде, но с выправкой офицера, прямо-таки горевшего желанием оказать услугу советским бойцам, со злостью сказал:
– О, нет, Фриц, или как там тебя еще звать, нам провожатых не надо! Отстань! Мы к вам, в Берлин, нашли дорогу и без провожатых. Нас привел сюда запах крови, которым вы залили полмира…
Гид-доброволец поморщился, снова улыбнулся и отошел в сторону. А Иван Борисюк, глядя на взволнованного наводчика, сказал:
– Ишь ты, город, достопримечательности хочет нам показать!.. Мы уже насмотрелись на их достопримечательности. Видели Освенцим, Бабий яр, Тремблинку… Историю забыл, проклятый! Небось, забыл, что наши уже однажды побывали в Берлине, что ключи от Берлина находятся в московском музее…
Подходили, останавливаясь поодаль, другие немцы, с восхищением смотрели на пушки, машины. Маленький старичок со сморщенным, как перезревший огурец, лицом, с глазками-щелками, видно, тоже из бывших военных, дымя толстой куцой трубкой, кивнул на «катюши», стоявшие под деревьями.
– «Катюш», камрад. О, гут, гут «катюш»! Люкс! – Он жадно жевал хлеб, который ему сунул кто-то из солдат, кивал головой, чмокал синими, мокрыми от слюны губами и повторял: – О, гут, зер гут «катюш»!.. Прима!..
Он был ошеломлен, пришиблен, и нельзя было понять, что именно для него гут – хорошо: русские пушки, «катюши» или свежий хлеб, который он с таким аппетитом уплетал.
Хоть и трудно было Шмае сейчас говорить с убийцами сына и своих боевых друзей, он подошел к старику и, глядя на него в упор, спросил:
– Эй, сморчок, что тебе так понравилось? Что ты хвалишь? Понял?
– Понял, – оживился старичок, – ошень понял… Я уже воевал с русски в ту войну. Брусилов… Так, так, камрад, генерал Брусилов… – зашамкал он, брызжа слюной. – Русс пушка, «катюш» карош!.. Русс танка – карош!.. Я есть старый зольдат. В ту войну воеваль с русски… Воевать с русски, криг мит Руссланд нихт гут… Не надо воевать с русски… Война с русски – немец, Дойчланд капут… – Проглотив остаток хлеба, он добавил, сильно жестикулируя: – Я давно говорит: Дойчланд война фершпильт… Будет проиграть. Надо биль немец, американ, францус, англичан вместе воеваль против большевик – нихт капут Дойчланд, нихт фершпильт война…
– Слыхали, что эта подлюка говорит? – воскликнул в ярости Шмая. – Нет, вы только послушайте!.. Сейчас я ему рожу расквашу…
Никита Осипов подошел к нему, тронул за рукав:
– Пошли ты его к чертовой матери, старого кретина!.. Оставь его, дурака… Не стоит пачкать руки о такую мерзость…
Старик понял, что своими словами вызвал гнев солдат, и стал пятиться назад, но вдруг остановился.
– Нихт гут… – залепетал он. – Русс зольдат не понял!.. Ецс, теперь, немец должен быть умен. Дойч и русс вместе надо воевать с Америка, Англия, Франс… И карош будет! Зиг… Победа!
– Ах ты, сволочь! – не сдержался Иван Борисюк. – Ты смотри на него, только о войнах и думает, собака!..
Стоявшие в стороне немцы, услышав слова своего земляка и соплеменника, набросились на него и чуть не избили.
– Гоните его, он сумасшедший! – вмешалась какая-то из старух, собиравших корки хлеба. – Будь они прокляты, те, кто хочет воевать… Столько бед принесла нам война, а этот идиот уже снова болтает о войне! Берлин еще горит, а ему уже новые войны снятся…
И старик, подняв воротник потрепанного пальто, отскочил в сторону, провожаемый злобными взглядами своих возмущенных земляков.
Возле груды камней Шмая нашел старую щетку, поднял ее и стал счищать пыль с гимнастерки. Старик снова подошел к нему и, заискивающе улыбаясь, сказал:
– Русс зольдат, дайт табак… курить… Я почистил… – И достал из бокового кармана маленькую щеточку.
Шмая бросил на него злобный взгляд:
– Отвяжись! Не выводи меня из терпения!..
Тот заулыбался, отошел на два шага и, словно желая извиниться перед русс зольдат, заговорил, указывая на танки, которые шли через город, грохоча гусеницами:
– Русс оружия карош!.. А чтобы победиль, надо иметь карош оружия…
Шмая с презрением взглянул на него:
– Дурак! Главное – совесть надо иметь, честь, веру… Оружие тоже нужно, но не только в нем дело… У вас было много оружия, ну и что?
– Так, так, камрад… – улыбнулся своей отвратительной улыбкой старик, скаля желтые гнилые зубы. – Карошо… Поняль, ферштанден!
Тяжелым размеренным шагом к ним подошел Никита Осипов:
– Что он мелет, этот дьявол? Мечтает о новой войне, об оружии, холера, говорит!..
– Не издохла еще такая гнида!.. Но я думаю, что их уже осталось не много. После этой войны они поумнеют. Не вздумают больше браться за оружие… Надолго отучили мы их воевать…
Прибыли полевые кухни. Запахло свежими щами, жареным мясом. Бойцы приготовили котелки, устраивались обедать где попало.
Кашевар налил Шмае котелок дымящихся щей, и старый солдат, достав из-за голенища ложку, присел с котелком на ящик. Но, почувствовав на себе взгляды голодных ребятишек, прибежавших сюда с разных сторон, поперхнулся и отставил котелок в сторону. Детвора в куцых штанишках и юбочках смотрела на него завистливыми глазами, все время косясь на котелок и на свежий, вкусный хлеб.
И сердце у солдата заныло: «Дети голодные…» Он вытер ложку о край гимнастерки, поманил пальцем детей, посадил их в кружок, поставил котелок посередине и сказал:
– Что ж, угощайтесь! Знайте вкус солдатских щей! – Он отдал им свою пайку хлеба, ложку, взял ложки у товарищей: – Рубайте!
Дети, отталкивая друг друга локтями, жадно набросились на еду, забыв о добром русс зольдате, который вернулся на прежнее место голодный, но довольный тем, что кормит детей.
– Послушай, старина, – подсел к взволнованному другу Сидор Дубасов, придвигая свой котелок и показывая кивком головы, чтобы тот к нему пристраивался. – Ты хоть немного поешь… Ведь ты все ребятишкам отдал…
– Не могу видеть голодных детей…
– Понятно… – после долгой паузы проговорил Сидор. Он проглотил несколько ложек, тоже отнес свой котелок детям и, нагнувшись к Шмае, тихо добавил:
– А ведь их отцы, возможно, твоего сына убили… Всех нас хотели со свету сжить… Страну нашу растоптать, сжечь, уничтожить…
– Знаю, – тяжело вздохнул Шмая. – Я думал: когда войду в Берлин, никого щадить не буду… Но дети ведь не виноваты. Они не будут похожи на своих отцов…







