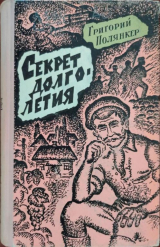
Текст книги "Секрет долголетия"
Автор книги: Григорий Полянкер
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 31 страниц)


Григорий Полянкер
Секрет долголетия
РОМАН
О жизнерадостном и добром человеке, бывшем солдате, участнике трех войн, добродушном мастеровом повествует роман. Многое пережил Шмая, немало дорог исходил, и многое известно этому веселому кровельщику. Ему известен даже… секрет долголетия. Правда, излагает он этот «секрет» в шутливом тоне. Кто-то из земляков когда-то тоже в шутку прозвал Шмаю разбойником. Однако всю жизнь за добрым и неугомонным человеком тянется это необычное прозвище…
ДВА СЛОВА ОТ АВТОРА
Первая часть романа под названием «Шмая-разбойник» вышла в свет незадолго до Великой Отечественной войны.
Не будем скрывать, – необычное название книги принесло автору немало хлопот, а издателям – тревог и волнений.
Такое название до некоторой степени всколыхнуло любителей детективной и приключенческой литературы. Сурово сдвинули брови отдельные критики – блюстители порядка на литературном поприще, что, мол, за вольности такие? О разбойниках писать? Откуда у нас разбойники взялись?..
Однако, ознакомившись с первыми главами романа и убедившись в том, что ни о каких подлинных разбойниках здесь и речи нет, несколько успокоились.
В самом деле, о подлинных разбойниках в этой книге ничего не сказано. Ни одного слова.
Это история словоохотливого, жизнерадостного человека, который сам не грустит, не скучает и не дает скучать другим, человека, побывавшего, как говорится, на коне и под конем, человека, познавшего немало бед и горя, огорчений и радости…
Среди добрых и пытливых читателей наших оказалось немало таких, которые слегка упрекали автора, почему, мол, он так быстро расстался со своим любимым героем, оставив его на полпути, между небом и землей. Тем более, что в одной из глав романа ясно сказано, что Шмая-разбойник в своих долгих поисках натолкнулся почти на… секрет долголетия, над которым немало ученых и мыслителей невесть сколько веков ломают себе голову. Почему же, в самом деле, герой не обнародовал свой секрет, не раскрыл перед всеми свою заветную тайну?
А ведь известно издавна, что все люди мечтают, жаждут долголетия, все хотят быть молодыми и красивыми, бодрыми и сильными, долгие годы жить и процветать, будь то молодой человек или капризная женщина, пожилая дама или бывалый старик пенсионер…
Вот, собственно, почему мы решили вернуться к нашему старому доброму знакомому. С ним мы столкнулись на военных дорогах, встретились в поверженной фашистской Германии, сидели с ним холодными ночами у солдатских костров, видели его, когда он спешил в родные края к своей семье, близким и друзьям, истосковавшимся по его острому слову, озорной шутке, золотым рукам, привыкшим держать винтовку и топор, молоток и рубанок, лист кровельного железа…
В первые минуты встречи нас поразило то, что он мало изменился, почти что не постарел, если, конечно, не считать нескольких лишних морщин на лице, свежих шрамов от осколков и пуль да еще, пожалуй, густой седины на висках.
Правда, наш добрый знакомый стал несколько сдержаннее, скупее на шутку и остроту. И не мудрено! Сколько горечи пришлось испить за эти годы! Но в остальном он, пожалуй, ей-ей, остался тем же жизнерадостным, веселым собеседником, каким мы его знаем много лет…
Мы и теперь изредка встречаемся с ним, с нашим добрым знакомым…
Впрочем, мы, кажется, отвлеклись от главного.
Пора и честь знать. «Два слова от автора» растянулись на две страницы. А ведь впереди нас ждут забавные и грустные встречи с нашим неугомонным, неунывающим знакомым, с его друзьями и товарищами, родными и близкими. Что ж, послушаем, что он нам расскажет.
Вернее, начнем с самого начала, как принято во всех романах…

Часть первая
ШМАЯ-РАЗБОЙНИК
Глава первая
ШМАЯ-РАЗБОЙНИК ПОТРЯСАЕТ МИР
Видали вы когда-нибудь разбойника? Живого, настоящего разбойника?
Если видали, у меня большая к вам просьба: скажите, будьте уж так добры, каков он из себя? Если есть у вас хоть на грош уважения к солдату первой мировой войны, который три года, как один день, провалялся в окопах, заслужил три ранения и два «Георгия», помогал скинуть августейшего нашего царя-батюшку, – откройте секрет: как выглядит разбойник?
Клянусь вам всеми святыми, жизнью жены и детей моих, с тех пор как живу на свете, ни разу не видел настоящего разбойника, хотя самого меня все величают не иначе, как «Шмая-разбойник».
Разбойник Шмая!
Любят люди посмеяться, хоть время нынче суровое. Не до смеха. Только-только выбрались из такой страшной войны. Весь мир еще ходуном ходит. Никто толком не знает, что принесет ему завтрашний день. Кругом бродят разные банды, настоящие разбойники, грабят, убивают. Черт знает что творится! А мои земляки заладили, хоть плачь: Шмая-разбойник и Шмая-разбойник…
Эх, были бы все разбойники похожи на меня, куда легче жилось бы на свете! Настал бы, мне кажется, рай на земле!
Главного разбойника – царя-батюшку – слава всевышнему, убрали. Правда, порядка пока что не видно. Целая орава лютых злодеев со всего света ринулась на Россию. Ну совсем как шакалы, так и норовят побольше кусок урвать! А спросите у нас в местечке – другого разбойника, кроме Шмаи, как будто и нет на свете! Пристали к человеку, весь мир исходившему, к солдату, который на фронтах воевал – от Карпат до Пинских болот, – к мастеровому-кровельщику, столько крыш залатавшему людям, чтоб им на голову не текло, и гогочут, животики надрывают.
Насколько я понимаю, разбойник должен быть долговязым детиной с перекошенной мордой, с воровскими глазищами, косящими из-под лохматого чуба, и если не с револьвером или обрезом, то по крайней мере с ножом за голенищем.
А теперь взгляните на меня. Я, кажется, самый обыкновенный. Рост как рост, и глаза как глаза, такие же, как у всех людей: одни говорят – черные, другие – карие. Чуба не ношу. Каждые две недели стригусь в парикмахерской. Кинжалов и ножей за голенищем не таскаю. С войны, правда, привез домой винтовку, да моя благоверная такой подняла шум, что винтовку эту я тут же отнес воинскому начальнику. Притащил еще шашку, да променял ее у кузнеца на пуд муки и мешок картошки. Дома у меня валяется где-то нож, только тупой, как деревяшка… Вот и судите теперь сами, какой из меня разбойник.
А почему, спросите вы, Шмая? Что за странное имя? Думаете, меня в самом деле так зовут? Глупости! Мое настоящее имя – Шая, Шая Спивак. А это наши зубоскалы постарались: перекроили Шаю на Шмаю, окрестили простого, мирного человека разбойником, вот и пошло по свету божьему: Шмая-разбойник!
Ну и ладно! Пускай! Не все ли мне равно, как меня зовут? Мне уже женихаться не надо, а заработкам моим, профессии это прозвище, право же, не повредит. Да и ссориться с целым местечком из-за такой глупости тоже нет смысла. Где наше не пропадало?!
Теперь я уже начинаю припоминать: прозвище это мне присобачили давненько. И кто бы, вы думали? Наши богачи-благодетели. За что? А за то, что несправедливости не выношу и правду-матку в глаза режу! Увижу, что кого-нибудь зря обижают, обманывают, сразу бунтую, в драку лезу. Люблю, чтобы все по справедливости… А прозвище так и приросло. Привыкли к нему люди, и помаленьку все – стар и млад – стали величать меня не иначе, как разбойником.
Но я понимаю, теперь меня так называют уже не по злобе. Наоборот, теперь это прозвище не так режет слух, как раньше. Я к нему привык и ничуть не обижаюсь…
Иду я как-то по улице, подходит ко мне нищий, руку протягивает:
– Пожертвуйте, добрый человек, сколько милость ваша…
Останавливаюсь, выворачиваю все карманы и отдаю ему последние гроши. Нищий низко кланяется, благодарит, как полагается, а в конце добавляет:
– Долгой вам жизни, разбойник Шмая!
Ну что ты скажешь!..
Да что говорить о нищих, – зайдите ко мне в мастерскую, и вы сможете увидеть еще более интересную картину. Врывается ко мне целая ватага мальчишек, шумят, галдят – одуреть можно! А я бросаю свою работу и принимаюсь мастерить им всякие игрушки. Они хватают мои подарки, прыгают от радости до потолка, а соберутся уходить, хором кричат:
– Большое вам спасибо, завтра опять придем, дядя Шмая-разбойник!
Ну прямо наваждение какое-то!
А малышей я люблю! Гляжу на них, и сердце разрывается. Не каждый день видят они кусок хлеба. А вкус молока давно уже забыли. Голые, босые. Тоже горе мыкают из-за этой войны… Им еще труднее, чем взрослым. Пусть хоть позабавятся!
А может, все-таки перекрутится и им уже легче будет жить на свете, чем нам?
Да, как вспомнишь войну, которую мы только что пережили, волосы дыбом встают. Ну и война! Просто каким-то чудом уцелел я и вернулся домой. Счастье мне выпало… Да можно ли это назвать счастьем? Я вот вернулся, а сколько не вернулось! Сколько горя, несчастий, бед принесла эта война, сколько наплодила она калек, вдов, сирот!.. Хватил бы кондрашка того пса богомерзкого, который выдумал войну…
Все это выпалил однажды наш добрый кровельщик приехавшему в местечко почтенному гостю. А когда Шмая-разбойник встречает человека, с которым можно поговорить по душам, он забывает обо всем на свете. Его хлебом не корми, только дай ему подходящего слушателя! А как заговорит о войне, взыграет в нем бывалый солдат, черные глаза начинают светиться, улыбка озаряет смуглое добродушное лицо, заросшее густой щетиной. Ловко свертывает он толстую цигарку из крепкой махры, глубоко затягивается, выпускает облако дыма, сдвигает на макушку простреленную солдатскую фуражку, расстегивает ворот полинявшей гимнастерки и – пошел про войну рассказывать!
Но вот Шмая, неожиданно покачав головой, кивает на ведро с инструментом, словно желая этим сказать: «Эх жаль, времени мало. Сами, небось, видите, работа меня ждет. Уже полдень, а я еще сегодня ломаного гроша не заработал. Дома ждут жена и двое птенцов. А то рассказал бы я вам про войну…»
И все же не уходит. Добродушно улыбаясь, снова выпускает изо рта густое облако дыма, чешет затылок и продолжает:
– Как сейчас помню, было это в первые дни, когда всемилостивейший государь, царь-батюшка, чтоб его из могилы выбросило, погнал нас на позиции. Лето, понимаете, жара немилосердная. А путь далекий. Винтовка да лопатка, каска и скатка, мешок за плечами жмут и бока натирают, – словами не передать. С ног валишься, а ничего не попишешь. Идешь, коли царь-батюшка приказал. Из сил выбиваешься, голодный, сонный, измученный, а шагаешь, сам не зная, куда и зачем.
Лето, как нарочно, такое погожее! Птички щебечут, жаворонок звенит над головой, травы пахнут, – опьянеть можно! Небо над тобой ясное, голубое, совсем как в мирное время. Глядишь вокруг и на минутку забываешь, что ты солдат, что идешь смерти навстречу. Но забываешь об этом только на минутку! Издали доносится гул орудий, и ты снова вспоминаешь, что шагаешь к смерти в гости. И становится немного не по себе. Не хочется ведь умирать! Знал бы ты, за что, легче на душе было бы. Подумаешь, какую прекрасную жизнь прожил ты дома!.. Что ты там видел, кроме нищеты, мук? И какое счастье ждет тебя дома, когда все это кончится и ты выживешь?.. Один черт, что жить, что умирать. А все-таки жаль так глупо расставаться с жизнью. Казалось бы, не один год на свете прожил, не впервые видишь такое чистое небо, леса, долины, – чего б тут о земных красотах раздумывать? Кто ты есть, философ, мудрец? Простой смертный, солдат! Но, между прочим, простому смертному иногда тоже приходят в голову глубокие мысли…
Так вот, привели нас однажды на опушку леса, повалились мы, как подкошенные, на траву. Аппетит разыгрался, совсем, можно сказать, как в мирное время. Да только есть нечего. Надо дождаться, покуда кухни привезут. Вот и лежим мы на траве, как проклятые, портянки сушим, болтаем всякий вздор, курим махру и терпим.
Один солдат рассказывает, какие вареники теща ему когда-то варила да как у него дома корова телилась, другой – как его женили, третий – как сватали, кто-то проезжается по адресу нашего фельдфебеля, а думают все об одном: как бы его пожрать? Кишки ведь марш играют. Кишка, знаете, она слепое создание. Она знать ничего не знает, ей что война, что свадьба – один черт! Ей жрать подавай!..
И, как ни странно, больше всех о жратве бубнил, помнится, молодой тщедушный солдатик, с сухим костлявым лицом с кулачок величиной. И как такого заморыша взяли в солдаты, накажи меня бог, не пойму. Смотреть на него жалко было. Не разберешь: то ли он носит винтовку, то ли винтовка его тащит… И как раз этот парнишка никогда не мог наесться досыта. Уж мы все, бывало, отдавали ему последний кусок, только б он хоть раз наелся. Голодным пришел он в полк от помещика, у которого конюхом служил, клялся, что у своего миленького хозяина ни разу сыт не бывал. И вот в то время, когда он рассказывал нам о своем барине, подошел наш фельдфебель – тоже золотая душа! – и сердито взглянул на солдатика.
– Разговорчики?! Харя противная! У-у… Все еще про жратву болтаешь, армию разлагаешь?.. Солдат должен думать не о жратве, а о царе-батюшке и отечестве… Понял?
– Так точно, ваше благородие! – как ужаленный, вскочил с места солдатик и вытянулся перед фельдфебелем. – Буду думать о царе и отечестве…
– То-то! – сказал фельдфебель, подкручивая усы и не сводя глаз с испуганного солдатика. – Но интересно мне знать, обжора, сколько же котелков борща ты смог бы одолеть?
У парня загорелись глаза. Он облизнул потрескавшиеся губы и рявкнул:
– Целое ведерко!.. Котелков пять, ваше благородие…
– М-да, проверим… – перебил его фельдфебель. – А что будет, если не съешь? Тогда десять раз по морде съезжу да еще четверть казенки мне поставишь… Сожрешь – я поставлю…
На том и поладили. А тут подошли кухни, начался обед. Налили парню пять котелков борща, и он, недолго думая, принялся за работу. Солдаты помоложе надрывались от хохота, глядя, как бедняга орудует ложкой, а старшие солдаты тихо возмущались: совести, мол, нет у фельдфебеля нашего, нашел себе занятие – издеваться над несчастным, голодным человеком… Одно только всех радовало: фельдфебель, этот пес-сквалыга, который, бывало, даст новобранцу двугривенный и велит сбегать в бакалейную лавку купить бутылку водки, круг колбасы, селедку, булку и принести ему полтинник сдачи, – этот зверюга проигрывал пари и должен будет раскошелиться.
В общем, наш солдатик съел борщ. Батюшки-светы, что творилось! Солдаты смеялись над фельдфебелем. Одни требовали, чтоб он сдержал слово, говорили, что солдатика следовало бы за подвиг отпустить домой на побывку к жинке и теще, другие в шутку говорили, что не мешало бы царю прошение написать, чтобы серебряную медаль этакому молодцу нацепили… Весело было! И вдруг откуда ни возьмись появился прапорщик. Узнав, что здесь произошло, почему такой шум, он рассвирепел и пообещал отправить солдатика в штрафную роту. Как это, мол, в такое время, когда империя трещит по всем швам, а царский престол шатается, как подгнивший пень, находятся солдаты, которые всякими глупостями занимаются вместо того, чтобы думать о царе-батюшке и спасении империи…
Наш солдатик дрожал как осиновый лист.
– Что ж, отправляйте в штрафную роту, – наконец промямлил он. – А там кашу будут давать?..
Прапорщик уже совсем вышел из себя и приказал отправить нарушителя порядка на гауптвахту. Только до этого дело не дошло. Пришлось солдатика в лазарет везти. Бедняга думал наесться хоть раз за всю жизнь, за все годы, но на следующий день отвезли его туда, где нет ни штрафных рот, ни гауптвахты и где жратва уже не нужна… Пухом ему земля!..
Закончив свой немудреный рассказ, Шмая-разбойник перевел дыхание, махнул рукой и выплюнул на землю погасший окурок.
Если вы думаете, что все это Шмая-разбойник рассказал одному случайному встречному, вы глубоко заблуждаетесь. Станет он ради одного человека бередить старые раны! Где там! Вокруг нашего доброго кровельщика уже собралась целая толпа. Сбежались солдатки со всех дворов, из ближайших переулков и тупиков. Кто же из них пропустит случай послушать Шмаю? Так уж повелось: с первого дня после возвращения в родное местечко не дают ему и на минуту остаться в одиночестве. Стоит ему появиться на улице, как все бросают работу и бегут к нему послушать, что нового на белом свете. Кто больше его знает, что происходит нынче в мире? Поезда редко пробиваются сюда. Газеты приходят с большими перерывами, и люди пользуются лишь случайными слухами, подчас такими, от которых уши вянут. Старый аптекарь Рафалович, местный мудрец и философ, уже давно не получает газет и ничего не может рассказать людям, приходящим к нему за новостями. Откуда он может их брать? Выдумывать он не умеет, а газеты ползут сюда как на волах. К тому же они безбожно врут!..
Новости, которые привез с собой Шмая-разбойник, тоже давно устарели. Но то, что он теперь рассказывал, интересовало людей не меньше, и они слушали его, затаив дыхание. А солдату только того и надо. Набирайся терпения и разевай рот!
Расправив черные усы, которые завел себе на фронте, сбив фуражку набекрень, он продолжает свой рассказ. К тому же Шмая-разбойник старается рассказывать что-нибудь такое, что не расстроило бы солдаток, а позабавило, развеселило их, – пусть забудут о своих горестях и обидах. И без того у них тяжело на душе.
– Да, то, что я вам сейчас рассказал, дорогие мои соседки, – заговорил он еще оживленнее, – не идет ни в какое сравнение с тем, что случилось с одним нашим ефрейтором по фамилии Жегалин. Передать вам эту историю со всеми подробностями не хватит ни дня ни ночи, а я, как сами видите, тороплюсь к балагуле [1] Хацкелю, крышу ему починить надо. Вы ведь знаете этого грубияна. Он такой гвалт может поднять, что не будешь знать, куда деваться… Но ничего. Коль к слову пришлось, уж расскажу. Пришел к нам в полк этот самый Жегалин с новым пополнением. Длинный, как каланча. Ну и ноги человек отрастил себе – радость для сапожников! Уж как мучились, пока для него смастерили башмаки! А человек тихий, смирный. Приняли мы его в свою компанию, как родного. Только беды с ним набрались, страху, не приведи бог! Траншеи мы себе выкопали на свой рост, и они нас спасали от пуль и осколков. А этот парняга как поднимется во всю свою длину – точно маяк торчит. Австрийцы его сразу заметили и давай палить. Видно, решили, что такой детина может быть только генералом. Не знали, что это простой солдат и нечего на него расходовать столько пуль и снарядов. Пришлось всем гуртом взяться за лопаты и рыть траншеи поглубже, в рост Жегалина. Добрая душа, а что такой долговязый – ничего не поделаешь. То бишь, вина не его, от бога это. Правда, я бы таких, как он, на войну не брал. Мороки много. На фронте солдату лучше покороче ростом быть; он должен держаться поближе к матушке земле, а не торчать на виду, чтоб каждая шальная пуля в него попасть могла.
Ну, одним словом, кое-кто думал, что Жегалин зря будет есть солдатский хлеб, что пользы от него никакой не будет. А вышло не так.
Как-то лежим мы в траншее. Под вечер дело было. Осень, холодный дождь хлещет. Ветер до косточек пробирает. Над головой пули и осколки свистят. Холодно. Цыганский пот тебя прошибает… Что и говорить, весело живется солдатикам! А тут еще пушки обрушились на нас. Но мы ко всему этому уже привыкли, точно к ворчанию жены. Ведь часто так бывает, что забежит она к тебе просить денег на базар, а в карманах у тебя только ветер свищет. Вот и ворчит…
Вдруг слышим над головой странный гул. Смотрим, в небе немецкий аэроплан появился. В последнее время мы наслушались разных историй об этих аэропланах, только еще не приходилось познакомиться с ними поближе. Нельзя сказать, чтобы мы за ними очень скучали, но что поделаешь, если уж прилетел непрошеный гость и кружит над головой. И вот уже летит на нас одна бомба, другая, третья. Вся земля вокруг вздыбилась. Стреляем мы по божьей птичке, а ей хоть бы что! Попробуй достань! Гудит и гудит, нечистая сила. Глядим, а наш Жегалин встает во весь рост. Сдурел человек! Мы его за полы, а он вырывается и бежит к старому дубу, что торчит перед нашими окопами. Вскарабкался на него и смотрит в небо. Мы ему кричим, чтобы слез с дуба, а он и ухом не ведет, прицеливается. Аэроплан спустился ниже. Жегалин расстрелял всю обойму и сбил проклятого. Упала машина рядом с нашей позицией. Наши шутники даже говорили, что Жегалин не стрелял, а просто треснул его прикладом по хвосту… Так нам рост его пригодился…
Вот вам, люди добрые, и тихоня! Вот вам и длиннющая «каланча»…
А шум какой поднялся! Нацепили человеку медаль «За храбрость» и тут же лычки ефрейторские пришили… Чин не ахти какой, но все же почетный солдатский чин. Честно заработанный, своим трудом. Ведь иному барину легче стать на войне генералом, чем простому смертному ефрейтором…
Шмая-разбойник ловко скрутил цигарку и стал высекать из Кремня огонь. Он хотел продолжать свой рассказ, но тут, словно из-под земли, вырос балагула Хацкель, широкоплечий, коренастый человек с багровым конопатым лицом. Его глаза метали молнии. Рыжие волосы были всклокочены, будто он их целую вечность не причесывал; длинная черная рубаха расстегнута, зеленые кутасы кушака путались у него в ногах. Не иначе, как человек только что вернулся из далекой поездки и в дороге, может быть, ось треснула или, чего доброго, лошадь ногу сломала. Он остановился в нескольких шагах от Шмаи и окинул презрительным взглядом толпу солдаток, окруживших кровельщика. Заикаясь сильнее обычного, он обрушил на мастерового ругательства и проклятия, накопленные, казалось, за все те годы, которые балагула просидел на облучке.
– Ну, соседи, как вам нравится этот, с позволения сказать, мастер? – воскликнул Хацкель, буравя кровельщика злыми глазами. – Такой человек не то что на кашу, на воду для каши и то не заработает… Скоро неделя, почитай, собирается ко мне человек крышу чинить и никак до меня не доберется… Остановится где-нибудь на полпути и давай басни рассказывать… Уж я сегодня полсвета успел объездить, и в Жашкове, и в Охримове побывал, а он… Получил у меня задаток, и теперь ему хоть трава не расти… Сегодня вон как парит, не иначе, скоро дождь хлынет как из ведра, и поплыву я вместе со своей хибаркой и бебехами… Ах ты, Шмая-разбойник, нет погибели на твоего батьку!..
Тут уж бабы не выдержали. Они так напустились на Хацкеля, что чуть было не разорвали. Как он смел влезать в разговор? Кто ему позволил оскорблять доброго человека?
Балагула понял, что попал впросак, – с солдатками шутки плохи, – и, не промолвив больше ни слова, отошел в сторонку. Неровен час, набросится такая орава, забудешь, как тебя зовут.
Шмая-разбойник не без удовольствия посмотрел на притихшего балагулу и, подойдя к нему, негромко сказал:
– Ты, Хацкель, можешь ругаться, сколько душе твоей угодно – что с такого возьмешь, – только батьку моего не трогай. Отец мой никому здесь ничего плохого не сделал, честно прожил свои годы, чинил крыши людям, чтобы им тепло было, а когда призвали на фронт родину защищать, он, как многие, пошел и где-то в Порт-Артуре сложил свою голову… Пусть он спокойно лежит в своей могиле… Грешно о нем плохо говорить… Сам видишь, подошли люди, хотят услышать новости. Жалко тебе или я к тебе в рабство попал за гроши, которые ты мне платишь?
Шмая-разбойник старался сохранить спокойствие, однако чувствовалось, что он оскорблен до глубины души. Будь у него в кармане деньги, он при всем честном народе швырнул бы их в лицо Хацкелю: «Вот тебе, грубиян, гори ты вместе со своим задатком!», но старая пословица гласит: «Коль пальцев нет, фиги не покажешь», а в эту минуту наш кровельщик лишен был возможности так поступить.
Несколько приунывший кровельщик больше не произнес ни слова, взял ведро с инструментом и медленно направился к тупику, где под горой у глубокого яра прилепился «дворец» балагулы.
Подойдя к домику, такому низенькому, что козы, спускаясь с кургана, легко перепрыгивали через него, Шмая-разбойник без лестницы взобрался на ветхую крышу, помотал головой, почесал затылок: с чего тут начать, когда все давно сгнило? – но все же ударил деревянным молотком по сорванным листам жести. Пусть успокоится сердитый заказчик, работа, мол, началась.
– Взялся на мою голову этот балагула!.. Чтоб его волчихи съели!.. – улыбаясь, сказал Шмая после долгой паузы. – Видали человека? Слова не дает сказать… И откуда берутся такие?..
Кровельщик огляделся вокруг. Ого, солдатки и сюда пришли! Ему казалось, что он сегодня уже отдохнет от них, что они оставят его в покое. Но куда там! Пристраиваются на завалинках, на камнях, разбросанных по захламленному дворику балагулы, ждут новых историй. А где набрать их? Хоть беги от своих слушательниц на край света! Но, должно быть, и там живут солдатки!
Он их хорошо знает: им рассказывай или какую-нибудь страшную историю, от которой можно всласть повздыхать и даже поплакать, или смешную, про веселые приключения, чтобы можно было вдоволь посмеяться, забыть хоть на короткое время свои горести… Но, как назло, в эту минуту Шмае не приходят в голову ни печальные, ни смешные истории. Тем не менее он не теряется, напрягает память и, ловко прикрепляя ржавые клочья жести к стропилам, продолжает:
– Да, дорогие мои соседки, все, что я вам до сих пор рассказывал, бледнеет перед тем, что случилось со мной в Карпатах. Может быть, слыхали про Карпаты? Ну как вам объяснить? Эх, жаль, что вы не видали Карпат… Гора на горе, а на горе горка. Посмотришь налево – леса, посмотришь направо – леса, назад посмотришь – долина, вперед глянешь – ущелья. Вскинешь голову, а она закружится – такая вокруг красота! Хороши они, эти Карпаты, да только для буржуев и панов, что съезжаются сюда летом на дачу, жир сгонять или желудки промывать, чтобы аппетит хороший был… А для солдат, которые нагружены, как ишаки, и из сил выбиваются, карабкаясь по крутым этим горам, – удовольствие здесь, скажу вам, небольшое… Дорог нет, одни тропинки. К тому же дожди сюда бог посылает щедро. Тогда по тропинкам ни пройти, ни проехать. Ну, словом, зарылись мы с горем пополам в эти Карпаты, а неподалеку от нас – вражеские окопы.
Под вечер дело было. Вижу я, стоит на горе этакий пузатый немец или австриец, не разберешь кто. Смотрит в бинокль, видать, генерал ихний. И держит в руках флажок, верно, приказывает своим горлохватам приготовиться к бою. Как махнет флажком, они, стало быть, должны начать стрельбу из пушек и пойти на нас в атаку, выбить нас из наших нор… Без его, значит, команды никто с места двинуться не смеет. И нахальный же генерал! Стоит и смотрит в нашу сторону, мол, видали, какой я герой, не боюсь вас…
Но тут ему потребовалось, извините, сбегать туда, куда и сам царь пешком ходит… Вот и говорю я нашему ротному, который без году неделя на войне и еще пороху не нюхал:
– Смотрите, ваше благородие, эти гады что-то замышляют… Надо бы нам их перехитрить…
Взглянул на меня офицер сердито и говорит:
– Твое дело солдатское… Поставили тебя вести наблюдение за вражескими окопами, исполняй!.. И не суй свой нос, куда тебе не полагается… Кто здесь главный: я или ты?.. – сказал и в грудь себя ударил. – На гауптвахту захотел?
Рассердился я и тоже в грудь себя тычу, а там «георгий» висит, кровью заслуженный. Пусть, думаю, этот гимназистик, у которого мамино молоко на губах не обсохло, не воображает, что он пуп земли.
– Осел тоже упрям, да что толку от его упрямства? – осторожно так намекаю я ему.
Тут он уже окончательно вышел из себя.
– Молчать! Не пререкаться с начальством! – крикнул он не своим голосом. – У солдат я советов не спрашиваю!..
Повернулся я, щелкнул каблуками и пошел на свое место.
Только вижу, стал ротный прислушиваться к тем кустам, куда генерал подался, потом поглядывать в бинокль и заговорил уже совсем по-другому. Мол, не сердись, солдатик, погорячился я. Выделил он мне трех ребят, и поползли мы на брюхе к тем кустам. Надо было подкрасться туда тихонько, незаметно.
И вот мы прижимаемся к скалам и крадемся к толстяку. Подкрались совсем близко. Видим пузатого, и каску его видим, и шашку, а он нас – дудки! Подползли мы к нему, и я как тресну его прикладом по толстому затылку – он и пикнуть не успел. Сунул я ему кляп в рот, чтоб не гавкал, а тут подоспели товарищи. Связали и поволокли мы этого дьявола к своим окопам.
Вы, конечно, спросите, почему немцы не начали по нас стрелять? Но такие праздные вопросы могут задавать лишь те, кто немца не знает. Кайзеровский солдат, понимаете ли, это, голубушки мои, такая механизма, что никаких фокусов не признает. Немец, он только приказ понимает. Прикажут – он и сделает, что надо, и стрелять будет, и убивать… А ежели приказа нет – с места не сдвинется. Раз генерал не велел стрелять, пока он флажком не махнет, – стало быть, не стреляют. А что генерала у них из-под носа уволокли, это их не касается…
Наши ребята поднялись из окопов. Штыки наперевес: «Ура! За отечество!» – и пошли, пошли в атаку… Не выдержали немцы, засверкали пятками. Захватили мы тогда много пленных, пушки, добро всякое.
Ох, что тогда творилось! Мне и моим ребятам медали на грудь повесили. А мне еще ефрейторские лычки на погоны пришили. Такие нам почести оказали, как самому царю, подарки выдали, шнапсом напоили, домой на побывку отпустили… А немца чуть удар не хватил! Потом говорили, что сам кайзер Вильгельм умолял нашего Николку, чтобы ему хоть издали показали тех солдат, которые так ловко взяли в плен заслуженного боевого генерала…
Шмая-разбойник вытер рукавом лоб, жестом попросил солдаток подать ему упавший на землю молоток и, немного помолчав, продолжал:
– Однако, мои милые, что тут долго говорить на такой жаре! Да и времени нет. Нужно же какую-то копейку заработать на пропитание семейства…
– Ничего, Шмая-разбойник! – прервала его одна из солдаток. – Давай еще! Работа – не волк… Нет теперь кровельщиков у нас в местечке. Ты один. Хотят, чтобы на голову не текло, пусть ждут… К тому же ты такой мастер, что, когда говоришь, кажется, и работа у тебя лучше спорится…
– Я ведь никуда не собираюсь уезжать… Я вам еще многое расскажу… Может, отложим на другой раз?
– Нечего откладывать! Давай еще…
Шмая-разбойник пожал плечами, но, видя, что от них не отделаться, тяжело вздохнул:
– Да, паршивая вещь война! Между нами говоря, руки и ноги выломал бы тем, кто войны придумывает. Эх, нашлись бы на земле мудрецы и завели бы такой порядок: сидят, скажем, во дворцах цари, императоры, кайзеры, распутины и всякие там пуришкевичи. Хочется им, скажем, воевать. Что ж, пускай воюют на здоровье! Выведи их в Пинские болота, вырой им окопы, дай им винтовки в руки. Пускай ползают на брюхе по болотам, лежат в окопах под пулями, осколками, грызут кору, камни и радуются! Так нет же! Они, проклятые, сидят во дворцах, пьют, жрут, распутничают, а народ на бойню гонят. Кончится война: победил царь или потерпел поражение, – смотришь, у него вся грудь в крестах, а в груди у бедного солдата – осколки, болячки, а то и холмик над ним… Перед тем как в атаку посылают, обещают тебе всяческие блага: вот победим врага, тогда уж настанет порядок, рай на земле! А кончилась война – и все идет по-старому! Снова гни спину на буржуя, лезь в ярмо! Так и живем… Война, знаете, хуже всякой напасти, хуже чумы, наводнения, в сто раз хуже землетрясения… При землетрясении, по крайней мере, спрашивать не с кого. Говорят, это от бога, а поди спрашивай с него, когда он высоко и никто еще к нему не добрался, никто с ним не потолковал по душам – все некогда ему! Считается, что к войнам он касательства не имеет, не видит, мол, из-за облаков, как на земле паны дерутся, а у мужиков чубы трещат… Войны сами люди придумывают! Да какого это черта люди? Негодяи, подлецы, мерзавцы! Им наплевать на то, что народ кровью истекает! Им лишь бы мошну свою потуже набить… А неразберихи сколько! Присылают патроны, а они не стреляют, порох отсырел, снаряды ни к черту не годятся – фасон не тот, не к нашим пушкам. Приходит вагон с пулеметами, которых ждут, как манны небесной, а распечатают его – там, оказывается, пулеметов и в помине нет, одни иконы… Каша, что повар приготовил, – с песком, мясо – с червями, а рыба за версту воняет. Это в тылу интендантство и всякие там благодетели-патриоты стараются для бедного солдатика… Морозы грянули, а начальство и не думает, что мы в окопах от холода околеваем. Теплого белья нет, портянок не выдают, бани нет, вши заедают. В окопах тиф, чахотка мучают, а жинка и дети дома чахотку приобрели за это время. Весело в общем! А ты, солдатик, изволь служить царю-батюшке, изволь лежать под дождем, под снегом день и ночь в своей норе, живой – в могиле. Хочешь не хочешь, становишься здесь мудрецом, философом, начинаешь думать, размышлять. Хоть солдат и не имеет права думать, – за него думает начальство!







