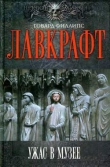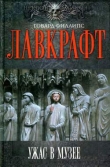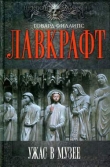Текст книги "Weird-реализм: Лавкрафт и философия"
Автор книги: Грэм Харман
Жанр:
Философия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 17 страниц)
Я хочу показать, что отрывок, вынесенный в начало подраздела, очевидно, задуман как серия пугающих аллюзий, но на деле не справляется со своей функцией. Говорить о «неясных слухах о пластичности», «временной невидимости» и том, как «кое-кто приписывал» Старцам «способность вызывать и направлять движение ураганов» – значит таинственно намекать на то, что мы уже увидели воочию в «Хребтах безумия». С тем же успехом он мог бы написать: «Неведомый циклопический город Чикаго, который почти не поддается описанию». Сложно внушить ужас перед расой существ, против которой уже порекомендовали хорошую защитную меру – завалить входы.
96. Профессор Дайер был потрясен
«Профессор Дайер был потрясен неисчислимым возрастом руин, а Фриборну удалось найти следы некой символики, отдаленно напоминавшей мотивы древнейших папуасских и полинезийских легенд. Судя по состоянию блоков и их разбросанности, здесь поработало не только головокружительно долгое время, но и разрушительные силы природы, в том числе грандиозные тектонические катаклизмы» (ST 757; ГВ 481 – пер. изм.).
Это одно из мест, где критика в духе Уилсона оказывается релевантной. Не то, чтобы слова вроде «потрясен», «неисчислимый», «отдаленно», «древнейших», «головокружительно», «разрушительные силы природы» были запрещены в хорошей прозе. Мы уже видели, как Лавкрафт мастерски использует их, чтобы добавить остроты уже произведенному эффекту. Но здесь на эти слова ложится избыточная нагрузка, и если их убрать, останется немного. Фраза о Фриборне, обнаружившем «следы символики» неплоха, она создает хорошую структуру двойной аллюзии. Но попытка соотнести их (причем, «отдаленно») с папуасскими и полинезийскими легендами – уже исчерпавший себя трюк, который раньше производил гораздо больший эффект. То же самое можно сказать и о «головокружительно долгом времени» и «разрушительных силах природы», которые ранее соотносились с более убедительными объектами, чем разбросанные блоки. Лавкрафт здесь будто бы выздоравливает после болезни, у него не хватает воздуха в легких. Самая интересная часть отрывка – «профессор Дайер был потрясен» – вдыхает немного жизни в историю, напоминая нам о гораздо лучше удавшихся «Хребтах безумия», где у Дайера были по-настоящему убедительные причины для потрясения. Тем не менее умножающиеся попытки Лавкрафта задним числом связать все незаконченные линии прошлых повестей и рассказов вызывают тревогу. Известно, что для голливудских франшиз это всегда будет плохим предзнаменованием. Например, когда сценарист считает своим долгом показать нам, что Джокер когда-то упал в чан с химикатами, или когда нам рассказывают о ранних днях семьи Корлеоне в продолжениях «Крестного отца», или когда мы знакомимся с молодым Оуэном и его «девушкой» Беру в одном из жалких приквелов к «Звездным войнам». Лавкрафт еще не пал так низко, но его желание связать все истории сотрудников Мискатоникского университета напоминает отчаянную попытку привести в порядок выдохшийся сериал; Лавкрафт, как говорится, совершает «прыжок через акулу»[98].
97. Сходство каждой линии, изгиба и завитка
«Но как объяснить, что эта таинственная, забытая иконография демонстрирует совершенное сходство каждой линии, каждого ее изгиба и завитка, высеченного на стенах подземного здания, с соответствующими изображениями из вот уже многие годы преследовавших меня снов?» (ST 766; ГВ 493 – пер. изм.).
Отрывок не вызывает большого интереса со стилистической точки зрения, впрочем, такая задача перед ним и не стоит. «Таинственная» и «забытая» иконография – слабая форма аллюзии, уступающая обычному для Лавкрафта высокому стандарту; «изгибы и завитки» еще менее выразительны. Задача этого отрывка не стилистическая, а сюжетная – автор подготавливает Пизли к осознанию того, что совпадение между реальностью и сохранившимися в его памяти снами существует просто потому, что Пизли не спал. Здесь, как это часто бывает у Лавкрафта, читатель может догадаться каково истинное положение дел задолго до Пизли. Но вместо того, чтобы создавать комический эффект – как в случае с рассказчиком в Инсмуте, который игнорирует ужасающие песнопения Старого Зейдока, называя их совершеннейшим бредом, – здесь получается только утомительно-медленное приближение к кульминации, которую мы уже давно предвосхитили.
98. С’гг’ха из Антарктики
«Найду ли я вновь тот дом, где меня некогда обучали письму, или ту башню, на стенах которой С’гг’ха, плененный разум из числа хищных звездоголовых хозяев Антарктики, вырезал свои ни на что не похожие письмена?» (ST 767; ГВ 494-495).
Описание юриспруденции и письменности Великой Расы, а также их боевой тактики с заваливанием входов – все это очень плохо. Но это еще не предел: нового уровня падения Лавкрафт достигает, когда сообщает имя одного из звездоголовых существ из Антарктиды. Хорошо, что он не сообщает нам день рождения С’гг’ха (возможно, б октября?), его любимый цвет (синий?) и несколько цитат из его дневника. Необходимая дистанция, отделяющая нас от Старцев, потеряна. У них есть не только история с подъемами и спадами, слишком похожая на нашу, но и имена – мы могли бы обращаться к ним по имени во время разговора. Быть может, С’гг’ха, звездоголовое растение-хищник из Антарктики, даже согласится на дружеское прозвище, когда мы познакомимся с ним поближе. Если бы авторство этой повести не было установлено достоверно, я бы заподозрил в нем хорошую подделку. Лавкрафт явно теряет свое превосходство.
99. Сбалансированные математическим гением
«Мощные гранитные блоки, которые были тщательно сбалансированы неким математическим гением и скреплены сверхпрочным цементом, и сейчас, спустя невероятное количество лет, эти стены и своды сохраняли раз и навсегда приданную им форму» (ST 771; ГВ 499 – пер. изм).
В этом отрывке к нам ненадолго возвращается стилистика великого писателя. Идея блоков, сбалансированных математическим гением, хороша. Она отлично передает ощущение непреодолимого препятствия и создает хорошую аллюзию, ведь мы не знаем, каким образом этот гений смог «сбалансировать» блоки, чтобы достичь желаемой цели. «Сверхпрочный цемент» замечательно совмещает мир аллюзий с миром инженерного дела. И наконец, отрывок продолжает центральную для Лавкрафта тему взаимосвязи между новейшими достижениями математики и естественных наук с потусторонними существами, которые были открыты оккультистами и безумцами, скитающимися по бескрайним арабским пустыням.
100. Дремлющие, рудиментарные органы чувств
«Во мне ожили какие-то дремлющие, рудиментарные органы чувств, с помощью которых я мог заглянуть в ямы и бездны мира полуматериальных созданий, чьи базальтовые города возвышались когда-то на берегах доисторического океана» (ST 781; ГВ 511 – пер. изм.).
После того, как в произведении обнаружилось столько недочетов, приятно завершать разбор мощным отрывком. Этот мастерски выполненный пассаж располагается через несколько страниц после разочаровавшей меня развязки повести. Представление о том, что у нас есть дремлющие, рудиментарные органы чувств, недоступные в повседневной жизни, – мощная лавкрафтовская тема, которая разворачивается и в тех случаях, когда автор приписывает острую интуицию собакам, лошадям и волкам. Но хотя большинство обычных трюков Лавкрафта в восьмом из старших текстов кажутся бледным подражанием прошлым образцам, короткая отсылка к дремлющим рудиментарным органам чувств почти так же хороша, как аналоги в более ранних рассказах.
Эти таинственные органы чувств оживают внутри Пизли. С их помощью он может «заглянуть» в «ямы и бездны» – конъюнкция создает интересную смесь конкретного ужаса (опасные ямы физического мира) и более абстрактного ощущения смутной угрозы (бездны, которые могут быть метафизическими, космологическими или духовными). Более того, эти ямы и бездны ведут в «базальтовые города», которые «возвышались когда-то на берегах доисторического океана» – этот конкретный образ позволяет нам напоследок ощутить вкус сущностно романтического воображения Лавкрафта.
Часть III
WEIRD-РЕАЛИЗМ
Собирая воедино
Задача этой заключительной части книги состоит в том, чтобы связать воедино различные темы, намеченные в первых двух частях. В первой части обозначены философские моменты, прослеживающиеся в творчестве Лавкрафта, во второй – в ходе рассмотрения ста отрывков – даются разноплановые примеры этих моментов, показывающих его сильные (и иногда слабые) стороны как стилиста. Насколько мне известно, никто еще не проводил исследований стиля Лавкрафта. Его творчество всегда рассматривали с точки зрения содержания, как литературу в жанре ужаса, сюжетные ходы которой можно обобщить, а затем выделить из них представление о мировоззрении автора. Проблема такого подхода заключается в слишком буквальном понимании функции автора, который представляется как человек, по случайному стечению обстоятельств выражающий свои космологические воззрения в произведениях на стыке жанров ужаса и научной фантастики. В результате автора можно, с одной стороны, подвергнуть унизительным обвинениям в том, что он пишет подростковое чтиво, как это делает Эдмунд Уилсон и прочие, а с другой – осыпать его только отчасти заслуженными похвалами, как это делают те, кому проза Лавкрафта по каким-то причинам скорее нравится, чем нет. В таком случае мы получаем Лавкрафта, который мог бы написать банальные и неубедительные строки об идоле Ктулху – «осьминог, дракон и человек в одном лице». Так мы создаем своего рода «Упрощенного Лавкрафта» (Lovecraft Made Easy), нечто в духе ернического парафраза Жижеком строки Гёльдерлина «Wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende» [«Но там, где угроза, растет и спаситель» – нем.] – «когда у тебя большие проблемы, не сдавайся слишком быстро, внимательно оглядись по сторонами, решение может быть у тебя перед глазами»[99]. Такие переложения совершенно пусты по тем же самым причинам, которые Жижек выделяет в своем великолепном размышлении о неотъемлемой глупости, содержащейся во всех расхожих мудростях. Помимо прочего, «Упрощенный Гёльдерлин» легко опровергается расхожей мудростью с противоположным смыслом: «Когда у тебя большие проблемы, абсурдно искать простые решения. Нужно крепко задуматься, ведь только дурак верит, что сложные проблемы решаются легко». В результате у нас остается только противостояние банальностей.
С этой проблемой сталкивается не только литература, поскольку к равно катастрофическим последствиям приводит слишком буквальное понимание философии, превращающее ее в вопрос о верных и неверных догматических положениях. Например, мы можем представить себе такой отрывок из предисловия к книге «Упрощенный Ницше»:
Ницше считал, что все во Вселенной обладает волей к власти, через нее все существующее стремится навязать свою точку зрения чему-то другому. Он также верил в вечное повторение того, что уже произошло, бесконечное количество раз и без остановки; он считал эту мысль настолько ужасной, что каждый, кто может ее перенести, получает у него эксклюзивный статус сверхчеловека, способного породить человека нового типа, который будет превосходить нас настолько же, насколько мы превосходим обезьяну. Здесь можно усмотреть источник крайних антидемократических политических взглядов Ницше[100].
Не будучи в строгом смысле неверным, такое пресное изложение говорит о Ницше гораздо меньше, чем мог бы сказать какой-нибудь другой мыслитель, отстаивающий противоположную доктрину, но стилистически более близкий к Ницше. Вполне возможно представить себе альтернативного Ницше, который бы критиковал волю к власти и высмеивал вечное возвращение, предпочитая ему преходящую уникальность каждого события, выдвигая бунтующие демократические массы, а не утонченных аристократов на роль почвы, из которой произрастает подлинное величие. Этот анти-Ницше гораздо больше походил бы на реального Ницше, чем его буквализированный вариант. Все обобщающие исследования подвергаются той же опасности, что и однобокое прочтение Лавкрафта Уилсоном. Я считаю это одним из непосредственных результатов кантовского переворота всех догматических утверждений, произведенного непознаваемой вещью в себе. Две расхожих мудрости у Жижека показывают нам, как антиномии Канта проявляются в любой паре противоположных утверждений, а не только в тех космологических теориях, которые Кант по стечению обстоятельств поместил друг подле друга в своем opus magnum. И все же глупый текст не обязательно бесполезен, ведь если мы назовем Ницше философом воли к власти и вечного возвращения, это не будет ни неточностью, ни бессмыслицей. Это позволяет сформулировать проблему, вокруг которой разворачивается наш диспут о буквализме. Как бы то ни было, наша убежденность в том, что существует наименьшая материальная частица, не то же самое, что убежденность в бесконечной делимости материи. Кант считает, что эти догмы вэаимообратимы лишь в том смысле, что они в равной степени не поддаются верификации, а не в том, что они тождественны друг другу во всех смыслах.
Каковы наиболее важные темы, возникшие в ходе нашего обсуждения Лавкрафта? Мы видели, что Лавкрафт – это не просто бульварный писатель, он дистанцируется от низкопробной литературы при помощи двух разрывов, которые парализуют силы буквального языка. Во второй части мы привели многочисленные примеры, в которых Лавкрафт только намекает на реальности, не поддающиеся описанию. Также были обнаружены примеры, обозначенные нами как разновидности литературного кубизма (близкого по духу философии Гуссерля); в них нет аллюзий на вещи, превосходящие возможности языка. В этих случаях многочисленные странные или пугающие качества осязаемой вещи нагромождаются в таком количестве, что все эти грани уже невозможно аккуратно, без зазоров, соединить в единый объект; так у читателя создается представление о совершенно имманентном объекте, который тем не менее отделен от любой совокупности качеств. И кроме того, у нас есть немногочисленные случаи, в которых и объект, и его качества сопротивляются любому описанию, например, когда перед нами предстает «слепой бог-идиот Азатот, Вседержитель Всего, окруженный верной ордой безумных безликих танцоров и убаюканный тонким монотонным писком демонической флейты в лапах безымянного существа» (WH 664; ВД 199 – пер. изм.). Безусловно, этот отрывок можно прочитать буквально: бог по имени Азатот действительно окружен ордой танцоров и, кроме того, слышны звуки флейты. Но, учитывая многочисленные ограничения, которые мешают буквальному прочтению этого пассажа (например, утверждение Лавкрафта в «Шепчущем из тьмы» [WD 464; ШТ 365] о том, что имя Азатот лишь милосердно скрывает за собой «чудовищный ядерный хаос»), я считаю, что, по-видимому, вещественные свойства, описанные в этой странной сцене, такие же намеки, как и хаос, который скрывается за именем Азатот. И наконец, у Лавкрафта есть случаи (обычно они связаны с провалом научных испытаний), когда хорошо известный и непосредственно доступный объект вроде метеорита или металлического узора обладает вполне реальными, но немыслимыми качествами. Эти четыре базовых напряжения в творчестве Лавкрафта точно соответствуют четырем напряжениям, описанным в философской дисциплине под названием «онтография»[101]. В этом отношении Лавкрафт оказывается писателем, специально предназначенным для объектно-ориентрованной философии, как Гёльдерлин – для философии Хайдеггера, а Малларме – для философии Деррида или Мейясу.
Такая четверичная онтография – ключевой, но не единственный аспект творчества Лавкрафта, связывающий его с объектно-ориентированной философией. Помимо этого, имеет значение момент тождества и различия комедии и трагедии. Во второй части мы неоднократно встречались с примерами, когда рассказчики Лавкрафта создают комедийный эффект в самых ужасающих сценах. Мы можем вспомнить тему, которую Сократ затрагивает в конце «Пира» Платона, и подумать над тем, как она относится к другим темам, обсуждаемым в книге. При этом многие из отрывков, приведенных во второй части, включают элементы стилистики Лавкрафта, не относящиеся к созданию аллюзий или кубистических эффектов, поэтому необходимо внимательно рассмотреть их функции и их возможную связь с «онтографией» Лавкрафта. Также следует добавить, что хотя сила внушения Лавкрафта повышает его писательскую действенность в жанре ужасов, это внушение может применяться в контекстах, где нет ничего ужасного. Поэтому нужно определить, какую роль играет тот факт, что автор работает в этом жанре, а не в каком-нибудь другом. И наконец, мы знаем, что даже в тех случаях, когда Лавкрафт вводит в повествование разрывы между объектами и качествами, он остается писателем и никоим образом не превращает свое произведение в метафизический трактат. Несмотря на то, что творчество Лавкрафта имеет большее значение для философии, чем могут предположить многие читатели, будет очевидным преувеличением называть его философом и очевидным абсурдом – одним из величайших философов XX века (хотя я бы рискнул назвать его одним из величайших писателей). В завершающей части книги мы должны связать все эти темы воедино, насколько это возможно.
Сплавление
Сначала следует более внимательно рассмотреть «онтографию» Лавкрафта, способ описания взаимодействия между объектами и их качествами. Это центральный момент как литературного стиля Лавкрафта, так и объектно-ориентированной философии. Мы не раз видели классический прием, когда сущности (entity) приписываются какие-нибудь свойства и в то же время нам сообщают, что она сопротивляется описанию посредством ее же свойств и наибольшее, что мы можем извлечь из этих характеристик, – безнадежно расплывчатое подобие. Самый яркий пример аллюзии такого рода – это, пожалуй, описание идола Ктулху: «Если я скажу, что в моем воображении, тоже несколько экстравагантном, возникли одновременно образы осьминога, дракона и пародии на человека, то, мне кажется, смогу передать дух этого создания. ...Именно общее впечатление от этой фигуры делало ее пугающе ужасной» (СС 169; ЗК 57). «Дух этого создания» и даже «общее впечатление» можно понимать как аллюзии на реальный объект, поскольку он никогда не оформляется в ощутимый чувственный объект, как это могло быть в случае, когда Ктулху оказался бы просто огромным осьминогом. Ситуация усугубляется тем, что в рассказе физически присутствует Ктулху, которого изображает идол. Чтобы не усложнять наш анализ сверх меры, давайте просто забудем о физическом Ктулху, который преследует корабль в Тихом океане: когда мы говорим «реальный объект», мы имеем в виду только «дух» или «общее впечатление» идола вне зависимости от их взаимосвязи с монстром. Мы называем произведение искусства или объект культа «реальным» объектом в том смысле, что его невозможно исчерпать совокупностью конкретно-определенных восприятий или пропозиций: в какой-то степени он всегда сопротивляется любому восприятию и любому анализу и никогда не исчерпывается ими. В этом отношении Ктулху ничем не отличается от молотка, стула, атома или человека.
Во всех этих случаях невозможен прямой контакт с реальным объектом. Например, в инструмент-анализе Хайдеггера сломанный молоток не выскакивает внезапно из темноты в сферу прямого доступа. Сломанный, или явленный, молоток скрывает в себе непознанные глубины даже тогда, когда лежит у нас перед глазами, и это очевидно для рассказчика Лавкрафта, который описывает идол Ктулху. Реальный объект ни при каких обстоятельствах не дан непосредственно. В этом отношении мы можем даже согласиться с аргументом идеалистов о том, что мысль о вещах самих по себе остается мыслью и, следовательно, не выходит за пределы, установленные законами мышления. Мы только не согласны с тем, что невозможен непрямой доступ к вещам самим по себе, поскольку его как раз и обеспечивает аллюзия, дающая указание на отсутствующую вещь.
Непрямой доступ обеспечивается тем, что в чувственном мире возникают искажения, производимые скрытым объектом: точно так же мы заключаем о существовании черной дыры по траекториям света и газов, окружающих ее центр. Обратите внимание, рассказчик, говоря о неуловимости идола, не просто прибегает к формулировкам вроде «никакая попытка не могла бы передать дух этого создания, поскольку именно общее впечатление от этой фигуры делало ее пугающе ужасной». В таком случае не будет даже неудачной попытки описания. Получается пустая, слишком аллюзивная характеристика, совершенно закрытая от нас. Вместо этого Лавкрафт использует известные нам физические качества дракона, осьминога и гуманоида как грубые, приблизительные указатели. Но, упоминая о «духе» и «общих впечатлениях», он также указывает на скрытую в недоступных глубинах единицу, которая каким-то образом подчиняет себе этот гротескный набор качеств. Иными словами, описание Ктулху – это метафора, в которой один из членов отношения устранен. В «Партизанской метафизике»[102] я анализировал маловыразительную, но чрезвычайно полезную метафору Макса Блэка «человек (man) — это волк» (гендерно-нейтральный язык еще не был нормой в начале 1960-х годов)[103]. Смысл этой метафоры не в том, что люди в буквальном смысле – стая жестоких хищников, находящихся под влиянием фаз луны. Здесь мы просто-напросто не можем, точно определить отношения между человеком и волком. Человек из этой метафоры недоступен нам, его нельзя отождествлять с людьми, с которыми мы сталкиваемся в самых различных обстоятельствах. Мы имеем дело с человеком, находящимся глубже любого возможного доступа, теперь он оказывается в окружении странных неописуемых волчьих качеств. Обратная метафора «волк – это человек» сохраняет силу. В этом случае реальный объект «волк» скрывается в глубинах, и вокруг него по неопределенным орбитам вращаются смутные человеческие качества. Но в обоих случаях подлежащий объект не будет совсем неведомым, поскольку мы в общем и целом знакомы с онтологическим стилем людей и волков. Пример с идолом немного отличается от вышеописанного, поскольку чудовище Ктулху никоим образом не входило в сферу повседневных и расхожих банальностей нашего общества до того момента, пока Лавкрафт не вывел его в своих произведениях. Таким образом, описание идола Ктулху можно грубо перефразировать как «X – это волк». Или, точнее, «X – это осьминого-драконо-гуманоид». Известно, что такая структура часто встречается у Лавкрафта. Обыкновенные метафоры у него попадаются реже, чем у других писателей. Он предпочитает структуры, в которых в качестве одного из терминов намеренно избирается совершенно неизвестный предмет, неопределимый с точки зрения повседневных социальных установок (в противоположность «человек – это волк»); объект определяется только гравитационным эффектом искривления качеств, которые оказываются единственными свидетельствами его существования. В этом отношении «черная дыра» – хороший технический термин для таких аллюзивных, изъятых объектов – излюбленных созданий Лавкрафта. В терминах онтографии это напряжение называется «пространством»[104], поскольку объекты, удаленные в пространстве, оказываются как абсолютно отдаленными от нас (раз они не слиты с нами), так и близкими к нам (раз их отдаленность дана непосредственно).
Другое напряжение называется «сущность» (essence)[105], оно не позволяет получить прямой доступ ни к объекту, ни к его качествам. У Лавкрафта, как и у других авторов, такие описательные структуры встречаются редко, поскольку трудно высказываться неопределенно сразу в двух смыслах. Но я утверждаю, что одним из примеров будет вышеупомянутый слепой бог-идиот Азатот, окруженный верной ордой безликих танцоров. Если мы не будем интерпретировать этот пассаж буквально – вещественная сущность по имени Азатот окружена танцорами и звуками флейты, – тогда обе составляющих описания следует понимать как аллюзии. Мы уже знаем, что имя Азатот в «Некрономиконе» лишь «милосердно скрывает» таящийся в глубине «ядерный хаос». Поскольку трудно представить себе ядерный хаос в окружении звуков флейты и танцоров (путь даже и безликих), их тоже следует считать отсылками к неким глубоким и не вполне осязаемым качествам.
То, что объединяет пространство и сущность – сплавление — вынесено в заголовок этого раздела. В случае «человек – это волк» и любых других метафор качества сплавляются с объектом, который обычно не ассоциируется с ними. В результате возникает реальный объект, просто потому, что его слишком сложно четко представить себе в виде чувственного объекта. Нечто подобное происходит и с сущностью: попытки представить себе Азатота с танцорами и звуками флейты – отличная проверка для способности воображения. Но, безусловно, такое сплавление предполагает расщепление, поскольку мы не берем эти качества сами по себе, из воздуха. Сначала качества волка были связаны с волком, а качества осьминога – с осьминогом, и только потом они сплавляются с инородным телом.
Расщепление
Перейдем к очевидной терминологической противоположности – расщеплению. В отличие от сплавления, которое соединяет качества в ненадежных отношениях с недоступным реальным объектом, расщепление разрывает обычное отношение между доступной нам чувственной вещью и ее доступными чувственными качествами. Я описывал это как «кубистический» разлом между объектами и качествами, поскольку в этом случае, как в живописи кубистов, гитара, гора или почтальон разбиваются на множество поверхностей, каждая из которых не совместима с любой возможной их совокупностью. Классический пример – описание антарктического города профессором Дайером: «На усеченных конусах, то ступенчатых, то желобчатых, громоздились высокие цилиндрические столбы, иные из которых имели луковичный контур и многие венчались истонченными зазубренными дисками; нечто вроде множества плит – где прямоугольных, где круглых, где пятиконечных звездчатых – складывались, большая поверх меньшей, в странные, расширявшиеся снизу вверх конструкции» (ММ 508-509; ХБ 492-493 – пер. изм.). Чтобы разрушить кубистический эффект этого отрывка, достаточно упростить его таким образом: «Город состоял в основном из усеченных конусов, некоторые из них были ступенчатыми, а другие – желобчатыми». Сведите кубистический портрет города к одной-двум точкам зрения, и вы получите традиционное академическое полотно. То же верно и для стиля Лавкрафта. Как правило, объект не отличается от совокупности качеств, которые он нам предлагает – это зерно истины в теории «пучков» Юма. Для надрыва связи между объектами и качествами требуется некоторое усилие, и очевидным способом его осуществления будет умножение качеств до предела, за которым то, что их объединяет, предстает как перегруженная независимая сила, залегающая глубоко в их общем основании, как прочный мост, который трескается и скрежещет под весом парада с десятками тысяч платформ. Такую же технику мы находим не только на картинах Пикассо и Брака, но и в философии Гуссерля (кстати говоря, некоторые работы Брака представляют почти полное визуальное воплощение архитектурных описаний Лавкрафта). Гуссерль предлагает нам умножать наброски предмета в мышлении для того, чтобы избавиться от большинства его несущественных свойств и получить доступ к объекту как таковому.
Важно отметить, что, несмотря на всю свою необычность, город в Антарктиде имеет иную литературную структуру, чем идол Ктулху (несколько лет назад я так не думал). Лавкрафт не считает, что архитектурное описание «не передаст дух» или что «общее впечатление» города ужасают больше, чем любое из отдельных зданий. Вместо этого антарктический город целиком размещается перед нами; он только лишь поражает нас своей странностью, совмещением огромного списка необычных архитектурных свойств. Таким образом, мы имеем дело с чувственной версией города, полностью доступной для нас и ни в коей мере не изъятой, замкнутой в сомнительные отношения со странными качествами, которые очень сложно объединить. Вместо «духа» мы обнаруживаем тело вещи, но это тело покрыто разломами. В ходе расщепления качества предмета теряют целостность и впервые предстают перед нами как нечто частично независимое. Эта структура тоже часто встречается у Лавкрафта. Я называю ее «временем»[106], поскольку наш опыт времени предполагает колебания многочисленных качеств вокруг более или менее устойчивых (но не вечных) объектов, которые сохраняют свое тождество, несмотря на эти колебания.
Помимо расщепления между чувственными объектами и их чувственными качествами, у Лавкрафта встречаются и случаи напряжения между чувственными объектами и их скрытыми в глубинах реальными качествами. Я считаю, что это происходит исключительно в тех случаях, когда научное исследование не может выявить истинную природу необычного объекта. Например, мы уже обсуждали следующий отрывок: «Профессор Эллери установил, что в необычном сплаве содержатся платина, железо, теллур и еще по меньшей мере три неизвестных вещества с огромным атомным весом, идентифицировать которые современная наука совершенно не в состоянии. Они не просто отличаются от всех известных элементов, но и вообще не укладываются в Периодическую таблицу – даже в еще оставшиеся в ней пустые клетки» (WH 677; ВД 265). В философии Гуссерля не все качества считаются мимолетными случайными признаками, плавающими по поверхности вещей и изменяющимися с течением времени. Некоторые из качеств – сущностные, без них вещь не была бы тем, чем она является для нас; их можно обнаружить с помощью «эйдетической редукции». Вот почему я часто называю эйдосом[107] напряжение между доступными чувственными объектами и недоступными качествами, которые играют в них важную структурную роль. У Лавкрафта это всегда связано с провалом научного исследования и невысказанной предпосылкой о том, что успешное исследование позволило бы выявить реальные качества объекта. Гуссерль согласен с этим: он считает возможным исчерпывающее познание реальных качеств. Он также признает, что они никогда не даны в чувственном опыте, но могут быть открыты только разумом; тем самым Гуссерль допускает, что они не относятся к тому же порядку, что и чувственные качества.
Оба этих напряжения, которые я называю временем и эйдосом – разновидности расщепления. В отличие от двух вариантов сплавления, описанных в предыдущем разделе, они не соединяют объекты с качествами, которые им обычно не свойственны. Напротив, они разделяют привычные повседневные связи между объектами и их качествами. Но выше мы видели, что всякое сплавление предполагает расщепление, и здесь аналогичным образом мы обнаруживаем, что всякое расщепление приводит к новому сплавлению. Качества, оторванные от подлежащего объекта, теперь могут образовать новые объекты: усеченные конусы перестают быть частью общего антарктического окружения, превращаясь в самостоятельные и полноправные объекты, более не подчиненные главенствующей атмосфере большего объекта – города.