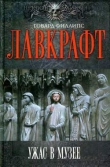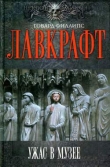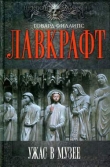Текст книги "Weird-реализм: Лавкрафт и философия"
Автор книги: Грэм Харман
Жанр:
Философия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 17 страниц)
Теперь нам остается разобрать следующую фразу: «...Чудовищный ядерный хаос по ту сторону угловатого пространства, которое в „Некрономиконе“ с милосердной уклончивостью именуется Азатотом». Здесь Лавкрафт демонстрирует поистине волшебное владение стилем, наслаивая не две, не три, а четыре аллюзии в одном предложении. Мы можем перечислить их по порядку:
1. Идея, что устрашающий, запретный «Некрономикон» безумного араба Абдула Альхазреда может служить проводником милосердия, сама по себе тревожит. Какой же была бы в таком случае немилосердная книга? Так или иначе, нас просят поверить, что эта зловредная вымышленная книга – оставленный Внешними сборник инструкций по вызову иномирных существ на хрупкую планету, которую они будут рады уничтожить, – представляет собой на самом деле утешительную сказочку, призванную скрыть от нас еще более тёмные истины. Приучив нас с помощью всевозможных уловок, используемых в различных рассказах, вздрагивать всякий раз при упоминании этой книги, теперь Лавкрафт, по сути, сообщает нам, что «Некрономикон» находится «едва на окраине» существующего в мире зла.
2. Подлинный ужас, как мы знаем, был «с милосердной уклончивостью» скрыт в «Некрономиконе» под именем «Азатот». Милосердия в этом имени немного, а информации еще меньше. Из «Снов в ведьмином доме» мы получаем больше информации, но еще меньше милосердия, поскольку мы читаем, что Азатот восседает на троне «хаоса... где бездумно играют тонкие флейты» (WH 664; ВД 247), а также, что «бездумная сущность по имени Азатот... управляет пространством и временем, восседая на черном троне посреди великого Хаоса» (WH 674; ВД 261 – пер. изм.). И там же далее говорится о «черной воронке последних пределов хаоса, где царит лишенный жалости владыка демонов Азатот» (WH 686; ВД 278). А в заключительном приступе экстатического письма, в одном из позднейших рассказов «Скиталец Тьмы», «слепой бог-идиот Азатот, Вседержитель Всего» предстает окруженным «верной ордой безумных безликих танцоров и убаюканный тонким монотонным писком демонической флейты в лапах безымянного существа» (HD 802; СТ 199 – пер. изм.). И прошу вас, не забывайте, что даже этот дикий лавкрафтовский взрыв – все еще «милосердно уклончивая» версия космической истины.
3. Все это лежит «по ту сторону угловатого пространства» – аллюзия, которую еще труднее визуализировать, чем острый угол, который ведет себя как тупой, поскольку сущности последнего типа по определению принадлежат к царству ощутимых и мыслимых геометрических углов, каким бы противоречивым ни был их вид и поведение.
4. По ту сторону слепого бога-идиота, окруженного ордой безумных и бесформенных танцоров, по ту сторону всякого угловатого пространства и по ту сторону «милосердной уклончивости» описаний этой реальности в невыразимом «Некрономиконе», мы, наконец, обнаруживаем «чудовищный ядерный хаос». Что под этим подразумевается – можно только догадываться, основываясь на расхожих школьных представлениях об устройстве атомного ядра. Но поскольку легенды об Азатоте называются здесь милосердно уклончивым описанием скрывающейся за ними хаотической реальности, то по аналогии мы вздрагиваем.
Лавкрафту потребовалось несколько крупных рассказов, чтобы стать способным сформулировать предложение столь изощренной сложности, хотя для поверхностного взгляда оно и может казаться подростковым баловством. Согласиться с мыслью, что как стилист Лавкрафт уступает авторам вроде Пруста или Джойса (двум любимчикам Уилсона), я не в состоянии. Скорее уж верно обратное.
50. Ужас в выводах
«Как я сказал в самом начале, на первый взгляд в [предметах] не было ничего ужасного. Ужас заключался в выводах, которые напрашивались при виде этих предметов» (WD 479; ШТ 385).
Очевидная красота данного пассажа в том, что его можно проинтерпретировать как размышление Лавкрафта о собственном мастерстве и писательской технике. Безусловно, у Лавкрафта встречаются примеры прямого чувственного ужаса: цвет, который является цветом только по аналогии, инфрабасовый тембр, который не следовало бы называть звуком. Но чаще мы встречаем у него незакрепленные и свободные качества, трепыхающиеся на поверхности восприятия и объявляющие о своей связи с некой глубинной скрытой сущностью, которая может быть лишь смутно поименована.
В настоящем примере вывод, о котором идет речь, несколько разочаровывает. Последнее предложение, которое служит основанием для окончательного вывода, звучит так: «Ибо в кресле я увидел микроскопически точно, до последней мельчайшей детали, воспроизведенное подобие лица и кистей рук Генри Уэйнтворта Эйкли» (WD 480; ШТ 386 – пер. изм.). Уилмарт проводит ночь в доме Эйкли и имеет с ним несколько бесед. Эйкли неподвижно сидит в своем кресле, выглядит больным, говорит только шепотом. Наряду с вышеупомянутой ритмичной вибрацией воздуха, в доме присутствует странный душок, который наиболее ощутим вблизи Эйкли. Позднее Уилмарт подслушивает часть длинного разговора, из которого отчасти становится понятно, что мозг Эйкли был извлечен из тела и что теперь он говорит из металлического цилиндра, готового к отправке за пределы Земли. Все это задолго до финала повести приводит читателя к выводу, что Эйкли – псевдо-Эйкли. В этом смысле Уилмарт приходит к своему ужасающему выводу слишком поздно, чтобы напугать нас. Лавкрафт уже использовал этот прием, представляя Уилмарта более скептичным и наивным, чем мы сами, чтобы хитростью заставить нас верить в сверхъестественное сильнее, нежели рассказчик. Лавкрафт не мог бы убить обоих зайцев и потребовать, чтобы мы удивлялись вместе с Уилмартом. Этот неубедительный финал составляет неудачную пару с небывало слабым вступительным абзацем повести. Последний открывается рядом истеричных и вырванных из контекста утверждений Уилмарта о его внезапном бегстве из дома Эйкли и прочь от его фермы. Это использование техники in medias res[87] смотрится довольно дешево и портит блестящую возможность начать повесть с блистательного и невозмутимо спокойного второго абзаца: «События, сыгравшие столь значительную роль в моей жизни, случились во время печально знаменитого Вермонтского наводнения 3 ноября 1927 года. Тогда – как и сейчас – я преподавал литературу в Мискатоникском университете в Аркхеме, штат Массачусетс, и изучал древние поверья Новой Англии...» (WD 415; ШТ 299). Это было бы одно из лучших начал произведений Лавкрафта – если бы это было начало.
В широком же смысле пассаж, вынесенный в начало этого подраздела, можно считать краткой формулой всего лавкрафтовского писательского метода: «Как я сказал в самом начале, на первый взгляд в [предметах] не было ничего ужасного. Ужас заключался в выводах, которые напрашивались при виде этих предметов». Но даже эти выводы нельзя высказывать буквально. Поверхностные качества смутно намекают на некую скрытую сущность. Но сама сущность оказывается расплывчатой и зачастую с милосердной уклончивостью скрывает от нас еще более глубокую и тёмную истину. Лавкрафт никогда не позволяет нам достигнуть последнего слоя ужаса, поскольку даже «чудовищный ядерный хаос», скрытый под именем Азатота, мы не в состоянии постичь.
Хребты безумия
Повесть написана в начале 1931 году, и ее сразу же отклонил журнал Weird Tales. Публикация, наконец, стала возможной в 1936 году, когда Astounding Stories напечатали произведение по частям, так что Лавкрафт, но всяком случае, дожил до этого момента. Холодные и безрадостные пейзажи Антарктиды, а также каталог научных описаний ужасов сделали эту повесть одной из самых популярных у Лавкрафта. Я бы тоже назвал ее лучшей, если бы не вторая часть, замысел которой кажется мне неудачным. Повесть нужно было закончить на том моменте, когда Дайер и Данфорт, увидевшие с воздуха циклопический город, возвращаются в лагерь охваченные ужасом и истерией. Последние шестьдесят страниц, посвященные исследованию города, показывают его слишком близко, подрывают присущий ему архитектурный ужас, и к тому же повествование превращается в перегруженное деталями историческое описание существ, которое напоминает материалы чьей-нибудь кампании в настольной ролевой игре. Основной вывод из исследования города заключается, видимо, в том, что Старцы похожи на нас больше, чем мы могли бы подумать. У них тоже есть исторические циклы расцвета и увядания, и они тоже могут стать жертвами убийства. Все эти детали работают против таланта Лавкрафта постоянно удерживать своих существ на границе познаваемого.
В противоположность этому первая половина повести, пожалуй, самое лучшее из того, что Лавкрафт написал. Группа преподавателей и аспирантов Мискатоникского университета собирается в антарктическую экспедицию. Уникальный бур, изобретенный профессором Пибоди с геологического факультета, позволяет проникнуть на большую глубину, чем это делали предыдущие экспедиции. Профессор Лейк (биолог) вскоре оказывается в почти невменяемом состоянии – он обнаружил окаменелости, похожие на отпечатки лап, хотя глава экспедиции профессор Дайер (геолог) отвергает эту гипотезу: в его области подобные находки нередки. Лейк хочет подтвердить свои интуиции и посрамить скептицизм Дайера, для чего инициирует воздушную экспедицию, удаляясь на сотни миль от основного лагеря. Риск в конечном итоге оправдывает себя и приводит к целому ряду ошеломляющих научных открытий. Помимо прочего, обнаружена огромная горная гряда, намного выше Гималаев. Но что гораздо важнее – открыт слой невероятно древних окаменелостей, в котором содержится нечто, описанное Лейком как несколько высокоразвитых бочкообразных лучистых животных. Литературное описание этих открытий представляет собой серию радиопереговоров между тремя лагерями экспедиции. Лейк поражен, воодушевлен и, пожалуй, несколько встревожен, когда понимает, что эти бочкообразные организмы, сочетающиеся свойства животного и растительного царств, оставили странные следы, обнаруженные ранее. Образцы животных доставляют в лагерь, невзирая на яростный лай собак, увидевших окаменелости (в рассказах Лавкрафта это всегда плохое предзнаменование). Затем начинается страшный шторм, за которым следует длительное безмолвие в радиоэфире. Остаток экспедиции под руководством Дайера решает выяснить причины молчания и вылетает в лагерь профессора Лейка. Все люди и собаки зверски убиты, только один человек и одна собака пропали без вести. С людьми расправились с особой жестокостью: их внутренности удалены, тела покрыты солью. Как обычно, читатель догадывается об истинных причинах раньше, чем рассказчик: впоследствии выясняется, что убийцами были «радиальные животные», архетипические для Лавкрафта существа – Старцы. Дайер и студент Данфорт предпринимают воздушную экспедицию, сопровождающуюся потрясающим описанием архитектуры с воздуха, затем проводят детальное исследование города, рассказ о котором, как я уже говорил, пространен, отвлечен и в целом неудачен.
51. Определенная странность техники
«Подкреплением им послужат прежде не публиковавшиеся фотографии, сделанные как на земле, так и с воздуха, – дьявольски выразительные и наглядные. Критики, однако, усомнятся и здесь, объявив снимки искусным фотомонтажом. Чернильные зарисовки уж точно никого не убедят, а вызовут лишь ухмылки, притом, что над определенной странностью техники [их исполнения] стоило бы задуматься искусствоведам» (ММ 481; ХБ 458 – пер. изм.).
Этот отрывок – явно стилистический наследник размытых снимков, «источавших некую дьявольскую власть внушения» из «Шепчущего из тьмы». Дайер в своем описании фотографий из Антарктиды употребляет похожие слова – «дьявольски выразительные и наглядные». По странному капризу фортуны они оказываются менее ценным свидетельством, чем простые чернильные рисунки. В конце концов фотографии всегда могут быть «искусным фотомонтажом», имитацией реальности. Рисунки, на первый взгляд, находятся в более слабой позиции, они вызывают «лишь ухмылки». И все-таки в их пользу говорит нечто недоступное фотографиям, а именно «необычный характер их техники».
Техника, в которой выполнены несколько рисунков, оказывается более весомым свидетельством достоверности, чем их содержание или любой аспект фотографий. Техника рисования, как правило, непосредственно связана с содержанием рисунка. Но в случае Дайера, кажется, что здесь чего-то не хватает. Для начала зададимся вопросом о том, в каком отношении находится не-странная (non-strange) техника рисунка к его содержанию. Есть ли в технике рисования нечто, делающее ее менее достоверной, чем фотография, помимо того, что рисунок выполнен чернилами и не дает прямого визуального отображения предмета? И если так, каким образом эта новая и странная техника уничтожает зерно нашего подозрения и заставляет признать истинность этих очевидных имитаций действительности на основании техники и ничего иного? В конце концов эта причудливая техника принадлежит не инопланетным расам и даже не художникам-авангардистам, а профессору геологии и одному из его студентов. Они не мотивированы стремлением к новаторству в искусстве или желанием провернуть аферу. Нет, сама действительность заставляет технику странным образом видоизмениться. Дайер считает, что «над необычным характером... техники стоило бы задуматься искусствоведам». Образуется вызывающе причудливая инверсия общепринятых процедур обоснования: истинность отчетов из Антарктиды определяется не биологами или сыщиками, способными определить постановочную фотографию, а историками искусства.
52. Неотличимо от волнового эффекта
«Работа велась на западе, вблизи хребта Королевы Александры, и Лейк, как биолог, признал отпечаток весьма странным и наводящим на размышления, хотя, на мой взгляд геолога, это было неотличимо от некоторого волнового эффекта, обычно характерного для осадочных пород» (ММ 488; ХБ 467 – пер. изм.).
В рассказах Лавкрафта роль ученых, как правило, заключается в том, чтобы проводить ни к чему не ведущие испытания, а затем с недоумением пожимать плечами. Писатель изображает ученых как людей, находящихся в целом на верном пути, но гораздо менее развитых, чем люди с низким [социальным] статусом (моряки-чужестранцы, теософы, ведьмы, безумные арабы), получившие тем или иным способом прямой доступ к реальности. В отрывке, приведенном выше, разворачивается иной аспект: здесь впервые – и, быть может, единственный раз – Лавкрафт помещает разногласие между учеными в центр своего повествования. Биолог прозревает в камне следы движущихся форм жизни, а геолог называет это типичными формациями сланца, в которых нет ничего удивительного. В конце концов правда оказывается на стороне биолога, но такая реабилитация приносит ему мучительную смерть.
Философ Бруно Латур неоднократно писал о спорах в науке[88]. Когда факт установлен должным образом, к нему относятся как к монолитному, гладкому «черному ящику» без внутренних частей и без истории. Выражаясь словами Латура, «кому придет в голову, указывая формулу воды H2O, ссылаться на статью Лавуазье?»[89]. Формула воды ныне стала очевидной данностью. То же можно сказать и о большей части наших геологических знаний о горных породах (хотя геология как наука, в основном созданная с нуля Лайелем, существует не так давно[90]). Определенные медицинские симптомы прямо указывают на конкретные заболевания; определенные тонкие ароматы отличают качественное вино от «бормотухи». Непосредственная связь между объектом и его качествами считается нормой, и развитие науки основывается на существовании такой связи: наука расширяет наше тонкое мастерство работы с каталогом изолируемых качеств, принадлежащих тому или иному объекту.
В случае научного спора все совсем по-другому: мы имеем дело с новым объектом или феноменом, вызывающим затруднение, которое требует, чтобы мы заново осмыслили само отношение между вещью и ее качествами. В данном случае диспут разворачивается вокруг видимых знаков на горной породе. Автор описывает отметины как «наводящие на размышления» и ранее – как «странный бороздчатый треугольник, размером в фут по большей стороне» (ММ 488; ХБ 467). Для Дайера в этих бороздах нет ничего особенного, они принадлежат к хорошо известному семейству «волновых эффектов». Лейк, можно сказать, производит метафору, отвязывая от геологических процессов их обычные качества и привязывая их к некоему смутно ощущаемому каузальному агенту не-геологического порядка. «Твоя душа – как тот пейзаж...»[91] Верлена превращается у Лейка в «след неизвестного существа как тот волновой эффект». Эти качества кажутся геологу хорошо известными, но его противник привязывает их к другому и, кроме того, неизвестному объекту. То, что Кун называет «нормальной наукой», замирает, и мы оказываемся на грани так называемого «сдвига парадигмы»[92], когда из самой сердцевины существующей науки начинает выпирать новый неизведанный объект и обыденной толчее качественного развития приходит конец.
Одержимость Лейка не ослабевает и не отклоняется от цели. Для тех, кто знаком с произведениями Лавкрафта, следующий отрывок – уже причина для беспокойства: «...Он [Лейк – Г. X.] немало размышлял о сланцевом бороздчатом треугольнике и строил пугающе дерзкие предположения. Он усмотрел в загадочном образце несоответствие природе и геологии данного периода, и это... раззадорило его любопытство» (ММ 489; ХБ 467). Лейк настаивает на новых бурениях и подрывах; Дайер, наконец, сдается и позволяет коллеге делать, что ему будет угодно, несмотря на то, что бороздчатая порода «относилась к древнему – кембрийскому, а то и докембрийскому – периоду, когда сложных организмов не существовало вообще, и вся фауна сводилась к одноклеточным – самое большее, к трилобитам» (ММ 490; ХБ 469). Лавкрафт противопоставляет двух ученых. Для Дайера отношение между бороздами и вызвавшей их предположительной причиной является «черным ящиком»: «Поскольку сланец представляет собой не более чем метаморфическую формацию, содержащую спрессованный осадочный слой, и поскольку давление само по себе причудливо искажает любые формы, бороздчатый треугольник не вызвал у меня никаких вопросов» (ММ 488; ХБ 467). Лейк, напротив, опираясь на интуицию, переживает типичный для произведений Лавкрафта опыт разрыва между объектами и их качествами, хотя и в замедленной, прерываемой остановками форме.
53. Разнесенные на большое расстояние базы
«Утром у меня состоялись переговоры по беспроводной связи сразу с двумя разнесенными на большое расстояние базами: Лейка и капитана Дагласа» (ММ 494; ХБ 474).
Большая часть действия в «Шепчущем из тьмы» разворачивалась в виде увлекательной переписки между Эйкли и Уилмартом. Лавкрафт блистательно справился с этим, хотя долгая традиция эпистолярных романов, к которой принадлежит, например, «Дракула» Брэма Стокера[93], безусловно, снабдила его многочисленными образцами. Новаторство «Хребтов безумия» в том, что ключевая для повести информация передается между тремя радиоточками. Мы, читатели, находимся в компании с Дайером, рассказчиком. Лейк улетел на несколько сотен миль на северо-запад в своей злополучной погоне за новыми окаменелостями. У пролива Мак-Мердо капитан Даглас и его команда охраняют запасы на борту «Аркхема». Отсюда доклады экспедиции передаются в большой мир, обеспечивая относительную публичность всего, что происходит с путешественниками (однако некоторые из ужасающих событий, которые произойдут позже, попадут под цензуру).
Открытия, о которых Лейк сообщает по радио, становятся все более воодушевляющими и ошеломляющими. Мы уже знаем, что горы, у подножья которых расположился лагерь Лейка, не ниже Гималаев (ММ 491; ХБ 471). Участники экспедиции замечают «одну повторяющуюся особенность в силуэте высочайших гор: к ним лепились правильной формы кубы» (ММ 492; ХБ 491), которые, как верно предполагает читатель, не могут быть естественными образованиями. Выясняется, что горы сложены из «докембрийских сланцев» (ММ 492; ХБ 472), что придает новым находкам флер глубокой древности. Затем обнаруживаются биологические образцы, которые я рассмотрю в следующем подразделе. Радио выходит из строя, как изначально считается, вследствие суровой антарктической бури, которая ночью накрывает лагеря Дайера и Лейка, но в дальнейшем выясняется, что причина молчания заключается в гибели группы Лейка.
Письма – однозначно непрямой способ коммуникации, но радио парадоксальным образом располагается где-то между прямой и непрямой коммуникацией. С одной стороны, радиоволны движутся со скоростью света, обеспечивая общение в реальном времени. С другой стороны, неизбежные потрескивания и осциллирующий гул делают радио зловещим (eerie) посредником – это знает всякий, кто в детстве засыпал под отдаленный шум радиопередач. Беспроводная коммуникация позволяет открытиям Лейка мгновенно стать достоянием общественности, но расстояние защищает выживших от ужасающей судьбы экспедиции Лейка. Также важно отметить, что хотя в большинстве повестей и рассказов Лавкрафта свидетельства становятся предметом насмешек или вызывают сомнения у внешних авторитетов, в данном случае этого, скорее всего, не произойдет. Действительно, на первых страницах повести Дайер выражает явное беспокойство: «...Когда речь идет о предметах столь противоречивых и далеко выходящих за рамки обыденного, безвестным сотрудникам заштатного университета, каковыми являемся мы с коллегами, едва ли можно надеяться на внимание научных кругов» (ММ 481; ХБ 459). И все-таки читатель интуитивно понимает, что свидетельства в конце концов получат признание. Определения, подобные тем, которые дает Дайер, служат для того, чтобы подчеркнуть исключительность событий в Антарктиде; при этом мы, читатели, не верим, что доклады Мискатоникской исследовательской экспедиции не будут восприняты всерьез, как предсказывает ее глава. И даже наоборот – об этом свидетельствует политика цензуры, которую изначально вводят Дайер и Данфорт.
54. Эйнштейн от биологии
«Подчеркните для газетчиков важность этого открытия. Для биологии оно значит то же, что теория Эйнштейна – для математики и физики» (ММ 497; ХБ 478).
Для Альберта Эйнштейна, молодого патентного клерка из Швейцарии, 1905 год оказался так называемым annus mirabilis [годом чудес – лат.]: он опубликовал четыре прорывных статьи в Annalen der Physik. В первой Эйнштейн объяснил фотоэлектрический эффект и излучение абсолютно черного тела, предположив, что свет выделяется небольшими порциями, квантами, тем самым расширив достижения предшествующих работ Макса Планка по теории теплоты и подготовив почву для квантовой теории орбит электронов Нильса Бора. Во второй статье рассмотрение Эйнштейном броуновского движения в жидкостях дало убедительное свидетельство в пользу существования атомов, которое ранее признавала лишь ограниченная группа атомистов внутри научного сообщества. В третьей статье Эйнштейн изложил свою специальную теорию относительности, которая поставила под сомнение существование «эфира», заполняющего пустое пространство и установила постоянную скорость света для всех систем отсчета – прямое опровержение теории дальнодействия гравитации Исаака Ньютона. В четвертой статье Эйнштейн вывел свою знаменитую формулу Е=тс^2, которая обосновала тождество энергии и материи и дала начало разработке атомного оружия. В 1916 году, спустя десять лет трудов, Эйнштейн опубликовал общую теорию относительности, объяснившую аномалии орбиты Меркурия, которые невозможно было обосновать на материале «Начал...» Ньютона. Это привело к разработке обширной теории, в которой гравитация определялась как искривление пространства. Эмпирические подтверждения теории, полученные сэром Артуром Стэнли Эддингтоном во время затмения 1919 года, сделали Эйнштейна всемирно известным.
Краткий обзор достижений Эйнштейна показывает революционную роль его открытий в нескольких областях физики (но не математики, как ошибочно замечает профессор Лейк в отрывке выше). Физическая вселенная после Эйнштейна существенно отличается от той, которая существовала в 1904 году. В рассматриваемом отрывке Лейк предлагает считать самого себя Эйнштейном от биологии. Весомые основания для того, чтобы занять эту позицию, есть у Чарльза Дарвина: его теория эволюции, коренным образом преобразовавшая науку, задает высокую планку для тех, что претендует на роль нового Эйнштейна биологических наук. Но мы, читатели, ни секунды не сомневаемся в претензии Лейка. Радио сообщает нам, что «несколько треугольных бороздчатых отпечатков» (ММ 497; ХБ 477), обнаруженных ранее членом группы, Фаулером, в древних отложениях сланца, были также найдены и в гораздо более поздних, команчских слоях песчаника и известняка, а это говорит о недарвинистской продолжительности существования одного вида на протяжении чудовищных отрезков геологического времени. Как бы выстраивая достойную родословную для такого крупного открытия, Лейк скупо и сухо замечает: «Оно полностью согласуется с моими прежними данными и заключениями» (ММ 497; ХБ 478). «Находки указывают, что известному нам циклу органической жизни, начавшемуся с археозойских одноклеточных, предшествовал другой – а может, и другие» (ММ 497; ХБ 477) – таков вывод из открытия. Следующий вопрос: насколько далеко может продвинуться эволюция в условиях примитивного состояния планеты в древнейшие эпохи, с учетом туманного замечания о том, что эти ранние живые организмы должны иметь инопланетное происхождение. Учитывая эти выводы, требование Лейка «подчеркнуть для газетчиков важность этого открытия» менее всего напоминает стремление к личной славе.
И все же эти заявки на роль Эйнштейна сделаны до последнего и самого ужасного открытия. В 10:15 вечера Лейк объявляет: обнаружен «громадный окаменелый предмет в форме бочонка, совершенно непонятного происхождения – то ли это растение, то ли заросший экземпляр какого-то неизвестного науке лучистого морского животного» (ММ 498; ХБ 479). Сверхэйнштейнианский момент наступает в «11.30 вечера. Внимание – Дайер, Пейбоди, Даглас. Дело высочайшей – я бы сказал, исключительной – важности. „Аркхему“ нужно сейчас же сообщить на главную станцию в Кингспорте. Странный бочкообразный организм относится к архейской эре, и это он оставил отпечатки на камнях» (ММ 498; ХБ 479). Последнее – скорее ужасающее озарение в области практики, чем теоретическое открытие, ведь бочкообразные существа (они же Старцы) вскоре уничтожат Лейка и всю его группу. Для политики и военной науки это могло бы значить то же самое, что и Эйнштейн для физики или Дарвин и Лейк для биологии.
55. Прочные, как кожа, но упругие
«10.15 вечера. Важное открытие. <...> Оррендорф и Уоткинс, работая под землей при свете фонарей, обнаружили громадный окаменелый предмет в форме бочонка, совершенно непонятного происхождения – то ли это растение, то ли заросший экземпляр какого-то неизвестного науке лучистого морского животного. Ткани... прочные, как кожа, но местами сохранившие удивительную упругость» (ММ 498; ХБ 479).
Особенно интересно последнее предложение: «...Прочные, как кожа, но местами сохранившие удивительную упругость». Мы уже несколько раз сталкивались с дизъюнкциями Лавкрафта, такими как «бессмысленное хихиканье или шепот». Как уже отмечалось в подобных случаях, такие дизъюнкции не описывают выбор между двумя ограниченными возможностями, но пытаются нащупать некую едва различимую третью возможность, которая указывает на постоянно ускользающее усредненное значение двух слов. Например, речь сына Нейхема, недавно потерявшего рассудок, становится чем-то средним между хихиканьем и шепотом, что бы это ни значило, и, кроме того, теряет осмысленное значение. Но в последнем предложении приведенного отрывка мы имеем дело с еще более явным смешением. Фразу можно свести к простейшей форме: «прочные и упругие». Выбирая вариант «прочные, но упругие», Лавкрафт указывает нам на парадоксальный контраст между двумя прилагательными. В результате мы оказываемся в ситуации сходной с «бессмысленным хихиканьем или шепотом». Мы можем сказать, что бочковидные окаменелости демонстрируют «бессмысленную прочность и упругость», а описание сына Нейхема можно перефразировать как «он говорил, хихикая, но шепотом».
Смысл «прочных, но упругих» уточняется. «Прочные, как кожа» – это похоже на довольно высокий стандарт прочности, но вдруг мы понимаем, что речь идет о древнейших окаменелостях – в таком случае сравнение с кожей все равно, что сравнение с желатином. Во второй части предложения слово «удивительная» выполняет обычную двойную функцию типичных у Лавкрафта прилагательных, указывающих на крайнее изумление: рассказчик, выражая за нас наше удивление и заодно давая подсказку о состоянии ума профессора Лейка, представляет его как искреннего и заинтересованного свидетеля (в этом случае, скорее трагического, чем комического персонажа) и побуждает читателя воспринимать невозможное как вполне приемлемое, Наконец, уточнение «местами сохранившие удивительную упругость» добавляет нотку продуманной точности, которая придает убедительности невозможному соединению прочности и упругости в окаменелости, задавая для него определенные физические границы.
56. Примечательна симметрия, присущая растительным организмам
«Не могу положительно утверждать, что находка принадлежит не к растительному, а к животному царству, но, скорее всего, это так. Вероятно, это поразительно эволюционировавший представитель лучистых, сохранивший притом ряд первоначальных особенностей. <...> Примечательна симметрия, присущая растительным организмам с их вертикальной структурой, а не животным – со структурой продольной» (ММ 500; ХБ 481-482).
Несколько бочкообразных чудовищ найдено в почве Антарктиды. Будучи древнее, чем самые ранние простейшие, эти окаменелости по прочности сопоставимы всего лишь с кожей – и притом упругой. Теперь мы узнаём, что существ можно расположить между царством животных и растений; «скорее всего» это животные – слабейшая из возможных форм убежденности. Странно, что такая неуверенность проистекает исключительно из визуального исследования анатомии. Двумя страницами ранее Лейк сообщал: «Странный бочкообразный организм относится к архейской эре, и это он оставил отпечатки на камнях» (ММ 498; ХБ 480). Способность оставлять следы в окаменелостях свидетельствует о движении, поэтому, когда Лейк относит существо «скорее» к животным, это вызывает беспокойство. Здесь начинаются уже не эпистемологические колебания между животным и растением, вызванные недостатком данных, но неопределенность, которая предполагает возможность помыслить гигантские растения, движущиеся по поверхности земли.