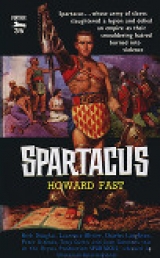
Текст книги "Спартак (Роман)"
Автор книги: Говард Фаст
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 25 страниц)
IX
Пока Гай и Красс были в ванне, и в то время как в последний час до захода, солнце отбрасывало золотое сияние над полями и садом Вилла Салария, Антоний Гай взял подругу своей племянницы на прогулку под предлогом любования лошадиной пробежкой. Антоний Гай не впадал в столь показные проявления, как, например, частное обучение колесничих или собственная арена для игр. Он придерживался собственной теории, согласно которой, чтобы владеть богатством и выжить, нужно было использовать его скрытно, он не был столь социально незащищен, чтобы призывать к безвкусной известности, что например, было распространено среди нового социального класса деловых людей, возникшего в республике. Но, как и его друзья, Антоний Гай любил лошадей и выплачивал фантастические суммы денег для разведения хорошего племенного скота, и получал большое удовольствие от своих конюшен. В это время, цена за хорошую лошадь была по крайней мере в пять раз дороже хорошего раба, что объяснялось тем, что иногда требуется пять рабов, для ухода за лошадью должным образом.
Лошади бегали по огороженному, широкому лугу. Конюшни и загоны были сгруппированы в одном месте, а на небольшом расстоянии оттуда, выстроили удобную каменную галерею, способную вместить до пятидесяти человек, открытую в обе стороны и большой загон.
Приблизившись к конюшне, они услышали пронзительное, требовательное ржание жеребца, с ноткой настойчивости и ярости, новые для Клавдии, захватывающие, но, все же пугающие.
– Что это? – спросила она Антония Гая.
– Жеребец возбужден. Я купил его на рынке всего две недели назад. Фракийских кровей, крупная кость, дикарь, но он прелесть. Хотели бы вы увидеть его?
– Я люблю лошадей, – сказала Клавдия. – Пожалуйста, покажите его мне.
Они шли к конюшням, и Антоний велел десятнику, маленькому, словно усохшему рабу Египтянину, вывести коня для демонстрации в большой загон. Чтобы полюбоваться зрелищем, они прошли на галерею, и уселись в гнездо из подушек, обустроенное для них рабами. Клавдия не преминула заметить, как хорошо вышколены и прилежны слуги Антония Гая, как они предугадывали каждое его желание, ловили каждый взгляд. Она выросла среди рабов, и все знала о трудностях, которые они могли доставить. Когда она сказала ему об этом, он заметил:
– Я не наказываю своих рабов кнутом. Когда есть проблемы, я убиваю одного из них. Это призывает к послушанию, но не ломает их дух.
– Я думаю, что у них замечательный дух, – кивнула Клавдия.
– Это не так легко обращаться с рабами – укротить жеребца намного легче.
Тем временем, служители привели жеребца в загон, огромного желтого зверя с налитыми кровью глазами и пеной на губах. На голове его была надета узда, и все же два раба, повисшие на уздечке едва могли удержать его, встающего на дыбы и вырывающегося. Он протащил их до середины загона, а затем, когда они отпустили его, отбежал подальше, и повернувшись к ним, взвился на дыбы и ударил на них копытами. Клавдия рассмеялась и захлопала в ладоши от восторга.
– Он великолепен, великолепен! – воскликнула она. – Но почему он полон такой ненависти?
– Разве вы не понимаете?
– Я думала, что он будет проявлять любовь, а не ненависть.
– Спариваться. Он ненавидит нас, потому, что мы удерживаем его от того, что он хочет. Хотите посмотреть?
Клавдия кивнула. Антоний сказал несколько слов стоящему на небольшом расстоянии от них рабу, и мужчина побежал к конюшне. Кобыла была каштановой масти, гибкая и нервная. Она бежала через загон, и жеребец кружил, чтобы отрезать ее. Но Антоний Гай не смотрел на них; его глаза были устремлены на Клавдию, которая была покорена сценой разыгрывающейся перед ней.
X
Посредством принятия ванны, бритья, употребления парфюма, легкого умащения волос маслом и их изящной подзавивки, в свежей к трапезе одежде, Гай вошел в папоротниковую комнату выпить бокал вина, прежде чем позовут к ужину. Папоротниковая комната Вилла Салария сочетала розового цвета финикийскую плитку с тонко тонированным, бледно – желтым стеклом крыши. В результате в это время суток был нежное свечение замирающего солнечного света, который преобразовал темные папоротники и тяжелолиственные тропические растения в фантазию. Когда Гай вошел, Юлия была уже там, сидя на алебастровой скамье, по обе стороны от нее, расположились ее маленькие девочки, озаренные последними лучами солнца, ласкового и доброго. Сидящая в своем длинном белом платье, с темными волосами, искусно уложенными вокруг головы, обвившая руками обеих своих детей, она была воплощенной картиной Римской матроны, любезной, спокойной и достойной; и если бы ее поза не была столь явно и по– детски наиграна, она бы вполне естественно, напомнила Гаю каждую картину, изображающую мать Гракхов, которую он когда– либо видел. Он подавил порыв зааплодировать или сказать, – Браво, Юлия! Было слишком легко унизить Юлию, ибо ее притворство всегда было жалким, враждебным никогда.
– Добрый вечер, Гай, – она улыбнулась, прекрасно сочетая моделируемое удивление и истинное удовольствие.
– Я не знал, что ты здесь, Юлия, – извинился он.
– Но я здесь. Здесь и позволь мне налить тебе бокал вина.
– Хорошо, – согласился он, и когда она начала отсылать девочек прочь, запротестовал:
– Пусть они остаются, если хотят.
– Им действительно время ужинать. Когда дети ушли, она сказала, – Подойди и присядь рядом со мной, Гай. Садись рядом со мной, Гай. Он сел, и она налила вино для них обоих. Она коснулась своим стаканом его и выпила не сводя с него глаз. – Ты слишком красив, чтобы быть хорошим, Гай.
– У меня нет никакого желания быть хорошим, Юлия.
– А чего ты желаешь Гай, ну чего?
– Наслаждения, – ответил он откровенно.
– И это становится все труднее и труднее, таким молодым, как ты, не так ли, Гай?
– На самом деле, Юлия, я не выгляжу уж очень печальным, не так ли?
– Или особенно счастливым.
– Роль девы – весталки, Юлия, тебе не очень к лицу.
– Ты гораздо умнее, чем я, Гай. Я не могу быть столь же жестокой, как ты.
– Я не хочу быть жестоким, Юлия.
– Ты поцелуешь меня чтобы это доказать?
– Здесь?
– Антоний не придет. Прямо сейчас, он выставляет своего нового жеребца из конюшни для назидания той маленькой блондинки, что вы привезли сюда.
– Что? Для Клавдии? О, нет-нет. – Глубоко внутри себя Гай захихикал.
– Какой ты зверек. Ты поцелуешь меня?
Он нежно поцеловал ее в губы.
– Только так? Желаешь нынешнюю ночь, Гай?
– На самом деле, Юлия?
– Не говори мне нет, Гай, – прервала она его. – Пожалуйста. Ты не поимеешь свою Клавдию сегодня в любом случае. Я знаю своего мужа.
– Она не моя Клавдия, и я не хочу ее сегодня ночью.
– Тогда.
– Хорошо, – сказал он. – Хорошо, Юлия. Мы не будем говорить об этом сейчас.
– Ты не хочешь?
– Это не то, что я хочу или не хочу, Юлия. Я просто не хочу больше говорить об этом сейчас.
XI
Ужин на Вилла Салария продемонстрировал, как и другие практики ведения домашнего хозяйства, определенное сопротивление изменениям уже распространившимся в космополитическом Риме. Со стороны Антония Гая, это был не столько укоренившийся консерватизм, сколько желание отделить себя от нового класса богатых купцов, сделавших свои состояния на войнах, пиратстве, горнодобывающей промышленности и торговле, и которые жадно, внахлест принимали все Греческие или Египетские инновации. Что касается принятия пищи, Антоний Гай не мог наслаждаться едой, развалясь на диване; это нарушало его пищеварение и отвлекало его от реальной пищи, на маленькие пикантные кисло– сладкие деликатесы, которые стали настолько модными в настоящее время. Его гости сидели за столом и ели со стола, и хотя он подал им дичь и птицу, прекрасное жаркое и элегантную выпечку, лучшие супы и самые сочные фрукты, не было той странной стряпни, которая демонстрировалась в первую очередь на тарелках столь многих Римских вельмож. Он также не видел пользы в музыке и танцах во время еды; хорошая еда, хорошее вино и хороший разговор. Его отец и его дед оба были в состоянии свободно читать и писать; Сам он считался образованным человеком, и если его дед шел работать на поля фермы рядом со своими рабами, Антоний Гай правил своей большой латифундией, как мелкий Восточный князь мог бы управлять своей маленькой империей. Тем не менее, он любил думать о себе как о просвещенном правителе, хорошо разбирающимся в Греческой истории, философии и драматургии, способным если не практиковать, то по крайней мере компетентным в медицине, а также разбирающимся в политических делах. Его гости отражали его вкус, и когда они возлежали в своих креслах после еды, попивая десертное вино – женщины в отремонтированной папоротниковой комнате, в этот самый момент – Гай, уловил отраженные в них и их хозяине сливки качеств, которые сделали Рим и которые правили Римом так цепко и так умело.
Гай восхищался им тем меньше, чем больше он узнавал его; у него не было амбиций в этом направлении. По их мнению, он не представлял никакой ценности и не имел особого значения, молодой мот из хорошей семьи с настоящим талантом направленным только на еду и конюшни; в некоторых отношениях это было новое направление, продукт последнего поколения или двух. Тем не менее, он имел определенное значение; он имел семейные связи, которые были завидными; когда его отец умрет, он стал бы очень богатым, и весьма возможно, что некоторые повороты судьбы превратят его в лицо с политическим влиянием. Таким образом, он был несколько большим, чем тот, кого терпят, и обихаживали его несколько лучше, чем можно было бы относиться к молодому, надушенному щеголю с хорошими возможностями, умащенными маслом волосами и без мозгов.
И Гай боялся их. В них была болезнь, но болезнь проявившаяся недостаточно, чтобы ослабить их. Они сидели здесь, поглощая свою прекрасную еду, попивая сладкое вино, и те, кто оспорил их власть были распяты на мили и мили вдоль Аппиевой дороги. Спартак был мясом; просто мясом; как мясо на разделочном столе в мясной лавке; нечего было даже распять. Но никому никогда не распять Антония Гая, сидящего так спокойно и уверенно во главе стола, говорящего о лошадях, ставящего чрезвычайно логическую точку утверждением, что лучше, использовать двух рабов запряженных в плуг, чем одну лошадь, так как никогда не бывало лошади, которая могла бы выдержать получеловеческое обращение с рабами.
Легкая улыбка на лице слушающего Цицерона. Больше, чем другие, Цицерон тревожил Гая. Как может нравиться Цицерон? Хотел ли он быть таким как Цицерон? После того, как Цицерон посмотрел на него, как бы говоря, – О, я знаю, что ты такое, мой мальчик. Сверху и снизу, вверху и внизу, внутри и снаружи. Другие боятся Цицерона, задавался он вопросом? Держитесь подальше от Цицерона, пусть Дьявол заберет его в ад, сказал он себе. Красс слушал с вежливым интересом. Красс должен был быть вежливым. Он был картиной Римского военного, прямой, квадратное лицо, твердые, жесткие черты, бронзовая кожа, тонкие черные волосы, а потом Гай подумал о нем в ванне и поморщился. Как он мог? Через стол от Гая, сидел политик, Гракх, большой человек с глубоким гулким голосом, и головой утонувшей в воротнике жира, его руки были огромные, толстые и пухлые, с кольцами почти на каждом пальце. Он отвечал, демонстрируя глубокую выдержку профессионального политика; его шутки были очень смешны; его утверждения были мощными утверждениями, в то время как его несогласие всегда было условным. Его заявления были помпезны, но никогда не глупы.
– Конечно, лучше с рабами, запряженными в плуг – заметил Цицерон, после Гракха, выразившего некоторое недоверие. – Зверь, который может думать, является более желательным, чем зверь, который думать не может. Стоит над этим порассуждать. Кроме того, лошадь вещь значимая. Нет племен лошадей, против которых мы можем вести войну и вернуть сто пятьдесят тысяч в помещение аукциона. И если вы используете лошадей, рабы погубят их.
– Я не вижу как – сказал Гракх.
– Спросите нашего хозяина.
– Это правда, – кивнул Антоний. – Рабы погубят лошадь. У них нет никакого уважения ко всему, что принадлежит их хозяину, – кроме самих себя. Он налил еще один бокал вина. – Должны ли мы говорить о рабах?
– Почему нет? – отозвался Цицерон. – Они всегда с нами, и мы являемся уникальным продуктом рабов и рабства. То есть тем, что делает нас Римлянами, если сказать напрямик. На этой большой плантации живет наш хозяин – в чем я завидую ему – по милости тысячи рабов. О Крассе много говорят в Риме, из – за рабского восстания, конец которому он положил, и Гракх имеет доход с рынка рабов – который находится в магистратуре, он владеет телами и душами, количество которых я не решаюсь даже исчислить. И этот молодой человек – кивая на Гая и улыбаясь. – этот молодой человек, я подозреваю, уникальный продукт рабов даже чуть больше, потому что я уверен, что они ухаживали за ним и кормили его и выгуливали его и лечили его и…
Гай покраснел, но Гракх расхохотался и закричал:
– И самого Цицерона?
– Для меня, они представляют собой проблему. Для того, чтобы достойно жить в Риме в наши дни, нужно как минимум десять рабов. Купить их, кормить их и разместить их, ну, это моя проблема.
Гракх продолжал смеяться, но заговорил Красс, – Я не могу согласиться с вами, Цицерон, что рабы, это то, что создает нас, Римлян. Утробный смех Гракха продолжался. Он сделал большой глоток вина, и начал историю о рабыне, которую он купил на рынке за месяц до того. Он был немного напряжен, его лицо покраснело, смешливое урчание вырывалось из его огромного чрева и перемежало слова. В мельчайших подробностях, он описал девушку, которую приобрел. Гай думал, что история бессмысленна и вульгарна, но Антоний глубокомысленно кивал и Красс был увлечен приземленным описанием толстяка. Цицерон тонко и задумчиво улыбнулся во время рассказа.
– Тем не менее, я возвращаюсь к заявлению Цицерона, – упрямо сказал Красс.
– Я вас обидел? – спросил Цицерон.
– Никто не обижается здесь, – сказал Антоний. – Мы – компания цивилизованных людей.
– Нет, не обидел. Вы озадачили меня, – сказал Красс.
– Это странно, – кивнул Цицерон, – когда все доказательства вопроса вокруг нас, мы все– таки противостоим логике его составных частей, будто мы Греки. Разные логики имеет неотразимую приманку для них, независимо от последствий, но наша добродетель – упрямство. Но посмотрите вокруг нас – Один из рабов, прислуживающих за столом, заменил опорожнение графины на полные, а другой предложил фрукты и орехи мужчинам. – Какова суть нашей жизни? Мы не просто какие – то люди, мы римский народ, и мы таковы именно потому, что мы первые, полностью понявшие возможности использования раба.
– Тем не менее, рабы были и до того, как возник Рим, – возразил Антоний.
– На самом деле были, то здесь, то там. Это правда, что у Греков были плантации, как и в Карфагене. Но мы разрушили Грецию, и мы разрушили Карфаген, чтобы освободить место для наших собственных плантаций. И плантации и рабы одно и то же. Там, где другие люди имели одного раба, у нас есть двадцать и теперь мы живем в стране рабов, и наше самое большое достижение – Спартак. Как насчет этого, Красс? Вы имели близкое знакомство со Спартаком. Почему не у любой другой нации, но именно в Риме суждено было появиться ему?
– Разве мы породили Спартака? – задал вопрос Красс. Генерал был обеспокоен. Гай догадался, что эта мысль побуждала его глубоко задуматься, не оставляла ни при каких обстоятельствах, и более того, когда он столкнулся с таким умом, как Цицерон. На самом деле, это не подходящее место для встреч между ними. – Я думал, что ад породил Спартака, – добавил Красс.
– Едва ли.
Безмятежный Гракх комфортно заурчал, выпил вина и наблюдал за Цицероном, несколько виновато, потому, что будучи хорошим Римлянином, он, Гракх, был плохим философом. В любом случае, здесь был Рим и здесь были рабы, а что Цицерон предлагает сделать по этому поводу?
– Поймите это, – ответил Цицерон.
– Зачем? – потребовал уточнить Антоний Гай.
– Потому что иначе они уничтожат нас.
Красс смеялся и смеясь поймал взгляд Гая. Это был первый реальный контакт между ними, и молодой человек почувствовал дрожь волнения промчавшуюся вниз по его спине. Красс много пил, но после испытанного им ощущения, Гай не имел ни малейшего желания выпить вина.
– Вы проехали по дороге? – спросил Красс.
Цицерон покачал головой; никогда нелегко убедить военного, что все вопросы, не могут быть решены с помощью меча. – Я не имею в виду простую логику лавки мясника. Здесь процесс. Здесь, на земле нашего доброго хозяина, были когда – то, по крайней мере три тысячи крестьянских семей. Если считать по пять человек в семье, то есть пятнадцать тысяч людей. А эти крестьяне были чертовски хорошие солдаты. Как насчет этого, Красс?
– Они были хорошими солдатами. Хотелось бы, чтобы их было побольше.
– И хорошими земледельцами, – продолжил Цицерон. – Не для газонов и садов, но для выращивания ячменя. Просто ячменя, но Римский воин марширует на ячмене. Есть ли какой – либо акр вашей земли, Антоний, который производит в два раза меньше ячменя, чем у трудолюбивого крестьянина, использующего и выжимающего из нее все?
– Только на одну четверть, – согласился Антоний Гай.
Все становится крайне тускло и Гай скучал. Он оседлал свои внутренние образы, ему стало жарко и лицо его раскраснелось. Волнение пробегало сквозь него, и он представлял себе, что чувствовал солдат, когда шел в бой. Он едва ли слышал Цицерона. Он поглядывал на Красса, спрашивая себя, почему Цицерон настаивал на этой утомительной теме.
– И почему – то почему? – Цицерон требовал. – Почему не ваши рабы его производят? Ответ очень прост.
– Они не хотят, – решительно сказал Антоний.
– Точно – они не хотят. Почему они должны хотеть? Когда вы работаете на хозяина, ваше единственное достижение, испортить свою работу. Нет смысла затачивать их плуги, потому что они сразу бы затупились. Они ломают серпы, разбивают цепы и отходы становятся принципом работы с ними. Это чудовище мы создали для себя здесь на десяти тысячах гектаров, там когда – то жило пятнадцать тысяч человек, а теперь есть тысячи рабов и семейство Антония Гая, и крестьяне гниют в трущобах и переулках Рима. Мы должны понять это. Это был простой вопрос, когда крестьянин вернулся с войны, а его земля заросла сорняками, и его жена ушла спать с кем – то, его дети не знали его, дайте ему горсть серебра за его землю и отпустите его в Рим жить на улицах. Но результатом является то, что теперь мы живем в стране рабов, и это основа нашей жизни и смысл нашей жизни – и весь вопрос о нашей свободе, о человеческой свободе, Республики и будущем цивилизации будет определяться нашим отношением к ним. Они не люди; это мы должны понять и избавиться от сентиментальной чепухи Греков говорящих о равенстве всех, кто ходит и разговаривает. Раб – говорящий инструмент. Шесть тысяч из этих инструментов распяты вдоль обочины дороги; это не расточительно, это необходимо! Я до смерти болен от разговоров о Спартаке, о его мужестве – да, о его благородстве. Нет мужества и нет благородства в дворняжке, которая огрызается на пятку своего хозяина!
Холод Цицерона не рассеивался, вместо этого он превратился в ярый гнев, такой же холодный, как гнев, который переполнял слушателей и делал его их хозяином, так что они смотрели на него, почти испуганно.
Только у рабов, которые двигались вокруг стола, подающих фрукты, орехи и сласти, доливали вино, не было никакой реакции. Гай заметил это, потому что сейчас он был сверхчувствительным и мир для него был другим, и он был существом возбужденным и восприимчивым. Он видел, какими неизменными оставались лица рабов, какими деревянными были их выражения, как вялы их движения. Тогда было правдой, сказанное Цицероном: они не были созданы людьми, лишь потому, что они ходили и разговаривали. Он не знал, почему это должно успокоить его, но так и произошло.
XII
Гай извинился, пока они еще пили и разговаривали. Его желудок теперь сжимался, и он чувствовал, что сойдет с ума, если ему придется сидеть там и слушать дальше обо всем этом. Он извинился из-за усталости от своего путешествия; Но когда он вышел из столовой, он почувствовал, что ему отчаянно нужно дыхание свежего воздуха, и он прошел через черный ход на террасу, которая тянулась вдоль задней части дома, белый мрамор был всюду, кроме центра, где был бассейн наполненный водой. В центре этого бассейна, из группы морских змей выросла нимфа. Поток воды изливался из раковины, которую она держала, танцуя и сверкая в лунном свете. Скамьи из алебастра и зеленого вулканического камня были разбросаны по террасе здесь и там, под кипарисами искусно создававшими иллюзию уединенности, расположенными в больших вазах, вырезанных из черной лавы. Терраса, которая пробегала на всю ширину огромного дома и вытягивалась примерно на пятьдесят футов от дома, была окружена мраморными перилами, за исключением центра, где широкая белая лестница вела вниз к менее ухоженным садам внизу. Это было похоже на Антония Гая, скрыть экстравагантное проявление богатства за своим домом, таким образом Гай использовал камень и каменную кладку, что он едва ли дал возможность рассмотреть детали места бросив мимолетный взгляд. Возможно, Цицерон мог бы отметить гениальность людей проявившуюся в использовании камня и самодовольстве, которая выставляется в виде случайных украшений с точки зрения вечности; Но Гай не подумал об этом.
Даже при нормальном ходе вещей, немного мыслей приходило в его голову, которые касались бы чего – то отвлеченного; в целом они касались только еды или секса. Так было не потому, что Гаю не хватало фантазии или он был глуп; просто, в его жизненной роли никогда не требовалось воображения или оригинальной мысли, и единственной проблемой, с которой он столкнулся в тот момент, было полностью понять взгляд Красса, который тот бросил на него, прежде чем он покинул столовую. Он размышлял об этом под лунным светом, на склонах плантации, когда голос прервал его.
– Гай?
Последним человеком, с которым он хотел бы оказаться наедине на этой террасе была Юлия.
– Я рада, что ты приехал сюда, Гай.
Он пожал плечами, не отвечая, и она подошла к нему, положила руку на его руки, и посмотрела ему в лицо.
– Будь добр ко мне, Гай, – сказала она.
– Почему она не перестанет пускать нюни и ныть, – подумал он.
– Я прошу немного, для тебя сущий пустяк, Гай. Но мне приходится так много, просить об этом. Ты что, не понимаешь?
Он сказал, – Я очень устал, Юлия, и я хочу лечь спать.
– Я полагаю, я заслужила это, – прошептала она.
– Пожалуйста, не принимай это таким образом, Юлия.
– А как я должна принять?
– Я просто устал, вот и все.
– Это еще не все, Гай. Я смотрю на тебя, и пытаюсь понять, кто ты, и ненавижу себя. Ты так красив, и так испорчен.
Он не прерывал ее. Пусть она выскажет все это; так он избавиться от нее намного быстрее.
Она продолжала, – Нет – не более испорчен, чем кто – либо другой, я полагаю. Только рядом с тобой, я говорю это. Но мы все испорчены, мы все больны, больны, полны смерти, мешки со смертью – мы любим смерть. Разве ты, Гай, и именно ты прошел по дороге, где ты мог бы посмотреть на знаки наказания? Наказания! Мы делаем это, потому что мы любим это – то, как мы делаем то, что мы делаем, потому что мы их любим. Знаешь ли ты, как ты прекрасен здесь, в лунном свете? Молодой Римлянин, сливки мира в полном расцвете красоты и молодости – и у тебя нет времени на старуху. Я такая – же испорченная, как ты, Гай, но я ненавижу тебя так же сильно, как и люблю тебя. Я хочу, чтобы ты умер. Я хочу, что бы кто-то убил тебя и вырезал твое убогое сердце!
Наступило долгое молчание, и затем Гай спокойно спросил, – Это все, Юлия?
– Нет-нет, не все. Я бы тоже хотела умереть.
– Оба эти желания, которые могут быть удовлетворены, – сказал Гай.
– Ты презренный…
– Спокойной ночи, Юлия, – резко сказал Гай, а затем вышел с террасы. Его решимость не раздражаться была нарушена, и тетя спровоцировала его на бессмысленный взрыв. Если бы у нее было хоть какое-то чувство меры, она бы увидела, как смешно она выглядела с ее дешевой, слезливой сентиментальностью. Но Юлия никогда этого не понимала, и неудивительно, что Антоний устал от нее.
Гай пошел прямо в свою комнату. Горит лампа, и есть два раба для встречи посетителей, молодые Египтяне, которых Антоний предпочитал как домашних слуг. Гай велел им уйти. Затем он снял с себя одежду, покрасневший и дрожащий. Он протер себя духами с мягким ароматом, припудрил протертые части своего тела, надел льняное одеяние, задул лампу и лег на кровать. Когда его глаза привыкли к темноте, он смог видеть довольно хорошо, ибо лунный свет проникал сквозь широко открытое окно. В комнате стояла приятная прохлада, она была полна аромата духов и весенних кустов в саду.
Гай был не в силах ждать даже несколько минут, они казались ему часами. Потом раздался очень легкий стук в дверь.
– Войдите, – сказал Гай.
Красс вошел, закрыв за собой дверь. Великий генерал никогда не выглядел более мужественно, чем сейчас, когда он стоял и улыбался молодому человеку, который ждал его.







