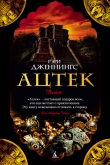Текст книги "Кровь ацтека. Том 1. Тропой Предков"
Автор книги: Гэри Дженнингс
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 29 страниц)
18
Когда солнце поутру взошло, я не мог устоять перед искушением исследовать окрестности и нырнул в заросли агавы, исчезнув из поля зрения как своих спутников, так и индейцев, охранявших поле от возможных воров.
Агава – это огромное растение с листьями шире моей стопы, превосходящее высотой рост взрослого человека. Моему мальчишескому воображению листья агавы порой представлялись гигантскими венцами ацтекских богов. Некоторые растения, такие как даривший нам жизнь маис, обладали определённой внутренней силой. Агава виделась мне воином растительного мира, причём не только из-за торчавших, как наконечники, копий остроконечных листьев, но и благодаря мощи, особой живительной силе, содержавшейся как в соке, так в стеблях и листве.
Подобно женщине, которая умеет готовить, шить, воспитывать детей и при этом ещё и ублажать мужчину, агава обеспечивает индейцев очень многим: из её волокна делают грубую ткань для одежды, одеял и вьюков, из шипов изготовляют иголки, а высушенными листьями топят очаги и кроют крыши.
И в то же время, как и в женщине, приносящей не только пользу, но и волнующую радость, в агаве сокрыт некий пьянящий дух.
Мягкая сердцевина этого защищённого копьями листьев растения наполнена agua miel, медовой водой. Однако в отличие от пчелиного этот «мёд» не сладок, а, напротив, представляет собой мутную, белёсую, кисловатую на вкус жидкость. Свежий сок агавы больше всего походит на болотную водичку, а перебродив, приобретает вкус кислого козьего молока. Но будьте осторожны! Это молоко возьмёт в плен ваше сознание быстрее, чем испанское вино, отправив вас с улыбкой на лице блуждать в блаженстве.
Медовая вода, которую мы называем пульке, была хорошо известна моим предкам ацтекам. Они называли её октли, напиток богов.
Магуэй – это местное название агавы – растёт медленно, зацветает лишь на одиннадцатый год, и в пору цветения из центра его, словно меч, поднимается высокий стебель. Индейцы, культивирующие это растение, знают, когда должен появиться цветок, и в нужное время вскрывают его, пробравшись среди колючих листьев, и сцеживают свежий сок.
Из каждого растения можно получить соку на дюжину порций пульке в день, причём добыча производится несколько месяцев подряд. Tlachiqueros, добытчики, по нескольку раз в день собирают свежий сок в выдолбленные из тыквы бутыли, после чего переливают его в бурдюки из свиной кожи. Иногда сок высасывают из тыквы через трубочку и выплёвывают в бурдюк, чтобы слюна поспособствовала брожению. В течение нескольких дней жидкость выдерживается в кожаных мехах или деревянных бочках.
Чистый перебродивший пульке называется pulque bianco, белый пульке. Мои предки ацтеки усиливали его крепость с помощью древесной коры под названием куапотль. Есть ещё pulque amarillo, жёлтый напиток, который получается, если добавить жжёного сахара. Поскольку оба упомянутых ингредиента повышают крепость напитка, наш добрый король Филипп запретил добавлять в пульке куапотль и сахар, но индейцы продолжали это делать.
Мои предки почитали пульке, потому что его пил сам Кецалькоатль, Пернатый Змей. Подобно грекам, обожавшим трагедии, ацтеки сочинили легенду о том, что пульке появился в результате трагической любви.
Бог по имени Пернатый Змей влюбился в Майауэль, прекрасную девушку, которая была внучкой одной из звёздных ведьм цицимиме, и убедил её убежать с ним. Они укрылись на земле и слились воедино, превратившись в одно дерево.
Однако цицимиме пустилась в погоню. Бабка прекрасной Майауэль принадлежала к тем страшным демонам женского рода, самым ужасным из обитающих в ночи, которые преобразились в звезды, чтобы иметь возможность с неугасающей злобой наблюдать за лежащим внизу миром людей. Питая злобу против всего живого, они насылали различные напасти – поветрия, засухи и голод, – а порой (именно тогда происходили затмения) даже пытались украсть солнце, вынуждая тем самым ацтеков ради возвращения светила приносить многочисленные человеческие жертвы.
Цицимиме сумела узнать в дереве Майауэль и, оторвав часть растения, скормила внучку другим демонам. То, что осталось от возлюбленной, безутешный Кецалькоатль предал земле, оросив своими слезами, и из праха погибшей красавицы произросло растение магуэй (или агава), из сока которого производят пьянящий напиток, что дарит людям такую же радость, какую Пернатому Змею и прекрасной Майауэль приносила их любовь.
Однако, по моему разумению, если боги ацтеков употребляли пульке так же рьяно, как и их поклонники, это вполне могло стать причиной поражения, которое они потерпели от испанского Бога. Отец Антонио, тоже пивший пульке, когда не мог добыть вина для утоления своей жажды, утверждал, что брожение придаёт напитку привкус тухлого мяса, но я всё-таки продолжаю считать его больше похожим на болотную жижу.
Индейцы обожали пульке и давали его даже детям. Правда, ацтеки порицали пьянство, хотя считали его позволительным для людей пожилых, чтобы подогреть кровь, женщин после родов и больных, чтобы подкрепить силы. А вот здоровых взрослых людей, напившихся до беспамятства, в первый раз остригали наголо, во второй раз сносили их дома, а в третий раз приговаривали к смертной казни.
¡Dios mio! Вздумай алькальд Веракруса пойти на такие меры, через неделю в городе не осталось бы ни индейцев, ни полукровок.
Добрый клирик немало сокрушался по поводу свойственного индейцам повального пьянства.
– Они пьют, чтобы забыть о своих невзгодах, – частенько говорил он. – Пьют по-другому, не так, как белые. Мои espanol hermanos, братья-испанцы, тоже любят выпить, но знают меру. Индейцы, к величайшему сожалению, пьют, когда выпадает случай, не зная и не желая знать ни нормы, ни меры. Они пьют по воскресеньям и в праздники, на свадьбах и крестинах, на именинах и похоронах – был бы только повод.
А уж когда повод находится, они льют пульке себе в глотки до тех пор, пока их сознание не оказывается в плену, а сами они не валятся с ног. Говорят, что один индеец может выпить столько, сколько дюжина испанцев. – Он погрозил мне пальцем. – Это не преувеличение, Бастард. Мои братья по крови указывают на приверженность пьянству как на один из пороков, внутренне присущих индейцам. Может, оно и так, остаётся только понять, почему этот порок получил среди них столь широкое распространение только после того, как мы высадились на их побережье.
Отец Антонио раздражённо воздел руки – так часто бывало, когда его вера вступала в противоречие с тем, что он видел собственными глазами.
– Воскресенье стало для индейцев днём всеобщего пьянства. Почему? Полагаю, это своеобразный способ протеста против религии, которую мы им навязали. Ты знаешь, что святой крест вблизи рыночной площади пришлось убрать, потому что собаки и пьяные индейцы постоянно мочились на него?
Далее, пусть пьянство действительно губительный, присущий индейцам порок, но если так, пристало ли испанским господам извлекать из этого прибыль? Ведь гонят пульке из агавы, а бо́льшая часть плантаций принадлежит владельцам гасиенд. Кроме того, говорят, что испанские вина заставляют индейцев терять голову быстрее, чем пульке. Эти крепкие вина завезли в деревни странствующие испанские торговцы, которые не только набивают карманы за счёт продажи хмельного, но и скупают за бесценок ещё оставшуюся у индейцев землю: ведь когда между ушами у них плещется вино, их можно уговорить на что угодно.
Так или иначе, с точки зрения индейца, пульке приближает человека к некоему священному порогу, что и понятно, ибо две эти культуры – агава и маис – составляют основу местной жизни. Может даже показаться, что между агавой и ацтеками существует некое мистическое родство. Растение умирает вскоре после цветения, и держава ацтеков тоже погибла, просуществовав недолго и перед этим достигнув расцвета.
От философских размышлений меня оторвало противное урчание в желудке. Тортилья с вулканическими перцами была съедена несколько часов назад, а в настоящий момент, не тратя своих сокровищ в виде двух реалов и нескольких оставшихся какао-бобов, я мог подкрепить себя только соком агавы. Хотя бы сырым... если, конечно, мне не удастся украсть перебродивший.
Я знал, что на гасиендах индейцы часто прячут сосуды с брагой подальше от глаз надсмотрщиков и управляющих, и теперь, озирая поле, задавался вопросом, где тут лучше всего было бы устроить такое укрытие. Лично я, уж конечно, не оставил бы такое сокровище на одной из голых прогалин, а засунул его в самую гущу, достаточно далеко, чтобы не попадалось на глаза, но, однако, так, чтобы в любой момент можно было найти.
Итак, я стал обходить заросли, выискивая подходящие места намётанным взглядом воришки. Чутьё и опыт меня не подвели, хотя времени на поиски ушло больше, чем я думал. Глиняный кувшин с перебродившим пульке был найден примерно за полчаса, однако столь долгие поиски я приписал не своим просчётам, но исключительно невежеству индейцев, спрятавших напиток не так хитро, как сделал бы это я сам.
Стоило пульке пролиться струйкой по моему горлу, как из желудка по всему телу начало распространяться тепло. А поскольку было понятно, что спать ночью на земле, имея в качестве одеяла только накидку, будет холодновато, я снова приложился к кувшину с божественным напитком, впрок запасаясь теплом.
Вернувшись в лагерь, я сел под облюбованным ранее хвойным деревом, привалившись к стволу. Голова моя малость кружилась, но настроение заметно улучшилось, за что, видимо, следовало благодарить Пернатого Змея.
Неподалёку остановился на привал владелец плантации сахарного тростника, сопровождаемый тремя своими vaquero и негром-рабом. Последний, как я заметил в свете лагерного костра, был сильно избит: мало того что по его лицу прошлись кулаками, так ещё, судя по рваной окровавленной одежде, беднягу изрядно отходили плетью. Ничего необычного в этом зрелище не было – я не раз видел жестоко избитых африканцев, индейцев и полукровок. Насилие и страх – это именно то, что позволяет меньшинству держать в подчинении большинство.
Прикрыв глаза, я прислушивался к рассказу рабовладельца, хозяина гасиенды к востоку от Веракруса, который беседовал с другим gachupin. Речь как раз шла об этом рабе.
– Это escapade[28]28
Беглец (исп.).
[Закрыть], – пояснил хозяин. – Нам потребовалось три дня, чтобы его изловить. Ему уже досталось, но это только цветочки. Настоящую кару он понесёт на плантации, на глазах у всех: после такого урока всем черномазым будет неповадно даже помышлять о побеге.
– Хорошо бы ещё заодно изловить и всех тех разбойников-маронов, от которых на дорогах житья не стало, – заметил его собеседник. – По всей округе грабят и насилуют. А испанцев убивают без пощады.
И тут я понял, что видел плантатора раньше: он заходил иногда в церковь в Веракрусе. Этот человек всем был известен как грубый, жёсткий, волосатый hombre malo[29]29
Злодей (исп.).
[Закрыть], который кастрировал своих рабов и насиловал рабынь, а уж порол, без различия пола и возраста, всех невольников, попадавшихся ему на глаза. Даже его соотечественники испанцы были о нём дурного мнения. Как-то раз, когда я зашёл в церковь – в ту пору меня приводило туда всякое порицание со стороны отца Антонио, – этот злодей тоже появился там вместе с рабом, юношей примерно моих лет, которого он жестоко избил за какой-то проступок. ¡Que diablo![30]30
Вот дьявол! (исп.)
[Закрыть] Он привёл мальчика в церковь обнажённым, с болтающимся реnе, причём даже не привёл, а приволок на собачьем поводке.
Когда я поведал об этом клирику, он сказал, что нечестивец будет гореть в аду.
– В душах некоторых людей кипит чёрная злоба, которая выплёскивается наружу в виде жестокости. Этот человек ненавидит чернокожих. Он заводит рабов, чтобы издеваться над ними. Он организовал Santa Hermandad, так называемое Святое Братство – местное испанское ополчение, якобы для поддержания королевского закона, а в действительности же для того, чтобы охотиться на беглых рабов, как другие охотятся на оленей.
И теперь я вспоминал слова клирика, прислушиваясь к громкой похвальбе этого человека, взахлёб рассказывавшего и об охоте на беглецов, и о своих утехах с африканскими женщинами. Каково это – быть рабом сумасшедшего, человека, который может бить тебя, когда ему вздумается, и насиловать твою жену из прихоти? Принадлежать безумцу, который способен убить тебя просто так, под настроение?
– Этот зверёныш утверждает, будто в своей стране он принц, – рассмеялся рабовладелец и запустил в связанного раба подобранным с земли камнем. – Сожри это на ужин, принц Янага. – Он снова расхохотался.
– А негодяй довольно крепкий, – заметил другой испанец.
– Это пока я им не занялся.
¡No рог Dios! ¡Castraci6n! Беднягу собрались кастрировать!
Я бросил взгляд на раба, и наши глаза встретились. Негр уже знал свою судьбу, но если сначала его глаза показались мне пустыми, то затем я увидел в них боль. Не просто физические страдания от побоев, но боль унижения и отчаяния. Этот взгляд говорил мне, что он не животное, но человек. Что он тоже человек! Ni thaca!
Не в состоянии больше смотреть на страдальца, я отвёл взгляд. Рабов кастрируют, поскольку считается, что это делает их более покладистыми, – точно так же быков оскопляют, чтобы сделать их мясо нежнее, а норов мягче.
Сидевший неподалёку торговец, видимо почувствовав в моём взгляде возмущение, проворчал:
– Рабы принадлежат господам, это их собственность, а собственностью каждый вправе распоряжаться как угодно – хоть на полях, хоть в постели, где кому заблагорассудится. Негры, как и индейцы, gente sin razon, народ неразумный. Словно дети. Но у тех и у других, по крайней мере, чистая кровь. Кто настоящие выродки, так это метисы вроде тебя.
Я встал и перебрался на ночлег под другое дерево. Выслушивать это молча мне не хотелось, но ответить означало получить основательную взбучку.
«Gachupines пришпоривают собственные задницы», – презрительно говаривал отец Антонио о некоторых носителях шпор, ибо как креол частенько обижался на высокомерие уроженцев Иберийского полуострова. Но, сам будучи метисом, я прекрасно знал, что в большинстве своём criollos относятся к неграм, индейцам и полукровкам не лучше испанцев, прибывших из Европы. В них говорила обида на тех, кто не подпускал их к высоким должностям в церкви и управлении государством, однако, порицая чужие шпоры, они были склонны забывать о своих собственных, таких же острых.
19
Я крепко заснул, а когда проснулся, стояла тёмная ночь. Небо затягивали тучи, и плывущая по нему призрачная луна то пропадала из виду, то ненадолго появлялась снова. Когда она скрывалась за облаками, воцарялась и вовсе непроглядная тьма. Ночь была наполнена криками ночных птиц, шорохом кустов, когда в лесу двигалось что-то крупное, и шумами, издаваемыми обозом, – храпом, стонами во сне, фырканьем мулов.
Уж не знаю, что было тому причиной – то ли эта ночь, то ли избыток выпитого накануне пульке, напитка, опьяняющего даже богов, – но меня посетила шальная мысль и не отпускала до тех пор, пока я не совершил поступок, который счёл бы безумным всякий léреrо.
Удостоверившись, что всё вокруг тихо и неподвижно, я поднялся с земли, достал нож и, пригибаясь, двинулся подальше от стоянки, к зарослям агавы. Если бы в тот момент меня кто-то увидел, то решил бы, что мне приспичило отлучиться в кусты по нужде или, на худой конец, что я затеял стянуть ещё пульке.
Описав круг, я подкрался к тому месту, где был привязан спиной к древесному стволу раб Янага, и, как змея, подполз к самому дереву. Янага изогнулся, пытаясь определить, чем вызван шум, и я, застыв, приложил ладонь ко рту, призывая его молчать.
В этот миг хозяин раба закашлялся, и я остолбенел. Видеть рабовладельца в темноте я не мог, однако, судя по всему, он просто перевернулся во сне. Спустя мгновение испанец снова захрапел, и я опять двинулся вперёд.
От этого кашля моё сердце чуть не выскочило через глотку: действие пульке стало ослабевать, и, по мере того как хмель выветривался, я начинал осознавать, на что иду. Если меня поймают, то и мне достанется не меньше, чем беглому рабу. Поркой тут не обойдётся: оскопят, как борова.
Меня охватил такой страх, что я едва не уполз назад. Но перед моим мысленным взором стояли глаза Янаги, разумные и страдающие, не глаза тупого животного, но глаза человека, которому ведомы любовь, боль, знание и желание. О, amigos, как я сожалел, что не обладаю храбростью льва, силой тигра! Увы, я был всего лишь никчёмным парнишкой, у которого и своих-то неприятностей выше головы. Лучше прилечь, хорошенько выспаться, а с утра пораньше пуститься в дорогу, чтобы оставить преследующих меня адских псов как можно дальше позади. Нет ни славы, ни прибыли в том, чтобы помочь рабу сбежать. Даже мой добрый покровитель не стал бы требовать, чтобы я шёл на риск: глупо лишиться собственных гениталий ради спасения чужих.
Да, что ни говори, а носители шпор правы. Метисы – существа неразумные и, предоставленные сами себе, способны вытворять несуразные вещи. Вот и я, например, уступив своим низменным инстинктам, подполз к дереву и перерезал верёвки Янаги. Он, понятное дело, ничего не сказал, но мне хватило благодарности в его взгляде.
Едва успев добраться до своего лежбища, я услышал торопливые шаги – Янага проскользнул мимо и скрылся всё в тех же кустах.
Увы, ему не удалось ускользнуть бесшумно: спустя мгновение рабовладелец уже был на ногах, орал и размахивал шпагой, поблескивавшей всякий раз, когда из-за облаков выглядывала луна. Вокруг поднялась суматоха: все вскакивали и хватались за оружие, не понимая, что происходит. Многие спросонья решили, что на лагерь напали разбойники.
Я же колебался, не зная, что лучше – остаться под деревом или под шумок улизнуть. Смыться бы, конечно, неплохо, но тогда многие догадаются, кто разрезал путы раба. Паника, царившая в душе, подбивала меня бежать сломя голову, но инстинкт выживания приказывал оставаться на месте. Понятно ведь, что по возвращении рабовладелец осмотрит место побега и по разрезанным верёвкам поймёт, что у беглеца был сообщник. Сбежать сейчас – это всё равно что подписать признание.
Тут из зарослей донёсся шум, и сердце у меня упало. Похоже, преследователи настигли бедного Янагу, а я, вместо того чтобы помочь, лишь отягчил его участь. Теперь из кустов отчётливо слышались стоны и болезненные всхлипывания, но темнота не позволяла разглядеть хоть что-то, кроме множества движущихся фигур.
Люди вокруг стали зажигать факелы, а когда толпа с пылающими головешками устремилась на звук, я присоединился к ней, предпочитая не выделяться. Как оказалось, зеваки обступили кого-то, валявшегося на земле и скулившего от боли.
– Боже, да его оскопили! – выкрикнул кто-то.
Тут мне стало совсем не по себе. Помог, называется, человеку! Я протолкался вперёд и воззрился на раненого, корчившегося на земле, зажав окровавленный пах.
Но это оказался вовсе не Янага.
То был его хозяин.
20
Прячась в кустах, я дождался отправления обоза, а когда последний мул, поднимая пыль, двинулся в сторону Ялапы, подошёл к ближайшей индейской хижине и купил себе на завтрак тортилью. Женщина-индианка – несомненно, жена земледельца, у которого я украл пульке, – была молода, чуть старше меня. Однако суровая жизнь – работа на полях, вечные заботы по дому и рождение одного, а то и двух детей ежегодно – состарила её прежде времени. К двадцати пяти годам бедняга превратилась чуть ли не в старуху, и даже во взгляде её тёмных печальных глаз не было и намёка на молодой блеск. Вместе с тортильей она одарила меня грустной улыбкой, а от предложенного мною какао-боба отказалась.

Тортилья – в которой на этот раз не было и намёка на бобы, перец или саrnе, мясо, – оказалась моим единственным desayuno, завтраком. Запил я её водой из речушки, благоразумно воздержавшись от нового похода за пульке.
Заморив червячка, я обдумал сложившееся положение и решил не идти дальше, а дождаться отца Антонио здесь, на дороге, благо в том, что он отправится следом за мной, у меня сомнений не было. Стало быть, нет ничего более естественного, чем подождать его на полпути к Ялапе. А если наблюдать за дорогой, не высовываясь из укрытия, то можно углядеть и того головореза, Рамона, вздумай он отправиться по моему следу. Продержаться некоторое время я смогу. Если станет невмоготу, украду ещё пульке, а еды на мои два реала можно накупить уйму.
Другое дело, что, сколько я ни уверял себя, что клирик непременно явится, здравый смысл неизменно подсказывал, что ему могут помешать непреодолимые обстоятельства.
И в таком случае я окажусь предоставленным самому себе. Чем же я стану питаться? Где буду ночевать? Вот какие мысли донимали меня, когда я лежал в кустах и следил за дорогой из Веракруса в Ялапу.
Ситуация, в которой я оказался, не слишком отличалась от той, что была описана в романе «Vida del Picaro Guzman de Alfarache»[31]31
«Жизнь и приключения хитроумного Гусмана де Альфараче» (исп.).
[Закрыть]. Эта книга – известная нам также под названием «Испанский авантюрист» – была одной из тех, которые отец Антонио безуспешно пытался от меня спрятать. Популярность этого сочинения превзошла даже популярность Дон Кихота, чьи незадачливые похождения приводили в восторг читателей как в Старой, так и в Новой Испании.
Но если Сервантес подписал смертный приговор романтическому рыцарю, то автор романа о Гусмане де Альфараче заменил этого сентиментального героя фигурой, более подходящей для наших циничных времён, – picaro. Как всем известно, picaro – это плут, аморальный тип; он не желает трудиться в поте лица, а предпочитает жить благодаря своей сообразительности и умению хорошо владеть мечом.
Как и поэт-меченосец, бродяга и авантюрист Матео, picaro Гусман тоже был беспечным бродягой. Искатель приключений, сам не способный похвалиться ни богатством, ни знатностью рода, он странствовал по миру, общаясь с людьми всех званий, профессий и любого достатка, едва успевая в очередной раз унести ноги, чтобы избежать кары за мошенничество, воровство и соблазнение чужих жён.
Сага Гусмана начинается в Севилье, являвшей собой венец и славу величайших городов Испании. Абсолютно все сокровища Нового Света направляются не куда-нибудь, а в Севилью. Несколько лет тому назад один матрос казначейского флота рассказал мне, что улицы Севильи вымощены золотом и только самым красивым женщинам мира разрешается вступать в городские стены.
Приключения нашего picaro начинаются с того, что его расточительный и распутный отец, промотав состояние, умирает, оставив отпрыска без гроша. Тому приходится самостоятельно искать себе средства к существованию, и делает он это, похоже, точь-в-точь как его малопочтенный папаша. Недаром говорят, что дурной пример заразителен.
В юном возрасте Гусману приходится столкнуться с суровой действительностью, однако уроки жизни даются ему легко, ибо, несмотря на отсутствие опыта, молодой человек обладает задатками прирождённого плута. Этот нахальный проходимец чувствует себя своим повсюду, в любом обществе – и выпрашивая медяк у свинопаса, и трапезничая с графом в его родовом замке.
Переменчивая судьба увлекает нашего picaro из Испании в Италию, причём, лишившись по дороге последних денег и приличной одежды, он не брезгует никакими занятиями, от попрошайничества до шулерства. А один раз даже предпринимает попытку заняться честным трудом – нанимается поварёнком, – но низменные инстинкты и тут берут верх. Гусман крадёт серебряную чашу, чем повергает в ужас повара и его жену (те боятся, что хозяин обвинит их в пропаже, побьёт или даже отправит в тюрьму), а потом преспокойно продаёт эту чашу вконец отчаявшимся супругам, выдав её за другую, доставшуюся ему по случаю, но очень похожую, а получив деньги, пускается во все тяжкие. Конечно, его барышей хватает ненадолго – очень скоро наличность тает, оседая за карточными столами или в кошельках распутных женщин.
В Италии Гусман ведёт тот же образ жизни, не выходя из круговорота пороков: шулерство сменяется попрошайничеством, попрошайничество – жульничеством, жульничество – воровством. Шальные деньги как приходят, так и уходят, и, сколько бы нашему герою ни везло в тех или иных проделках, он снова и снова оказывается с пустыми карманами.
Пережив немало приключений и чудом избежав многих опасностей, Гусман в конце концов оказывается в Риме, столице католического мира, где вступает в сообщество нищих, объявляющее себя не сборищем попрошаек, а гильдией, такой же, как и другие цеха ремесленников, действующей на основании устава, свода письменных правил и предписаний.
Ничего себе порядки у них в Риме! Могу представить, что было бы, сунься я к алькальду Веракруса с просьбой утвердить устав для гильдии léperos! Ясное дело, он объявил бы меня сумасшедшим. И был бы прав, ведь нищие и бродяги, для которых предназначались бы эти правила, всё равно не смогли бы их прочитать.
Если раньше Гусман считал себя большим мастером в сборе милостыни, то сейчас он понимает, что римлянам, некогда покорившим мир, есть чему поучить иноземцев и по части попрошайничества. В частности, новичку объясняют, что к мужчинам и женщинам требуются совсем разные подходы. Вот, например, поучает его наставник, плач и стенания неплохо размягчают сердца дам, но у кавалеров не вызывают ничего, кроме раздражения, – лучше просто попросить их о помощи. Что же до женщин, то не стоит забывать об их религиозных чувствах – они падки на обещания неустанно молиться Мадонне от избавления их от всех мыслимых напастей, тут уж кто из попрошаек сколько перечислит. Если их растрогать, подают совсем недурно.
Паренька учат изображать волчий голод, когда в качестве подаяния предлагают снедь, разучивают с ним убедительные интонации, разъясняют, что на работе (попрошайничество считается профессией) нельзя надевать новую одежду, только лохмотья, голову ни в коем случае не прикрывают шляпой, только намотанной тряпицей. Подаяние следует собирать не в карман, и уж точно не в кошель, а исключительно в миску или плошку. Очень способствуют выручке маленькие дети, желательно оборванные и исхудавшие, лучше всего грудные младенцы. Особое искусство позволяет имитировать проказу, покрывать руки и ноги «ужасающими язвами», заставлять конечности выглядеть раздувшимися, выворачивать их из суставов, нагонять на лицо смертную бледность. Со всеми этими цеховыми секретами, равно как и с уставом гильдии, Гусмана знакомят лишь после того, как он даёт обет молчания.
Впрочем, непоседливая натура Гусмана очень скоро даёт себя знать: нищенский образ жизни надоедает picaro, и он, разумеется мошенническим путём, вновь попадает в высшее общество. Выдаёт себя за юного аристократа, соблазняет знатных дам и в конце концов вынужден бежать, спасаясь от гнева ревнивых мужей.
Мечущийся из одной крайности в другую, наш герой, ощутив раскаяние, обращается к Богу, но обращение его длится недолго. Перед самым посвящением в сан picaro сбегает с блудницей, которая вскоре бросает Гусмана, прихватив на память всё неправедно нажитое им богатство до последнего песо.
Затем судьба сводит Гусмана с его родной матерью, однако та, вместо того чтобы отвадить сына от стези порока, объединяет с ним преступные усилия. Пойманный и приговорённый к галерам, он избегает участи прикованного к веслу раба: доносит на замысливших бунт товарищей по несчастью – ценой их гибели покупает свободу.
Роман написан от лица Гусмана, и воспоминания проходимца завершаются следующим пассажем: «Любезный читатель, я развлёк тебя рассказом об основных приключениях моей жизни. О том же, что воспоследовало за всемилостивейшим указом нашего короля, подарившего мне свободу, ты, возможно, узнаешь позже – если я проживу достаточно долго, дабы успеть об этом поведать».
Ах, Гусман, проживу ли я достаточно долго, чтобы успеть рассказать людям обо всех моих приключениях?
Право же, я мог быть только признателен плуту, подражая которому сумел стать лучшим попрошайкой на улицах Веракруса, и мог лишь надеяться, что со временем мне удастся справиться со всеми обрушившимися на меня невзгодами и трудностями так же, как справился он сам – одолев врагов хитростью, ловкостью и умом.
Надо признаться, что по большому счёту Гусман стал моим кумиром, ибо благодаря этому picaro я открыл для себя не только (да и не столько) искусство попрошайничества, сколько особый образ жизни. Когда в тот день я лежал в придорожной тени, размышляя о Гусмане, ожидая клирика и гадая, что же мне делать, коли он не появится, – я понял, что свой путь по жизни мне предстоит проделать в экипаже авантюриста. Как и Гусману, в силу обстоятельств мне приходилось делать всё, чтобы выжить. И если мне потребуется до гробовой доски лгать, воровать, мошенничать и развратничать... что ж, значит, так тому и быть.
Однако, оглядываясь на свою убогую жизнь léрего, я ощущал стыд. Не потому, что совершал нечто недозволенное, но потому, что при моих-то задатках не нашёл себе лучшего применения, чем роль побирушки. А ведь я, помимо всего прочего, читал по-латыни и по-гречески, а также мог объясниться на многих местных наречиях.
Мне вдруг стало ясно, что книга попала в мои руки не случайно. Сам Господь, позволив мне познакомиться с похождениями Гусмана, указал таким образом моё предназначение и истинный путь в жизни.