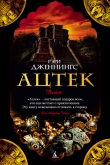Текст книги "Кровь ацтека. Том 1. Тропой Предков"
Автор книги: Гэри Дженнингс
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 29 страниц)
3
Люди называют меня Кристо Бастард, хотя, по правде говоря, при крещении Бастардом меня не нарекали. Нет, меня назвали Кристобалем в честь Иисуса Христа, единственного Сына Божия. Ну а Бастард – это кличка, данная в ознаменование того, что зачавших меня родителей не связывали священные узы брака.
Однако Бастард не единственное моё прозвище – и, надо признаться, не самое худшее. Мне случалось носить и ещё менее лестные для самолюбия имена. Некоторое время меня знали как Кристо Прокажённого. Лепрой я никогда не болел, но меня прозвали так за тесную связь с теми людьми смешанной крови, которых верхи общества считают изгоями, как бы приравнивая их к прокажённым. Между тем сожительство испанцев с индейскими женщинами, как насильственное, с использованием разных форм принуждения, так и по взаимной склонности, распространено достаточно широко, и, соответственно, на свет появляются многочисленные отпрыски этих союзов. Судьба их в большинстве случаев плачевна, ибо оба народа – соплеменники как отца, так и матери – отвергают этих несчастных. Неудивительно, что многие из них стыдятся своего происхождения и стараются скрыть его, но я в этом смысле составляю исключение. Я не только признаю, что в моих жилах течёт смешанная кровь, но и горжусь этим, горжусь тем, что являюсь потомком двух славных, благородных народов.
О моих многочисленных именах, прозвищах, а также о том, чему я был ими обязан, равно как и о том, где спрятаны сокровища, будет рассказано позднее – здесь я уподобляюсь той сказочной персидской принцессе, которая вдохновенно сочиняла по ночам затейливые истории, прерывая их к утру на самом интересном месте, чтобы сохранить свою голову на плечах.
«Кристобаль, признайся, где ты прячешь драгоценности, серебро и золото?»
Этот непрерывно повторявшийся вопрос капитана тюремной стражи жжёт меня, как угли из жаровни моих мучителей. Ну что ж, дойдёт очередь и до сокровищ, но прежде мне хотелось бы поведать о своём рождении, о детстве и юности, о трудностях, которые довелось преодолевать, и о всепобеждающей любви, которую посчастливилось испытать. И я вовсе не намерен торопиться, наоборот, я полагаю, что воспоминания надобно смаковать, растягивая удовольствие. Терпение есть та добродетель, которую привило мне пребывание в темнице вице-короля.
Ведь палача-мучителя никто не торопит.
Заранее прошу тех, кому выпадет прочесть эти строки, извинить меня за корявый почерк, не достойный столь гладкой белой бумаги. Вообще-то искусством письма я владею не хуже иных священников, и если по нынешним моим каракулям этого не скажешь, то виной тому старания брата Осорио. Мудрено сохранить хороший почерк, если твои пальцы раздавлены в тисках и писать приходится, держа перо между ладонями.
Amigos, стоит ли мне описывать вам, какое удовольствие я испытал бы, встретив один на один доброго брата на большой дороге на обратном пути в Веракрус? О, я и сам научил бы его некоторым приёмам, которые наверняка пригодились бы святой инквизиции, насаждающей добро и искореняющей зло, причиняя людям страдания. Чего стоят одни эти дьявольские паразиты, которых тюремщик смел с пола и насыпал мне на кожу, чтобы довести мои муки почти до невыносимой крайности. Право же, я мог бы не просто использовать этот изощрённый приём, но и усовершенствовать его. Почему бы, например, не вспороть доброму брату брюхо и не засунуть туда пригоршню-другую копошащихся многоногих тварей...
Несмотря на ущерб, нанесённый телу, духом я по-прежнему крепок и упорно держусь за правду, ибо она есть то единственное, что у меня осталось. Всё остальное у меня отняли – свободу, любовь, честь, даже одежду, ибо теперь я наг перед лицом Бога и перед крысами, что делят со мной эту темницу.
Однако правда всё ещё обитает в моей душе, в том святилище, проникнуть в которое смертному не дано. Правду нельзя украсть, нельзя отнять, и даже дыба бессильна перед ней, ибо она есть прибежище Бога.
Я держусь за неё, как держался за свою мечту Дон Кихот, идальго, человек с мечтами, порывами и стремлениями столь же необычными, как и у меня. Похоже, мне на роду было написано исполнять особую роль, что делало меня непохожим на других людей. Жизнь моя всегда была окутана множеством мрачных тайн: как довелось мне проведать, даже само моё рождение свершилось под завесою тёмных мыслей и непотребных деяний.
Вы можете указать мне на то, что все странствия и приключения славного рыцаря Дон Кихота есть не более чем бредовые выдумки Сервантеса, искалеченного на войне с маврами и ввергнутого в заточение. Боюсь, если я позволю себе заявить, будто в числе многих иных приключений мне довелось также сражаться за некое сокровище бок о бок с настоящим Дон Кихотом, мой ответ мигом наведёт вас на мысль о безумии рассказчика. Однако это правда.
Ну что ж, скажите доброму брату, чтобы он убрал подальше свои раскалённые клещи и подождал, когда я в своём рассказе доберусь до сокровищ – пока я к этому ещё не готов. Его слишком пылкие «братские объятия» несколько смешали мои мысли. На то, чтобы привести их в порядок и вернуться в воспоминаниях как к перлам жизни, так и к тем мирским сокровищам, коих столь вожделеет вице-король, требуется время. Мне надлежит мысленно обратиться к истокам, к тем временам, когда я был вскормлен волчицей и пил вино своей юности.
Итак, amigos, я начну с самого начала и разделю с вами всё золото собственной жизни.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

У тебя нет матери.
Падре Антонио
4

Называйте меня Кристо.
Я родился в деревушке Агетца, в просторной долине, которая в былые времена именовалась долиной Мешико. Мои предки ацтеки строили здесь храмы, чтобы почтить богов солнца, луны и дождя, но после того как Кортес и его конкистадоры сокрушили индейских богов, вся земля, вместе с населявшими её индейцами, была поделена на большие гасиенды – феодальные владения, принадлежавшие испанским грандам. Состоявшая из нескольких сотен йакальс – хижин, на строительство которых пошли высушенные на солнце кирпичи из замешанной с соломой глины, – деревня Агетца со всеми её жителями вошла в состав гасиенды дона Франсиско Переса Монтеро де Ибарра.
Неподалёку от реки, на том же её берегу, где и сама деревня, стояла маленькая каменная церквушка, тогда как по другую сторону находились амбары, загоны, конюшни и хозяйский дом. Толстые, высокие стены с бойницами и крепкие ворота с железными скрепами делали этот дом похожим на крепость. На стене, рядом со входом, красовался хозяйский герб.
Говорят, что в наше время в пределах владений испанской короны никогда не заходит солнце, ибо они включают в себя не только Европу, но и несчётные земли по всему миру, включая большую часть Нового Света, лежащие за морем Филиппины, а также колонии в Индии и в Африке. Но одной из самых драгоценнейших жемчужин, украшающих эту корону, по праву считается именно Новая Испания с её несметными богатствами, плодородной землёй и залежами серебра.
Испанцы обычно называют всех индейцев Новой Испании ацтеками, хотя в действительности существует великое множество различных племён – тобоко, отоми, тотомак, сапотеки, майя и другие, причём зачастую у каждого из них свой собственный язык.
Мне с раннего детства довелось освоить и науатль, язык ацтеков, и испанский.
Как уже упоминалось ранее, в моих жилах смешалась кровь испанцев и индейцев. Такие, как я, не имеют права называть себя ни испанцами, ни индейцами, нас презрительно именуют метисами. Падре Антонио, деревенский священник, благодаря которому я получил воспитание и образование, говорил, что метис рождается на границе между раем и адом, где обитают те, чьи души лишены радости небес. Вообще-то этот мудрый падре ошибался редко, но проклятие метисов истолковал неправильно. Уже с самого их рождения нам отведено место не в чистилище, а прямо в аду, причём в отличие от прочих метисы попадают туда при жизни.
Деревенская католическая церковь была построена на месте, где некогда стоял храм, посвящённый Уицилопочтли, покровителю ацтеков, могущественному богу войны. После испанского завоевания языческое святилище разрушили, а из его камней на том же месте возвели христианский храм. С тех пор индейцы воздавали хвалу Иисусу, а не своим богам.
Гасиенда жила собственной жизнью, представляя собой как бы маленькое королевство. Жившие и работавшие там индейцы выращивали маис, бобы, тыквы и другие полезные растения, разводили лошадей, овец, свиней и рогатый скот. В деревенских мастерских производилось почти всё, что могло найти применение на гасиенде: от подков и плугов до примитивных, с деревянными колёсами повозок, на которых возили урожай. Разве что предметы изысканного убранства хозяйского дома, фарфоровую посуду и тонкое бельё для постели дона Франсиско привозили издалека.
Я жил в хижине вместе со своей матерью, Миахой. Правда, её крестили и назвали на христианский манер Марией в честь благословенной матери Христа. Полное же ацтекское имя Миахауцуитль означает на нашем языке науатль Бирюзовый Цветок Маиса. Именно так её, как правило, все и называли – правда, не в присутствии деревенского священника.
Так вот, эту самую Марию-Миахауцуитль я долгое время и считал своей родной матерью. Я называл эту женщину Миахой – так, как она сама предпочитала.
Все знали, что дон Франсиско спит с Миахой, и все считали, что я его сын. Бастарды, рождённые индейскими женщинами от испанцев, не пользовались любовью ни того ни другого народа. Дону Франсиско и в голову не приходило увидеть во мне родного сына, он считал меня лишь очередной рабочей скотиной в своём поместье и любил не больше, чем какую-нибудь корову, пасшуюся на лугу.
Индейцы относились ко мне ничуть не лучше. Дети нипочём не хотели играть с господским ублюдком, и я очень рано усвоил, что у полукровок вроде меня руки и ноги существуют исключительно для того, чтобы защищаться от обидчиков.
Не было для меня прибежища и в хозяйском доме. У дона Франсиско имелось трое законных отпрысков: сын Хосе на год старше меня и дочери-близнецы Марибель и Изабелла, на два года старше. Братом они меня, естественно, не считали, играть со мной им не позволялось, а вот бить и обижать меня можно было вволю.
Но хуже всех ко мне относилась донья Амалия. Для неё я был олицетворением греха – живым свидетельством того, что garrancha, мужской член её мужа, благородного дона, побывал между ног у индианки.
Таков был мир, в котором я вырос. Наполовину испанец и наполовину индеец по крови, но не принятый ни теми ни другими, я уже с младенчества был проклят, ибо моё рождение окутывала страшная тайна, которая рано или поздно обязательно выйдет наружу и потрясёт сами основы одного из наиболее знатных семейств Новой Испании.

«Что это за тайна, Кристобаль? Ну-ка, расскажи нам о ней!» – Аййо, слова тюремщика появляются на моей бумаге, как чёрные призраки!
Терпение, сеньор капитан, терпение. Настанет время, когда вы прознаете и о тайне моего рождения, и о многом другом, столь же сокровенном. Я открою тайны сии в словах, которые смогут увидеть слепые и услышать глухие, но сейчас это мне не под силу, ибо рассудок мой слишком ослаб от голода и мук. Придётся подождать, пока я не наберусь сил, для чего требуются время, приличная еда и свежая вода...

Наступил день (мне тогда шёл двенадцатый год), когда я воочию увидел, как обращаются с такими, как я, носителями дурной крови, если они восстают. Выйдя как-то раз из материнской лачуги с острогой в руках, я вдруг услышал топот копыт и крики:
– Живо! Быстрее! Шевелись!
Два верховых гонят перед собой бичами бегущего человека. Он бежит, спотыкаясь, лошади дышат ему в затылок, их мощные копыта молотят землю у него за спиной. Бедняга бежит по деревенской тропке мне навстречу.
Всадники были испанцами, дон Франсиско нанял их охранять гасиенду от разбойников. На сей случай у них имелись мушкеты, а бичи служили, чтобы держать в покорности работающих на полях индейцев.
– Шевелись, выродок!
Бегущий человек был полукровкой, как и я. Одеждой он не отличался от крестьян-индейцев, но более высокий рост и светлый оттенок кожи указывали на примесь испанской крови. На нашей гасиенде я являлся единственным метисом и этого человека видел впервые, но знал, что в долине есть и другие полукровки. Порой кто-то из них проходил через гасиенду с одним из торговых обозов, периодически появлявшихся у нас, чтобы оставить необходимые припасы в обмен на шкуры, маис и бобы.
На моих глазах один из всадников нагнал метиса и хлестнул его с такой силой, что тот пошатнулся и ничком повалился на землю. Стало видно, что вся его рубаха сзади безжалостно располосована плетьми, а спина окровавлена. Второй солдат ткнул беднягу в спину тупым концом пики, и тот, с трудом поднявшись, шатаясь, продолжил путь по деревенской улочке в нашу сторону. Ноги едва держали парня, но стоило ему замешкаться, как на него снова сыпались удары.
– Кто это? – спросил я у матери, когда они приблизились ко мне.
– Беглый раб, – пояснила она. – Метис, сбежавший с одного из северных серебряных рудников. Подошёл сдуру к работавшим в поле крестьянам, попросил еды, а те сдали его солдатам. Хозяева рудников выплачивают награду тому, кто поймает беглеца.
– А почему они бьют его?
На столь глупый вопрос мать даже не стала отвечать. С равным успехом я мог бы спросить её, почему бьют быков, тянущих плуг. Метисы и индейцы – это и есть тягловый скот, им запрещено покидать гасиенды, они принадлежат хозяевам, и их погоняют плетьми, точно так же, как и животных. Правда, королевские законы ограничивают произвол в отношении индейцев, но вот насчёт полукровок там ничего не сказано, а стало быть, никто их и не защищает.
Когда бедолага оказался совсем рядом, я увидел, что лицо его представляет собой то ли сплошную зарубцевавшуюся рану, то ли огромный синяк.
– Это что, клеймо такое? – неуверенно осведомился я.
– Конечно, – ответила Миаха. – Владельцы рудников клеймят своих рабов, а когда такого раба перепродают другому хозяину, тот выжигает новое клеймо. Видимо, этот человек менял хозяев много раз, поэтому и лицо у него такое.
О подобном обычае мне уже рассказывал наш священник. Он объяснял, что, когда первые конкистадоры получали от короны земельные владения вместе с проживающими на этих землях индейцами, многие хозяева стали клеймить своих людей с целью предотвращения побегов.
Подобная практика получила весьма широкое распространение, но в конце концов король запретил использовать её в отношении индейцев, работающих на испанских землевладельцев. Теперь клеймом отмечали лишь рабов и преступников, обречённых на каторжный труд в ужасающих условиях рудников.
Поднявшийся шум выманил из хижин индейцев, которые отреагировали на происходящее злобными выкриками «выродок!», предназначавшимися, похоже, не столько беглому каторжнику, сколько мне. Когда я обернулся на ругань, один из земляков поймал мой взгляд и сплюнул на землю.
Однако стоило моей матери обозвать его идиотом, как он моментально стушевался и спрятался за спины своих приятелей. Жители деревни могли презирать меня как полукровку, но ссориться с моей матушкой желающих находилось мало. С одной стороны, её индейская кровь была такой же чистой, как и у них, с другой – и это гораздо важнее – все знали, что Миаха спит с хозяином гасиенды. При этом на меня, его сына, всем было наплевать, и родному отцу в первую очередь.
Наверное, кому-то это покажется странным, но индейцы носились с sangre puro, чистотой своей крови, чуть ли не так же, как и испанцы. А к метисам относились даже ещё хуже, чем конкистадоры, потому что полукровки вроде меня служили им живым напоминанием о власти чужестранцев, захвативших их земли и творящих насилие над их женщинами. Я же был всего лишь мальчишкой, и окружавшая меня атмосфера всеобщего презрения сокрушала моё сердце.

Когда бегущий человек оказался так близко, что можно было видеть его искажённое мукой лицо, мне вспомнился загнанный олень, которого как-то на моих глазах охотники забили до смерти дубинками. Во всяком случае, взгляд у того несчастного животного был таким же.
Я не знаю, почему взгляд замутнённых страданием глаз беглеца вдруг задержался на мне. Может быть, заметив мою более светлую кожу и несколько иные черты лица, он узнал во мне собрата по несчастью. Но скорее всё дело в том, что я оказался тогда единственным, на чьём лице отразилось потрясение.
– Ni thaca! – крикнул он мне. – Мы тоже люди!
С этими словами он вырвал у меня из рук острогу. Я уж было подумал, что сейчас несчастный использует её как оружие против солдат, своих мучителей, но вместо этого беглый каторжник вонзил остриё себе в живот и навалился на него всем весом. Из его рта и раны, пузырясь, полилась кровь, он упал на бок, корчась на земле.
Мать торопливо увлекла меня в сторону. Солдаты спешились. Один из них пнул умирающего, проклиная его и суля ему ад за то, что он так коварно провёл их, лишив заслуженной награды. Другой, более спокойный и практичный, извлёк меч, резонно указав товарищу, что раз уж они не могут вернуть на рудник беглеца, то на худой конец доставят хозяину голову с клеймом на лице, которую тот сможет выставить на колу, для острастки прочим.
И он рубанул по шее умирающего.
5
Всё своё детство – и младенцем, ползающим по земле, и мальчонкой, играющим в пыли, – я, не будучи ни краснокожим, ни белым, не был привечаем нигде, кроме материнской хижины да маленькой каменной церкви падре Антонио.
Впрочем, в хижине моей матери был привечаем и дон Франсиско. Он приходил каждую субботу после обеда, когда его жена с детьми гостила у подруги на соседней гасиенде.
В это время меня отсылали гулять. Никто из деревенских детей не играл со мной, поэтому я исследовал берега реки, рыбачил и мысленно придумывал себе товарищей по играм. Как-то я вернулся домой, поскольку забыл взять острогу, и услышал странные звуки, доносившиеся из отгороженного занавеской угла, где лежал петат – тюфяк, на котором спала моя матушка. Заглянув за тростниковую занавеску, я увидел Миаху, лежавшую обнажённой на спине. Дон Франсиско стоял над ней на коленях и, громко чмокая, сосал один из её сосков. Меня он не видел, ибо в мою сторону был обращён его волосатый зад, а вот я разглядел его garrancha и cojones, которые раскачивались взад и вперёд, как у быка, собирающегося взобраться на корову.
В испуге я бросился опрометью из хижины и побежал к реке.

Почти всё своё время я проводил с падре Антонио. По правде говоря, он всегда относился ко мне с большим теплом и симпатией, чем Миаха. Нет, она всегда была добра со мной, но вот той любви, той глубокой привязанности, которые были видны в отношении других женщин к своим детям, с её стороны не ощущалось. В глубине души я всегда чувствовал, что смешанная кровь сына заставляла Миаху стыдиться меня перед соплеменниками. Но когда я, разоткровенничавшись, как-то высказал сие предположение священнику, тот сказал, что дело тут вовсе не в этом.
– Миаха как раз гордится тем, что все думают, будто у неё сын от дона Франсиско. Именно тщеславие удерживает её от того, чтобы показывать свою любовь. Похоже, как-то раз эта женщина заглянула в реку, увидела собственное отражение и влюбилась в него.
Мы оба рассмеялись. Я догадался, что падре Антонио сравнил Миаху с тщеславным Нарциссом, про которого рассказывают, будто, залюбовавшись собой, он плюхнулся в пруд и утонул.
Наш добрый священник выучил меня грамоте, едва я начал ходить, а поскольку большая часть великих, заслуживающих прочтения книг написана на латыни и древнегреческом, он научил меня читать на обоих этих языках. Правда, урокам сопутствовали постоянные напоминания о том, чтобы я, упаси господи, не проболтался никому насчёт учения – ни испанцам, ни индейцам. Сами уроки всегда проходили в его комнате, без посторонних. Отец Антонио был сама кротость во всём, кроме моего обучения. Он твёрдо вознамерился, невзирая на мою дурную кровь, сделать из меня учёного и, если в кои-то веки мои успехи не оправдывали его надежд, всерьёз грозился взяться за розгу. Правда, угроз этих, по своей доброте, так ни разу и не исполнил.
Я уж не говорю о том, что для метисов и индейцев обучение вообще было запретным, но даже мало кто из испанцев, если только его не готовили в священники, имел возможность получить хорошее образование. Наш пастырь говорил, что вся грамотность самой доньи Амелии сводилась к умению с грехом пополам нацарапать собственное имя.
Да, священник бескорыстно обучал меня, давал мне возможность, как он выражался, «преодолеть убожество», при этом подвергая себя самого серьёзной опасности. Благодаря отцу Антонио и его книгам я узнал о других мирах. В то время как другие мальчики, едва научившись ходить, отправлялись помогать своим родителям на поля, я сидел в маленькой каморке священника позади церквушки и читал «Одиссею» Гомера и «Энеиду» Вергилия.
Разумеется, трудиться на гасиенде были обязаны все, и, будь я индейцем, место моё было бы со всеми на поле, однако священник объявил, что я стану исполнять обязанности его помощника и церковного служки – что я и делал. Самые ранние мои воспоминания связаны с тем, как я подметаю церковь помелом из прутьев на целую голову выше меня и стираю пыль с маленького собрания переплетённых в кожу книг – Священного Писания, сочинений классиков, древних анналов и трактатов по медицине.
Падре Антонио не только заботился о душах всех прихожан, проживавших на гасиендах в долине, наш священник также слыл первейшим лекарем на всю округу. Испанцы проделывали многодневный дальний путь, чтобы испросить его медицинского совета, и он никогда не отказывал этим «невежественным беднягам», как он их вполне справедливо называл. Правда, индейцы чаще боролись с хворями с помощью собственных целителей и колдунов. В нашей маленькой деревушке тоже жила своя ведьма-знахарка, к которой можно было обратиться, чтобы наслать проклятие на недруга или изгнать демонов болезни.
Ещё в весьма раннем возрасте я начал сопровождать священника в его пастырско-врачебных посещениях тяжелобольных, не способных самостоятельно добраться до церкви. Поначалу все мои обязанности сводились к тому, чтобы прибираться за падре Антонио, но вскоре я смог стоять рядом с ним и подавать лечебные снадобья или инструменты, когда он работал с пациентами. Я наблюдал за тем, как он смешивал эликсиры, а впоследствии и сам научился готовить такие составы. А заодно научился вправлять сломанные кости, извлекать мушкетные пули, зашивать раны и восстанавливать телесные соки с помощью кровопускания, хотя по-прежнему сопровождал всюду священника лишь под видом слуги.
К тому времени, когда под мышками и между ног у меня начали расти волосы, я уже изрядно поднаторел в подобных искусствах. Никто, включая дона Франсиско, вовсе не обращавшего на меня внимания, разумеется, об этом не знал – до тех пор, пока однажды, будучи двенадцатилетним подростком, я по оплошности сам себя не разоблачил.
Этому случаю суждено было стать началом целой цепи событий, которые изменили мою жизнь. Причём, как это часто бывает, перемены происходили не постепенно, с неспешной безмятежностью лениво текущей реки, но взрывообразно, словно вдруг пришла в действие огненная гора; испанцы называют такие горы вулканами.
Всё произошло во время осмотра одного управляющего гасиендой, который жаловался на боль в животе. Прежде мне этого испанца видеть не доводилось, но люди говорили, что это новый управляющий самой большой в долине гасиенды, принадлежавшей некоему дону Эдуардо де ла Серда. Которого я, кстати, тоже отродясь не видал.
Дон Эдуардо де ла Серда был gachupin, носитель шпор: так называли чистокровных испанцев, родившихся в самой Испании. Да, представьте, конкистадоры различались по месту рождения. Вот, например, наш господин, дон Франсиско, родился уже в Новой Испании, а потому, согласно господствовавшим в обществе представлениям, при всей чистоте крови и несмотря на то что являлся владельцем большой гасиенды, официально именовался criollo, креолом. А креолы, всего лишь из-за того, что им не посчастливилось родиться в Испании, считались стоящими на общественной лестнице ниже gachupines.
Правда, amigos, для индейцев и полукровок никой разницы между этими категориями белых господ не было. Шпоры и тех и других пускали кровь одинаково больно.

Итак, однажды нашего священника пригласили в дом дона Франсиско, чтобы тот осмотрел гостившего у нашего хозяина соседского управляющего Энрике Гомеса, внезапно занедужившего после полуденной трапезы. Я сопровождал отца Антонио в качестве его слуги и нёс кожаную сумку, в которой он держал свои медицинские инструменты и флаконы с основными снадобьями.
Когда мы пришли, управляющий лежал на кушетке. Отец Антонио принялся рассматривать больного, а тот почему-то уставился на меня. Что-то в моём облике привлекло его внимание, впечатление было такое, будто Гомес когда-то раньше видел меня и теперь узнал, несмотря на боль. Что само по себе было весьма необычным: испанцы никогда не замечают слуг, особенно метисов.
– Видишь, – молвил дон Франсиско, обращаясь к священнику, – наш гость вздрагивает, когда ты нажимаешь ему на живот. Небось перенапряг брюшные мышцы, поскольку лежал на слишком многих индейских девицах дона Эдуардо.
– Девиц слишком много не бывает, дон Франсиско, – откликнулся управляющий, – но, может быть, я и вправду перенапрягся. Слишком рьяно предавался утехам, да и оседлать иных из женщин нашей деревни не легче, чем ягуара.
Он загоготал, обдав меня резким запахом чили и других пряностей, поглощённых им за обедом. Испанцы с удовольствием использовали многие позаимствованные у индейцев острые приправы, но желудки белых людей иной раз сопротивлялись. Вот и сейчас больному необходим был отвар из козьего молока и корня йалапа, чтобы очистить внутренности.
– Труды и девицы тут ни при чём, всё дело в полуденной трапезе, – ляпнул я и тут же сообразил, что совершил непростительную глупость.
Лицо дона Франсиско побагровело от гнева. И то сказать – мало того что я дерзко усомнился в его диагнозе, так ещё фактически обвинил хозяина в отравлении гостя.
Отец Антонио замер с разинутым ртом.
Дон Франсиско наградил меня увесистой оплеухой.
– Ступай наружу и жди.
С угрюмым видом я поплёлся на улицу и присел на корточки, дожидаясь неминуемой порки.
Через несколько минут дон Франсиско, управляющий и отец Антонио вышли наружу: они перешёптывались, и, поскольку смотрели на меня, речь явно обо мне и шла. Мало того, управляющий, похоже, говорил насчёт меня нечто такое, что дона Франсиско повергало в недоумение, а отца Антонио – в испуг. Причём в нешуточный. Я в жизни не видел, чтобы лицо доброго священника было так искажено от дурных предчувствий.
Наконец дон Франсиско поманил меня к себе. Я был высоким для своих лет, но довольно тощим.
– Посмотри на меня, мальчик, – велел управляющий и, взяв меня рукой за подбородок, принялся поворачивать моё лицо из стороны в сторону, словно в поисках какой-то отметины.
Кожа на его руке была темнее, чем на моём лице, потому что у многих чистокровных испанцев она буквально оливковая, но цвет кожи мало что значит в сравнении с чистотой крови.
– Ты понимаешь, что я имею в виду? – сказал он нашему хозяину. – Тот же самый нос, уши – посмотри на его профиль.
– Нет, – возразил священник. – Я хорошо знаю того человека, и сходство между ним и этим мальчиком хоть и имеется, но лишь самое поверхностное. Уж я-то в таких вещах разбираюсь, можете мне поверить.
О чём бы там ни говорил священник, но по выражению лица дона Франсиско было видно, что верить ему он как раз не склонен.
Не желая спорить при мальчишке, дон Франсиско отослал меня к загону для скота, и я уселся на землю возле ограды, в то время как трое белых мужчин продолжали оживлённый разговор, то и дело поглядывая в мою сторону.
Наконец все трое снова ушли в дом, но дон Франсиско очень скоро вернулся с верёвкой из сыромятной кожи и плетью, какой погоняют мулов, привязал меня к коновязи и задал самую сильную порку в моей жизни.
– Запомни раз и навсегда, паршивец: в присутствии испанца ты не должен раскрывать свой грязный рот, пока тебе не прикажут. Ты забыл своё место. Ты метис, полукровка, и впредь больше не забывай о том, что такие, как ты, – все сплошь дураки, лентяи и годятся лишь прислуживать людям достойным и благородным.
Однако, говоря всё это, он упорно таращился на мою физиономию, а потом взял за подбородок и тоже принялся вертеть моё лицо из стороны в сторону, как только что делал управляющий. После чего извергнул особенно грязное ругательство.
– Сходство несомненно, – заявил он. – Эта сука спала с ним.
Отшвырнув меня в сторону, дон Франсиско схватил плеть и устремился, прыгая с камня на камень, к деревне на другом берегу реки.
Вопли моей матери были слышны по всей деревне, а по возвращении я нашёл её в нашей хижине: Миаха валялась в углу с разбитой губой, расквашенным носом и подбитым, уже заплывающим глазом.
– Выродок! – заорала она и ударила меня. – Проклятый метис!
Я в ужасе отпрянул. Порка, полученная от других, тоже не радовала, но то было дело привычное, а вот чтобы родная мать попрекала меня смешанной кровью, это уж вовсе никуда не годилось. Я выбежал из хижины и укрылся на нависавшей над рекой скале, где ударился в слёзы, уязвлённый не столько плетью дона Франсиско, сколько словами матери.
Там меня и нашёл священник.
– Жаль, что так получилось, – промолвил он, давая мне кусочек тростникового сахара. – Но ты сам виноват, Кристо: забыл, кто ты и где твоё место. Взял и раскрыл при всех, что смыслишь во врачевании. Ладно ещё, что они не узнали про книги, которые ты читаешь, – страшно подумать, что бы тогда было.
– А почему дон Франсиско и тот другой человек так странно на меня смотрели? Что наш хозяин имел в виду, когда сказал, что моя мать с кем-то спала?
– Кристо, что касается твоего рождения, то тут есть определённые обстоятельства, о которых ты ничего не знаешь и никогда не узнаешь. Ради твоего же блага это лучше хранить в тайне, ибо в противном случае ты подвергнешься опасности.
Добрый священник больше не сказал ни слова на сей счёт, лишь обнял меня и добавил:
– Твой единственный грех в том, что ты родился.

На гасиенде в ходу были не только лекарства учёного священника – индейская колдунья, да и многие деревенские жители обходились собственными средствами. Зная, что росшие кое-где у реки растения с широкими листьями изрядно способствуют заживлению ран и ссадин, я нарвал их целую охапку, смочил в воде и принёс матери. Чувствуя себя виноватым – ведь из-за меня досталось и ей, – я наложил целебные листья Миахе на больные места.