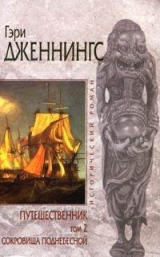
Текст книги "Сокровища поднебесной"
Автор книги: Гэри Дженнингс
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 34 страниц)
Добродетель – это благословение.
Не вкушая сладости, доживешь до старости…
Я бросился обратно в спальню за лампой, чтобы осветить себе дорогу, затем шагнул в темноту и закрыл дверь, от души надеясь, что qali примет прежнее положение и скроет ее. Совсем скоро я обнаружил Маттео, сидящего на холодном влажном каменном полу прохода. Он снова был разодет в наряд отвратительной «великанши» – на этот раз бледно-зеленый – и выглядел еще более оцепенелым и безумным, чем араб. Но дядюшка, по крайней мере, не был выпачкан в спекшейся крови или выделениях человеческого тела. Очевидно, какую бы роль он ни играл в оргии с любовным зельем, она была не самой активной. Хотя дядя ничем не показал, что узнал меня, он не сопротивлялся, когда я взял его за руку, поставил на ноги и потянул за собой по проходу. Он шел и тихонько напевал:
Добродетель не даст на пирушки хаживать,
Может тебя в гроб вогнать еще заживо…
Я никогда прежде не бывал в этом потайном коридоре, но уже в достаточной мере познакомился с дворцом и имел представление, куда вели нас изгибы и повороты. Всю дорогу Маттео продолжал бормотать песенку о добродетели. Мы миновали множество закрытых дверей в стене, но я отошел на значительное расстояние, прежде чем выбрал одну из них, приоткрыл щелку и выглянул наружу.
Она вела в маленький садик неподалеку от того дворцового крыла, в котором мы жили. Я попытался заставить Маттео замолчать, когда вывел наружу, но это оказалось бесполезно. Он пребывал в каком-то другом мире и не обратил бы внимания, даже если бы я поволок его прямо через пруд с лотосами. На наше счастье, поблизости никого не оказалось, думаю, вообще никто не видел нас, потому что я торопил дядю, чтобы поскорее добраться до его покоев. Но там, поскольку я не знал, как найти его потайную дверь, мне пришлось провести его через обычный вход. Нас встретила та же самая служанка, которая впустила меня накануне. Я был слегка удивлен, но больше благодарен женщине, когда она не выказала ни испуга, ни ужаса при виде своего господина, разодетого в причудливый наряд шлюхи. Она снова выглядела печальной и очень расстроилась, когда он стал напевать ей вполголоса:
Добродетель – тропинка к богатству,
На ней не торчат корни, нету на ней и ям…
– Твой господин заболел, – сказал я женщине, потому что это было единственное объяснение, которое я мог придумать, и оно было недалеко от истины.
– Я позабочусь о нем, – ответила служанка с тихим состраданием. – Не беспокойтесь.
Добродетель – могучее дерево, а не сорняк,
И богатство обретаешь, собирая плоды его…
Я с радостью вручил несчастного заботам этой женщины. Пользуясь случаем, хочу заметить, что только благодаря ее уходу и заботам Маттео так долго прожил после этого, потому что разум к нему больше так и не вернулся.
Тот день выдался тяжелым, предыдущий был еще хуже, а между ними я провел бессонную ночь. Поэтому я потащился в свои покои, чтобы передохнуть и самому насладиться заботами служанок и прекрасной Ху Шенг. В тот вечер я составил компанию Али-Бабе и наблюдал, как он напивается до бесчувствия, чтобы приглушить свое горе.
Я больше никогда не видел Ахмеда. Его доставили к Хубилаю, допросили, осудили, признали виновным и приговорили к смерти – все за один день; я расскажу вам обо всем побыстрее. У меня нет желания останавливаться на этом, потому что так случилось, что даже торжество моего мщения оказалось омрачено очередной потерей.
Даже по прошествии долгого времени я не испытываю ни малейшего сожаления, совершенно не раскаиваюсь в том, что уничтожил Ахмеда-аз-Фенакета посредством поддельного письма, обвинив араба в преступлении, которого он никогда не совершал. Он был виновен во многих других преступлениях, будучи насквозь порочным. Разумеется, наш с министром Чао план мог и не сработать, если бы не извращенная натура араба, которая заставила его выпить любовное зелье вместе с Маттео. Поставив опыт с галлюциногенами, он навредил своему проницательному уму, его острый разум притупился, а змеиный язык оказался связанным. Возможно, его рассудок в результате этого опыта был и не настолько поврежден, как у моего дяди, – араб в какой-то момент узнал меня, чего с Маттео так никогда и не произошло, – так что, возможно, Ахмед постепенно и оправился бы, но у него не оказалось на это времени.
Когда главного министра в тот день приволокли в ченг и поставили пред разъяренным великим ханом, предъявив ему довольно шаткие улики его «предательства», Ахмед с трудом мог понять суть происходящего. Все, что можно было сделать в этой ситуации, – потребовать отсрочки приговора ченга, пока не пошлют посольство к ильхану Хайду, одному из троицы предполагаемых заговорщиков. Хубилай и судьи, скорее всего, согласились бы подождать и послушать, что скажет в свое оправдание Хайду. Но Ахмед, по словам присутствовавших на заседании ченга, не обратился к Хубилаю ни с этой, ни с какой-либо другой просьбой. Он вообще не был готов защищаться, сказали они, просто физически был не способен это сделать. Говорят, во время заседания Ахмед только что-то невнятно бормотал, громко пел и дергался. Создавалось впечатление, что уличенный преступник просто сошел с ума от угрызений совести, испуганный предстоящим ужасным наказанием. Прямо в тот же день собравшиеся судьи ченга признали его виновным, а все еще взбешенный Хубилай не стал отменять их решение. Ахмеда объявили государственным изменником и приговорили к «смерти от тысячи».
Слухи об этом разнеслись по всему ханству так же стремительно, как летняя гроза, такого скандала не помнили даже старейшие придворные. Все вокруг только об этом и говорили, жадно прислушивались к новостям и рассказывали друг другу подробности истории, быстро обраставшей слухами. Тот, кто знал самые пикантные новости и готов был их сообщить, оказывался героем дня. Настал «звездный час» Ласкателя, заполучившего в свои руки самый известный «объект» за всю свою карьеру. Мастер Пинг торжествовал и наслаждался. Не скрывая, как обычно, своих мрачных тайн, он открыто хвастался, что сделал запасы в своей темнице-пещере на следующие сто дней. И что он распустил всех своих служащих и помощников отдохнуть – даже своих писак и шестерок-подручных, – дабы ничто его не отвлекало и он мог безраздельно уделить все свое внимание прославленному «объекту».
Я зашел навестить Хубилая. К тому времени он немного успокоился и смирился с предательством и потерей своего главного министра. Он больше не смотрел на меня так, как древние короли смотрели на тех, кто приносил плохие вести.
Я рассказал великому хану, не вдаваясь в ненужные детали, что на совести Ахмеда – напрасное жестокое убийство несравненной Мар-Джаны, супруги Али-Бабы. Я попросил для Али разрешение великого Хубилая присутствовать во время казни палача его жены и получил это разрешение. Ласкатель Пинг был ошеломлен и возмущен, но, разумеется, он не мог отменить распоряжение самого Хубилая, он даже не слишком громко сетовал, потому что сам принимал непосредственное участие в убийстве Мар-Джаны.
Таким образом, в указанный день я проводил Али в подземную пещеру, наказав ему быть мужественным и непреклонным, когда он будет наблюдать, как раздирают на куски нашего общего врага. Али был бледным – его желудок не переносил резни, – но выглядел решительно, даже когда произнес напоследок «салям» и попрощался со мной так торжественно, словно сам собирался принять «смерть от тысячи». После этого они с мастером Пингом, который все еще ворчал по поводу столь нежелательного вторжения, прошли за обитую железом дверь, туда, где уже висел в ожидании палача Ахмед, и закрыли ее за собой. Я ушел, сожалея в то время лишь об одном: что араб, насколько я был наслышан, все еще пребывал в оцепенении и ничего не соображал. Если прав был Ахмед, сказавший однажды, что ад – это то, что больше всего ранит, тогда очень жаль, что араб не мог почувствовать боль так сильно как я этого желал ему.
Поскольку Ласкатель заявил, что эта ласка может продолжиться целых сто дней, все, естественно, ожидали, что так оно и случится. Поэтому незадолго до окончания этого срока служащие и помощники мастера Пинга возвратились, чтобы собраться во внешних покоях и дождаться триумфального появления своего господина. Когда прошло несколько дней, они начали беспокоиться, но побоялись войти внутрь. И лишь когда я послал свою служанку узнать что-нибудь об Али, только тогда один из старших служащих набрался храбрости и со скрипом отворил обитую железом дверь. Его встретило могильное зловоние, которое заставило беднягу в ужасе отпрянуть. Больше ничего во внутренней комнате не обнаружилось, никто не мог даже заглянуть внутрь без того, чтобы не упасть в обморок. Послали за придворным механиком и попросили его направить в подземные тоннели искусственный ветер. Когда покои немного проветрили, главный служащий Ласкателя зашел внутрь и тут же вышел, оглушенный, чтобы рассказать, что он там обнаружил.
Там было три мертвых тела, вернее, не совсем так: от бывшего wali Ахмеда остался всего лишь кусок плоти: его подвергли по меньшей мере «девятьсотдевяностодевятикратной смерти». Как выяснилось, Али-Баба наблюдал за процессом этого полного распада, а затем схватил Ласкателя, связал его и подверг самого палача тому же наказанию, что и его жертву. Тем не менее главный служащий доложил, что это была, наверное, «смерть от ста», максимум – «от двухсот». Видимо, Али стало плохо – от миазмов разлагающегося Ахмеда и всего остального: спекшейся крови, кровавого зрелища, нечистот, – и он не смог довести месть до конца. Он предоставил лишенному некоторых частей тела мастеру Пингу висеть и медленно умирать, а сам взял один из больших ножей и заколол им себя.
Так закончил свой жизненный путь Али-Баба, Ноздря, Синдбад, Али-ад-Дин – тот, кого я презирал и высмеивал как труса и пустого хвастуна очень долгое время… В самый последний миг им двигал весьма возвышенный стимул – его любовь к Мар-Джане – совершить нечто в высшей степени смелое и достойное похвалы. Он отомстил обоим ее убийцам, подстрекателю и преступнику, а затем покончил с собой, чтобы никого другого (я имею в виду себя) не смогли обвинить в содеянном.
Население дворца, города Ханбалыка, а возможно, и всего Катая, если не всей Монгольской империи, шепталось и хихикало, обсуждая стремительное и скандальное падение Ахмеда. Новый скандал, трагедия, разыгравшаяся в подземелье, дали еще больше пищи слухам, заставив Хубилая снова смотреть на меня с мрачной злобой. Однако последняя сенсация оказалась столь ужасной и в то же время почти забавной, что даже великий хан был так ошеломлен и смущен, что не испытывал склонности кого-либо карать. А случилось вот что: когда помощники Ласкателя собрали воедино труп своего господина, чтобы похоронить его приличествующим образом, они обнаружили, что у этого человека были ступни в виде «кончиков лотоса»: их перевязывали с младенчества, деформировали и сгибали, чтобы придать им вид изящных кончиков, таких как у знатных ханьских женщин. Так что можете представить себе смятение, овладевшее всеми, включая Хубилая. «И кто теперь заплатит за этот возмутительный обман? – с любопытством, совсем сбитые с толку, спрашивали люди друг у друга. – И каким же, интересно, чудовищем была мать у мастера Пинга?»
Вынужден сказать, что у меня на душе было очень тяжело. Моя месть свершилась, но плата оказалась так велика, что теперь я пребывал в мрачном настроении. Страшная депрессия навалилась на меня, когда я направлялся в покои Маттео: я бывал там почти каждый день, навещая дядюшку – вернее, то, что от него осталось. Преданная служанка мыла и красиво одевала господина (в нормальное мужское платье), она умело подстригала седую бороду, которая снова у него отросла. Он выглядел вполне сытым и здоровым, его можно было принять за прежнего веселого и неистового дядю Маттео, не будь его глаза совсем пустыми и не напевай он постоянно, мыча как корова, свою литанию о добродетели:
Добродетель – тропинка к богатству,
На ней не торчат корни, нету на ней и ям…
Я как раз печально разглядывал дядюшку и чувствовал себя, разумеется, хуже некуда, когда неожиданно появился еще один посетитель, который вернулся наконец из своего последнего путешествия с торговым караваном по стране. Ни разу в жизни – даже во время его первого появления в Венеции, когда я был совсем мальчишкой, – не был я еще так рад увидеть своего мягкого, тактичного, скучного, доброго и бледного старого отца.
Мы упали в объятия друг друга в венецианском приветствии, а затем встали рядом. Отец печально смотрел на своего брата. Он уже подъезжал к Ханбалыку, когда услышал в общих чертах рассказ о тех событиях, которые произошли за время его путешествия: об окончании войны в Юньнане и моем возвращении ко двору, о сдаче империи Сун, смерти Ахмеда и мастера Пинга, о самоубийстве бывшего раба Ноздри и болезни своего брата. Теперь я рассказал отцу подробности. С кем еще я мог поделиться? Я не пропустил ничего, разве что самые отвратительные детали, и когда я закончил, он снова посмотрел на Маттео, покачал головой и ласково, печально, с жалостью проговорил:
– Tato, tato… [230]230
Братишка, братишка (ит.).
[Закрыть]
– Хорошо хоть вас заживо не закопали… – мычал Маттео словно в ответ.
Никколо Поло снова печально покачал головой. Но затем он повернулся, дружески хлопнул меня по плечу, выпрямился и кое-что сказал. Пожалуй, в тот день я впервые был рад услышать одно из его многочисленных изречений:
– Ах, Марко, sto moado xe fato tondo.
Это можно перевести приблизительно так: «Что бы ни случилось, хорошее или плохое, веселое или грустное, – Земля все равно останется круглой».
Часть тринадцатая
МАНЗИ
Глава 1
Буря сплетен через некоторое время стихла. Двор Ханбалыка, подобно опасно накренившемуся кораблю, постепенно выпрямился и выровнялся. Насколько я знаю, Хубилай так никогда и не предпринял попыток призвать своего двоюродного брата Хайду к ответу за его предположительное участие в возмутительных событиях недавнего времени. Хайду все еще находился далеко на западе, и, поскольку опасность заговора миновала, великий хан удовлетворился тем, что и оставил его там, вместо этого Хубилай решил навести порядок в своем собственном доме. Он благоразумно начал с того, что разделил три различные должности недавно умершего Ахмеда между тремя разными людьми. Теперь его старший сын Чимким должен был также становиться наместником хана в его отсутствие. Хубилай повысил моего старого товарища по оружию Баяна до ранга главного министра, но, поскольку Баян предпочитал сражаться в должности действующего орлока, эта должность со временем тоже была передана принцу Чимкиму. Возможно. Хубилай был не прочь заменить Ахмеда на посту министра финансов другим арабом – персом, турком или византийцем, – поскольку был высокого мнения о финансовых способностях мусульман и поскольку это министерство руководило мусульманским органом купцов и торговцев – Ortaq. Однако, когда стали приводить в порядок оставшееся после недавно умершего Ахмеда имущество, было сделано ужасное открытие, которое вызвало у великого хана ненависть к арабам на всю оставшуюся жизнь. В Катае существовал такой же закон, как в Венеции, и кое-где еще: имущество изменника отбирали в пользу государства. И у покойного Ахмеда обнаружилось огромное количество добра, которое он мошенническим путем присваивал и вымогал, пока находился на своем посту. (Некая часть его имущества – включая хранимые арабом рисунки – так никогда не увидела свет.)
Неопровержимые доказательства двуличия Ахмеда на протяжении долгого времени снова так разъярили Хубилая, что он назначил министром финансов представителя народа хань – старика ученого, моего знакомого, придворного математика Лин Нгана. В своей ненависти к мусульманам Хубилай пошел еще дальше, учредив несколько новых законов, которые сильно ограничивали свободы катайских мусульман: сфера их торговой деятельности сокращалась; с тех пор повсюду и навсегда им запрещалось заниматься ростовщичеством; заодно ограничили и их непомерные прибыли. Он также заставил всех исповедующих ислам публично отречься от той части в их священном Коране, которая разрешает им обманывать, надувать и убивать всех тех, кто не является мусульманином. Хубилай даже принял закон, который обязывал мусульман есть свинину, если ее подал им хозяин в гостях или на постоялом дворе. Думаю, что этому указу не слишком подчинялись и его не особенно строго навязывали. Остальные законы, насколько я знаю, очень сильно задели многих уже разбогатевших и пользовавшихся влиянием мусульман, которые проживали в Ханбалыке. Я сам лично слышал, как они потихоньку посылали проклятия, но не Хубилаю, а нам, «неверным Поло», обвиняя нас в подстрекательстве и считая виновными в гонениях на приверженцев ислама.
Едва вернувшись из Юньнаня в Ханбалык, я сразу обнаружил, что город перестал быть гостеприимным и приятным местом. Теперь великий хан, занятый великим множеством новых дел – ведь недавно завоеванному Манзи требовались ваны, судьи и всевозможные чиновники, – не поручал мне никакой работы, да и Торговый дом Поло, тоже, кажется, не нуждался во мне. Назначение нашего старого знакомого Лин Нгана на пост министра финансов никак не повлияло на торговую деятельность моего отца. Гонения на мусульман были купцам-немусульманам только на руку. Так или иначе, но отец был в состоянии и сам со всем управиться. Хотя дел оказалось немало. Ему пришлось тут же подхватить вожжи, которыми правил Маттео, и одновременно вплотную заняться производством каш и , которое ранее возглавляли Али-Баба и Мар-Джана. Таким образом, я оказался не у дел, и мне захотелось на какое-то время покинуть Ханбалык. Я надеялся, что постепенно волнения улягутся, а обиды, все еще продолжавшие тлеть, угаснут. Поэтому я отправился к великому хану и спросил, не могу ли я ему чем-нибудь послужить, нет ли у него для меня какой-нибудь миссии за границей. Он как следует призадумался и с каким-то злым удивлением сказал:
– Да, Марко, есть, и я благодарен тебе за то, что ты вызвался. Хотя теперь империя Сун стала Манзи и превратилась в часть Монгольского ханства, но в нашу казну пока еще не было пожертвовано никаких денег. Недавно умерший министр финансов уже успел набросить сеть Ortaq на все это государство и к настоящему времени должен был выловить оттуда богатый улов. Поскольку он этого не сделал, причем косвенным образом по твоей вине, то, полагаю, будет даже справедливо, если ты займешься взиманием дани вместо него. Ты отправишься в столицу Манзи Ханчжоу и учредишь там систему сбора налогов, которая удовлетворит нашу имперскую казну и станет не слишком обременительной для местного населения.
Такого поворота событий я никак не ожидал и потому возразил:
– Но, великий хан, я не имею ни малейшего представления о сборе налогов.
– Ну, тогда назови это как-нибудь по-другому. Бывший министр финансов именовал сие пошлиной на торговые сделки. Ты можешь называть это податью или обложением – или добровольно-принудительными пожертвованиями, как хочешь. Я не прошу тебя обескровить этих только что присоединенных к нам подданных. Однако надеюсь получить большое количество дани с каждого человека, с каждого дома во всех провинциях Манзи.
– И как велико там население? – Я уже жалел о своей инициативе. – И какое количество дани вы сочтете приличным?
Хубилай сухо произнес:
– Полагаю, ты сам сможешь произвести подсчеты, когда прибудешь туда. И не беспокойся: если мне вдруг покажется, что дани мало, я сразу дам тебе знать. Ну, хватит стоять здесь и разевать рот, как рыба. Ты попросил дать тебе поручение. Я дал его тебе. Все необходимые документы, где будут оговорены предписания и твои полномочия, подготовят к твоему отъезду.
Я отправился в Манзи почти с таким же чувством, как и на войну в Юньнань. Я не мог знать тогда, что проведу в этих далеких землях самые свои счастливые и благополучные годы. В Манзи, как и в Юньнане, я успешно справился с возложенной на меня миссией и снова заслужил одобрение Хубилай-хана, а заодно и стал, совершенно на законных основаниях, богатым – причем нажил богатство сам, а не просто как совладелец Торгового дома Поло. Мне также там доверили и другие поручения, и я их тоже успешно выполнил. Однако, когда я теперь говорю «я», надо читать «мы с Ху Шенг», потому что Безмолвное Эхо стала отныне моей верной спутницей в путешествиях, мудрым советником и преданным товарищем; без нее я не смог бы ничего добиться за все эти годы.
В Священном Писании говорится, что Бог, решив, что нехорошо мужчине оставаться в одиночестве, сотворил из его ребра женщину. Уж не знаю, насколько Адам с Евой не были похожи друг на друга, но мы с Ху Шенг физически отличались очень сильно, за что я не переставал благодарить Создателя. Однако лучшей спутницы жизни и желать было нельзя, ибо, если говорить начистоту, Ху Шенг абсолютно всем превосходила меня: спокойным нравом, нежностью сердца, мудростью – именно мудростью, а не простой сообразительностью.
Даже если бы она осталась рабыней и просто служила бы мне или стала бы моей наложницей, то и тогда Ху Шенг была бы ценным и желанным дополнением к моей жизни, ее украшением, предметом восхищения. Эта женщина обладала красотой, на которую стоило посмотреть, в любви она доставляла мне несказанное удовольствие и вообще вокруг себя распространяла пылкую радость. Может показаться невероятным, но общаться с ней было сплошным удовольствием. Как однажды заметил мне принц Чимким, разговоры в постели – это самый лучший способ выучиться языку; это было верно и для языка знаков и жестов, и, несомненно, любовная близость сделала наше совместное обучение более быстрым, причем изобретенный нами язык все более совершенствовался. Когда мы приноровились к этому способу общения, я обнаружил, что реплики Ху Шенг были полны здравого смысла и остроумия. В конечном счете, Ху Шенг была слишком привлекательной и талантливой, чтобы занимать какое-либо подчиненное положение, как большинство женщин, которые от души радовались, что таким образом приносят посильную пользу.
То, что Ху Шенг была лишена слуха, заставило обостриться все ее остальные чувства. Она видела, чувствовала, обоняла или каким-то иным образом обнаруживала то, что оставалось незамеченным мной, и она могла заставить меня это заметить, так что я постигал больше, чем раньше. Совсем простой пример: иногда Ху Шенг вдруг убегала от меня во время прогулки и мчалась к тому, что мне лично казалось всего лишь какой-то кучей сорняков вдалеке. Она становилась на колени, срывала что-то, напоминающее сорняк, и приносила мне показать цветок, который еще не дал даже бутонов; она ухаживала за этим побегом, пока он не раскрывался и не становился красивым.
Однажды, в самые первые дни, когда мы еще только изобретали наш язык, мы весь день провели в одном из тех садовых павильонов, где придворный инженер чудесным образом пустил по трубам воду, чтобы она издавала звуки флейты под свесом крыши. Я весьма неуклюже пытался объяснить Ху Шенг, как это работает, хотя и предполагал, что глухонемая девушка не имеет ни малейшего представления, что такое музыка; я размахивал руками всякий раз, когда начинало раздаваться это тихое журчание. Ху Шенг мило кивнула головкой; я подумал, что она притворилась, будто бы все поняла, и благодарит меня. Но затем она поймала мою руку и приложила ее к одной из резных колонн; удерживая ее на месте, она сделала мне знак сидеть тихо. Я пришел в недоумение и по наивности своей развеселился, хотя и сделал, как она сказала. Через мгновение я с огромным удивлением понял, что ощущаю очень, очень слабую вибрацию, которую производила флейта у нас над головами, – звук шел сверху вниз внутри дерева, до того места, к которому я прикасался. А ведь девушка и впрямь показала мне безмолвное эхо. Ху Шенг была способна уловить эту неслышную музыку и наслаждаться ее ритмом – возможно, даже лучше меня, – такими нежными были ее руки и кожа. Такие необычные способности Ху Шенг были неоценимы для меня во время путешествия, работы и во время общения с другими людьми. Это особенно ярко проявилось в Манзи, где ко мне, естественно, относились с недоверием, как к посланцу завоевателей, и где мне приходилось иметь дело с обиженными бывшими господами, алчными торговыми старейшинами и сопротивляющимися наемниками. Так же как Ху Шенг могла разглядеть цветок, которого не видели другие, точно так же она могла почувствовать мысли, чувства, мотивы и намерения человека. Она раскрывала их мне: иногда – наедине, иногда – прямо, когда этот человек сидел и вел со мной беседу, и во многих случаях это давало мне значительное преимущество. Но еще чаще мне помогало то, что она просто сидит рядом. Мужчины в Манзи, как знатные, так и простые, не привыкли к тому, чтобы женщины присутствовали на деловых встречах. И окажись моя Ху Шенг обычной женщиной – вечно жалующейся, болтливой, резкой, – возможно, они бы и стали меня презирать как неотесанного варвара или евнуха, которого держат под каблуком. Но Ху Шенг становилась таким очаровательным и изысканным украшением любой встречи (и, к счастью, она была такой молчаливой), что каждый мужчина старался вести себя утонченно и говорить как можно более благородно. Он принимал всевозможные позы и ходил с важным видом, чтобы произвести на нее впечатление, но каждый раз – я точно это знаю – уступал моим требованиям, соглашался с моими наставлениями или же отдавал мне самую лучшую сделку только для того, чтобы заслужить одобрительный взгляд Ху Шенг.
Она была моим товарищем в путешествиях, она привыкла к костюму, который позволял ей ездить верхом на лошади, и всегда Ху Шенг ехала рядом со мной. Она была умелым компаньоном, доверенной наперсницей и фактически моей женой. Я был готов в любой момент сделать ее своей супругой, «разбить тарелку», как это называют монголы (потому что их церемония бракосочетания, которую проводит жрец-шаман, завершается традиционным разбиванием на кусочки тонкого фарфора). Однако Ху Шенг, в отличие от большинства обычных женщин, не придавала никакого значения традициям, формальностям, суевериям или ритуалам. Мы с ней принесли друг другу свои клятвы, как сочли нужным, сделали это наедине, и это устраивало нас обоих. Она была рада избежать любой публичной шумихи и показухи.
Помнится, Хубилай однажды посоветовал мне, когда об этом зашла речь:
– Марко, не разбивай тарелку. Пока ты не возьмешь себе первой жены, каждый мужчина, с которым ты станешь иметь дело, будет мягким и уступчивым как в делах, касающихся торговли, так и в любых других сделках. Он будет искать твоего расположения и не станет мешать твоей удаче, потому что будет лелеять тайную надежду, что сделает свою дочь или племянницу твоей первой женой и матерью твоего наследника.
Этот совет, однако, возымел обратное действие – я решил поторопиться и тут же разбить тарелку с Ху Шенг, потому что считал неприемлемым строить свою жизнь подобно коммерческой сделке. Но Ху Шенг заметила, и довольно энергично, что как моя жена она будет вынуждена соблюдать некоторые традиции – ведь жена обязана подчиняться мужу. Поэтому она не сможет больше наслаждаться нашими совместными поездками на лошади, и – если ей только вообще будет дозволено – станет путешествовать в закрытом паланкине, и не сможет больше помогать мне на деловых встречах с другими мужчинами, ибо традиция запрещает это делать…
– Достаточно, достаточно! – сказал я, смеясь над ее горячностью. Я схватил ее ладошку, остановил движения и пообещал, что ничто и никогда не заставит меня жениться на ней.
Таким образом, мы оставались просто любовниками, а это, наверное, и есть самая лучшая разновидность брака. Я не вел себя с Ху Шенг как с женой, которая ниже меня по положению, но относился к ней как к равной – и настаивал, чтобы все относились к ней как к равной мне. (И не подумайте, что это было проявлением великодушия, потому что я отлично знал, что во многих отношениях Ху Шенг превосходит меня; возможно, это осознавали также и другие.) Но я всегда относился к ней как к самой благородной жене, одаривал Ху Шенг драгоценностями, нефритом и слоновой костью, самыми богатыми нарядами, я подарил ей собственную лошадь, великолепную белую кобылицу из числа личных «коней-драконов» великого хана. Пользуясь властью супруга, я установил лишь одно правило: она никогда не должна была скрывать свою красоту под косметикой, я запретил Ху Шенг следовать моде Ханбалыка. Она подчинилась, и поэтому ее персиковая кожа никогда не была намазана белой рисовой пудрой, розовые, как вино, губы не были бесцветными или кричаще яркими, а волнистые брови – выщипанными. Не будучи модной, Ху Шенг, однако, была такой ослепительно красивой, что все другие женщины последовали ее примеру и стали подражать ей. Я все-таки позволил Ху Шенг укладывать волосы так, как ей хотелось (потому что она никогда не делала причесок, которые бы мне не нравились), и для этой цели купил ей украшенные драгоценностями гребни и шпильки.
Из всех драгоценных, золотых и нефритовых украшений, которых у нее в конечном счете накопилось столько, что этому могла позавидовать супруга великого хана, она всегда больше всего дорожила лишь одним. Точно так же и я – правда, я частенько притворялся, что считаю это хламом, и убеждал Ху Шенг его выбросить. Сей предмет не был моим подарком, но входил в число тех умилительных вещиц, которые она принесла с собой, когда впервые пришла ко мне: незамысловатая, самая простая белая фарфоровая курильница. Ху Шенг неизменно возила ее с собой, куда бы мы ни ехали; и повсюду – во дворце, караван-сарае, юрте или на открытом воздухе в лагере – Ху Шенг всегда старалась, чтобы теплый аромат клеверного поля после тихого дождика сопровождал все наши ночи.
Все наши ночи…
Мы были только любовниками, так и не став никогда женатыми людьми. Тем не менее я свято чту тайну брачного ложа и не хочу рассказывать о деталях того, чем мы с ней наедине занимались. Воскрешая в памяти свои интимные отношения с другими женщинами, я рассказывал все без утайки, но я предпочту сохранить в секрете все, что касается Ху Шенг.
Я поделюсь с читателями лишь некоторыми общими наблюдениями анатомического характера. Это не осквернит тайн Ху Шенг, не заставит ее краснеть от стыда, потому что она часто отстаивала мнение, что физически совершенно не отличается от других женщин народа мин и что эти женщины ничем не отличаются от ханьских или от представительниц прочих национальностей, населяющих Катай или Манзи. Хотя лично я так не считал. Сам Хубилай-хан однажды заметил, что женщины мин превосходили других по красоте, а Ху Шенг выделялась даже среди них. Однако когда она настаивала, скромными и просительными жестами уверяя меня, что у нее совершенно обычные внешность и фигура, я благоразумно не возражал: потому что самая красивая женщина – та, которая этого не осознает.








