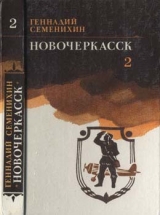
Текст книги "Новочеркасск: Книга третья"
Автор книги: Геннадий Семенихин
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 32 страниц)
– Спасибо и за это, – не поднимая головы, сказал Якушев, – хоть за это спасибо, господин Флеминг.
В большом кабинете воцарилось молчание. Заложив руки за спину, немецкий генерал пересек его от стены к стене, потом круто повернулся на скрипнувших каблуках.
– Александр Сергеевич, господин Якушев – сказал он своим хороню поставленным баритоном, – в этом помещении вы можете себя чувствовать, как дома. И ради бога, позабудьте всякие рассказы о том, что все немцы, которые служат в гестапо, только и делают, что выворачивают русским руки, прижигают их каленым железом, немилосердно бьют, хотя и это, к чему мне скрывать, бывает нередко… Но не в моем кабинете. – Он горько вздохнул и снова развел выхоленными руками: – Война – это суровое время, когда компромиссного решения нет. Либо ты врага, либо он тебя.
Александр Сергеевич неожиданно ухмыльнулся, и эта ухмылка не осталась Флемингом незамеченной.
– Вы нашли в моих словах что-нибудь нелогичное?
– Нет, отчего же. Вы просто-напросто сформулировали горькую правду войны, – заметил Якушев тихо. – Однако в этой формуле две величины: вы и мы. Одна из этих величин всегда должна быть справедливой, другая нет. Вы, немцы, вторглись на нашу землю, вторглись вероломно, под маской дружественного договора, и это лишает вас права считать себя величиной справедливой.
– Да, да, – неожиданно согласился немец, и его глаза потускнели. – Как это вами просто и глубоко сформулировало: горькая правда войны. О! Если бы она была одна. Но их две, у каждой воюющей стороны по одной. Поверьте, так всегда было и от этого не уйдешь. И не надо призывать себе для доказательств на помощь знаменитых философов прошлого и настоящего. Я тоже не во всем понимаю людей, которые замышляли эту войну.
Александр Сергеевич, спокойно выдержав взгляд генерала, вдруг подумал: «Что он тут несет? Не во всем понимает людей, замышлявших поход на Восток. А разве сам он не один из них?» Будто уловив течение его мыслей, Флеминг неожиданно сказал:
– Я, например, считаю так: если вы ставите перед собой цель, подумайте сначала зачем.
Александр Сергеевич гулко рассмеялся и в лоб спросил:
– Простите, а вы разве ставили перед собою цель стать эсэсовцем и работать в Новочеркасском гестапо?
Вопреки намерению самого Якушева вопрос прозвучал дерзко, и Александр Сергеевич тотчас же не без страха подумал, что Флеминг взорвется и накричит на него. Но этого не случилось. Немец повернул к глазам тыльной стороной левую ладонь и отдалил ее от себя, будто хотел полюбоваться аккуратно подпиленными перламутровыми ногтями, и голос его прозвучал совершенно уравновешенно:
– Вы не совсем правы, господин Якушев. Во-первых, я никогда не собирался не только иметь какое-либо касательство к деятельности новочеркасского гестапо, но и пребывать в вашем городе вообще.
– Вы превосходно владеете русским языком, господин генерал, – неожиданно для самого себя похвалил его Якушев.
Немец улыбнулся и приложил к выутюженному мундиру ладонь:
– О-о, спасибо за комплимент. От вас, русского интеллигента, мне тем более это приятно услышать. Значит, годы учебы в Гейдельбергском университете не пропали даром. Впрочем, так же, как и годы работы в немецком посольстве в Москве… Но сейчас, в дни войны, я хочу безмерно понять русского человека, а это гораздо труднее, чем овладеть его языком. Да и далеко не в совершенстве владею я им. А хотелось бы. Русский чудесный язык очень сложен, господин Якушев.
– Что вы, – улыбнулся Александр Сергеевич. – Вы отлично разговариваете на моем родном языке. Надо ли вам усваивать его тонкости? Вы же не собираетесь переводить на немецкий такую, скажем, сложную поэму-сказку, как «Конек-горбунок» нашего Ершова?
– О нет, – засмеялся Флеминг, – до этого я никогда не дорасту. Но русский язык в том объеме, в котором я его знаю, сейчас мне помогает.
– В чем же, господин генерал, если это не секрет?
– Понять душу русского человека, господин Якушев.
Александр Сергеевич закивал головой и, устремляя взгляд в большой прямоугольник окна, за которым виднелось клочковатое, в осенних облаках, небо и городские крыши под ним, задумчиво продолжил:
– Один наш великий поэт написал удивительные по силе стихи:
Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить:
У ней особенная стать —
В Россию можно только верить.
– И звали этого поэта Федор Тютчев, – смеясь, подхватил Флеминг.
– Да с вами рядом страшно, – против воли улыбнулся и Якушев. – Вы даже нашего Тютчева наизусть цитировать можете. Если бы не этот эсэсовский, мундир, я бы всегда гордился тем, что с вами знаком! – пылко воскликнул Александр Сергеевич. – Ну что вас заставило его надеть? Лучше бы преподавали русский язык в том же самом Гейдельбергском университете.
– Господин Якушев, разрешите мне на этот вопрос не отвечать.
– Ах да, – забормотал старик и разразился долгим астматическим кашлем. – Извините, я, кажется, вторгся в недозволенную область.
Генерал миролюбиво кивнул и нажал кнопку электрического звонка, вделанного в письменный стол. Бесшумно растворилась дверь, и на пороге появился тот самый молодой офицер, который приезжал за Якушевым на Аксайскую, чтобы доставить его в гестапо. Торопливой скороговоркой Флеминг отдал ему какое-то распоряжение и, когда тот удалился, с прежним дружелюбием обратился к своему собеседнику:
– Сейчас мы позавтракаем, любезный Александр Сергеевич. Заранее извиняюсь за скромность сервировки, да и меню так же. Военное время, ничего не поделаешь, одним словом… – Генерал щелкнул в воздухе пальцами, подыскивая подходящее окончание фразы. – Одним словом, как это говорится у россиян. «Не красна изба углами, а красна пирогами». У нас же немножко наоборот: красна изба углами, – кивнул он головой на панели кабинета из хорошо отполированного дерева, – да не красна пирогами.
Молоденький офицер собственноручно внес завтрак на сверкающем никелированном подносе, поставил на стоявший рядом с письменным круглый столик.
Якушев едва не задохнулся, увидев, что было на этом подносе. Полуголодное воображение не в состоянии было нарисовать ему такую картину. Набросив на стол пеструю скатерть с затейливыми готическими башенками, фаэтонами и женскими головками, молодой офицер, будто совершая какой-то священный обряд, расставлял на ней тарелки с закусками и дымящимся бифштексом. Флеминг, прикусив в губах усмешку, искоса наблюдал за потерявшим равнодушие стариком. В довершение ко всему адъютант принес небольшие хрустальные рюмки и бутылку с коньяком.
– Как видите, трапеза соответствует нашей встрече, – гостеприимно промолвил генерал. – В особенности рекомендую коньяк. Настоящий выдержанный «мартель». Не церемоньтесь с ним, пожалуйста, Александр Сергеевич.
Якушев с тяжким вздохом наклонил голову:
– Когда-то я обожал хорошие вина и коньяки. Но, к большому огорчению, астма стала уже давно поперек этого влечения к ним.
– О! – воскликнул Флеминг. – Какая жалость. У моего отца тоже астма, и я хорошо знаю, какое это человеческое бедствие. У вас она какая: стенокардического происхождения или инфизема легких?
– Инфизема легких, господин генерал.
Флеминг сострадательно наклонил голову, вздохнул:
– У моего отца грудная. Однако одна другой не лучше. И я все же иду на большой риск. Очень прошу, как это у вас по-русски называется, пригубите хотя бы глоточек, чтобы оценить всю прелесть французского напитка. Больше всего в жизни я обожаю третью «Героическую» симфонию Бетховена, поэзию и «мартель».
Александр Сергеевич долго вдыхал в себя густой аромат коньяка, затем отчаянно махнул рукой с видом плохого пловца, который лишь по принуждению бросается в воду, выпил, смакуя, половину хрустальной рюмки.
– Какая прелесть, – громко прошептал он и несколько раз кашлянул, отчего его пепельного цвета лицо тотчас покраснело. – Вот видите, я же говорил, – заметил он, как бы извиняясь. – Вероятно, мне слишком поздно показываться в светском обществе. Я уже воспринимаюсь как некое ископаемое.
Флеминг укоризненно покачал головой:
– Зачем же так, Александр Сергеевич. Какое вы ископаемое, если с таким жизнелюбием относитесь к этой божественной влаге, если так упрямо отстаиваете свою точку зрения на кровавые события войны. Скажите, – вкрадчиво продолжал он, – а вот если бы перестала существовать наша нынешняя Германия, с рейхстагом, фюрером, национал-социалистской партией, и вместо нее появилось бы другое германское государство, с демократическим парламентом, президентом, новой конституцией, ваша бы страна такую Германию восприняла бы?
Якушев перестал жевать и грустно улыбнулся:
– Я не Верховный Совет, но думаю, что отношения между нашими странами изменились бы.
Флеминг задумчиво побарабанил костяшками пальцев по столу:
– Вот видите, как мы дружно истребляем бифштекс, пьем кофе с коньяком, а ведь нас братьями не назовешь, потому что мы по разную сторону баррикад.
– Да, не назовешь, – вырвалось у Якушева настолько решительно, что он с опаской покосился на собеседника, но ничего, кроме холодной усмешки на его тонких губах, не обнаружил. Как ему показалось, голубые глаза немца стали строгими. «А что как он возьмет сейчас, вызовет стражу и отправит меня в подвал?» Не может же быть, чтобы в этом здании не было подвалов. Но усмешка погасла в глазах эсэсовского генерала, и они снова стали безотчетно грустными.
– Скажите, герр Якушев, – обратился он, – а если бы у вас не было астмы и мы бы встретились на поле боя, вы бы в меня стреляли?
– Безусловно, герр генерал.
– И даже могли бы меня убить?
– Вероятно, если бы это произошло до нашей встречи.
– А если бы после нее?
– Тогда едва ли бы.
– Почему?
Александр Сергеевич поднял голову, в упор посмотрел на него блеклыми водянистыми глазами. «Странный немец, – растерянно подумал он. – Послала же мне судьба такого».
– Вероятно, потому, что вы мне понравились, – сказал он вслух.
– Спасибо за комплимент, – усмехнулся немец, но тотчас же посерьезнел: – Скажите, если мы с вами ведем разговор на полных оборотах откровенности, а что вы думаете о финале этой большой войны? Не опасайтесь, что в моем кабинете действуют вмонтированные в стол или стену звукозаписывающие аппараты. Здесь они включаются только по моему приказанию.
Александр Сергеевич глубоко вздохнул. На усталом, сером от недоедания и болезни его лице промелькнуло усилие, будто он хотел что-то вспомнить и не мог.
– Есть такой древний афоризм, – вымолвил он наконец. – «Перейдя реку, разрушится большое царство». Так один знаменитый древнегреческий оракул изрек.
– Царство большевиков? – быстро подхватил Флеминг.
– Царство фашистов, – покачал головой старый Якушев, и наступило тягостное молчание.
Флеминг загадочно усмехнулся, а собеседник, опасаясь быть непонятым, поспешно стал объяснять:
– Послушайте, генерал… Вот мы, два индивида, предположим, хорошие соседи и, как это говорится, дружим семьями. И вдруг я совершил бы по отношению к вам неблаговидный поступок. Ну, скажем, подкрался бы сзади и, ни слова не говоря, вонзил бы вам нож между лопаток. Могла бы ваша семья любить меня и уважать после этого?
– Нет, разумеется, – усмехнулся холодно немец. – Однако и ваша собственная семья не пришла бы в восторг после этого.
– Согласен, – подтвердил Якушев. – Подобное и в отношениях между нашими народами произошло. Если бы ваш Гитлер их не перессорил своим вероломным нападением, мы бы могли дружить века.
– Однако зачем же все сваливать на Гитлера? – прищурился Флеминг. – Ведь вы же, большевики, отрицаете роль личности в истории?
Якушев неодобрительно покачал головой:
– Неверно. Я плохой марксист, но обязан напомнить, что на определенных рубежах истории роль личности колоссальна. Порою от нее зависит все.
– Например?
– Например, идти или не идти войной на сопредельное государство. Обрекать собственный народ на неисчислимые бедствия или нет.
Лицо Флеминга сделалось холодным, глаза задернулись непроницаемой пленкой. Она упала на них словно занавес после последнего действия. И в следующем его вопросе снова прозвучала растерянность:
– А как вы относитесь к нашему Гитлеру? Можете говорить о нем что угодно, это вам ничем не грозит. Я не веду допроса, мы просто беседуем.
Якушев опустил придавленные болезнью плечи, сомкнул на коленях руки, будто полюбоваться решил вспухшими на них венами.
– Генерал! Вы хотите знать, кто такой ваш Гитлер?
– Допустим.
– Гитлер – это Чингисхан с мотором. Он решил, что со своими «юнкерсами», «мессершмиттами» и «тиграми» завоюет весь мир. Со времен Юлия Цезаря такие завоеватели появлялись на земном шаре не однажды, и большими тиражами, но судьба у них была одна и та же. Канули в вечность.
Флеминг положил на колени холеные руки с перламутровыми ногтями и повторил следом за гостем:
– Канули в вечность… Но подарив истории свои имена. Не так ли, Александр Сергеевич?
– Так, – повторил Якушев сухими губами. – Но ведь эти имена остались в истории символом насилия и бесчеловечности. Атилла, Калигула, Чингисхан. Список этот можно было бы продолжать до вечера. Немцам не станет легче оттого, что Гитлер в него неминуемо попадет.
– Гм-м… – покачал белокурой головой немец. – А как, по-вашему, Гитлер в этот список попадет?
– Но ведь это же не допрос, – усмехнулся Якушев.
– Не допрос, а всего-навсего вопрос, – поправил генерал и вдруг с неизбывной горечью подумал: «Какая меж нами разница. Я – молодой, здоровый, сильный, но обреченный на гибель, и он – чахлый, сломленный болезнью, но не сломленный духом».
Якушев пожал плечами.
– Хорошо, я скажу, – промолвил он после томительной паузы. – Однажды толстый бюргер встретил на своем пути вашего знаменитого земляка Вольфганга Гете и грубо закричал: «Я никогда не уступаю дорогу дуракам!» «Зато я это охотно делаю», – ответил Гете и посторонился.
– Не понимаю аналогии, – пожал плечами Флеминг, удивленно подняв брови.
– Как мне кажется, – кашлянул Александр Сергеевич, – ваш вождь Адольф Гитлер употребил однажды такое выражение в адрес истории, и ему показалось, что она посторонилась. Однако он так и остался далек от мысли, что, сделав это, история открыла ему дорогу лишь к собственной гибели.
Произнеся все это, Александр Сергеевич спохватился: не слишком ли оскорбительно прозвучала его речь. Он увидел, что Флеминг его слушает с непроницаемым лицом, сдавив руками голову.
– Вы предрекаете нам поражение, – вздохнул он невесело. – Но как же тогда это? – Генерал подошел к висевшей на стене карте, большая часть которой была заштрихована черной тушью, и обвел ее границы тонкой указкой. – Вся Белоруссия, Украина, осажденный Ленинград, черт побери… Сталинград, в конце концов, на очереди.
Александр Сергеевич неопределенно хмыкнул.
– Что, вы не согласны? – вскричал Флеминг.
– У нас, у русских, есть прекрасная поговорка, – усмехнулся Якушев. – «Не хвались идучи на рати, а хвались идучи с рати». Если память мне не изменяет, в чем я не сомневаюсь, то не столь давно вашим офицерам и генералам выдавались специальные пропуска для участия в параде на Красной площади. И было это либо в конце ноября сорок первого, либо в начале его. Не так ли?
– Да, так, – нервно взмахнул рукой Флеминг. – Мне, разумеется, очень горько от вас об этом слышать, но вы не обращайте внимание, говорите откровенно, я привык выслушивать правду, какой бы жесткой она ни была.
Он отошел от карты и с печальным вздохом положил на место указку. Внезапно резко и отрывисто зазвонил телефон. Флеминг снял трубку лишь после пятого или шестого звонка, недовольно поморщившись при этом. Его лицо неожиданно помрачнело, лоб набух складками, линия рта стала косой, и Александр Сергеевич подумал, что, видимо, таким бывает обладатель этого большого кабинета в ярости. Вероятно, он разговаривал с кем-то из служителей русской полиции, потому что обрушился на него на русском языке:
– Сколько лет этому вашему задержанному? Ну, а кроме того, что он наклеил на афишную тумбу листовку, что он сделал еще? Ну так что же городской голова? Неужели по такому поводу надо было непременно меня беспокоить. Дайте ему, как это говорится по-русски, леща и отпустите на все четыре стороны. А папе прочитайте нотацию. Великая армия фюрера с детьми не воюет. А вы докладываете мне об этом так, словно задержали их неуловимого вожака Михаила Черного.
«Боже мой, – вздрогнул Александр Сергеевич, – ведь это же он о Мише Зубкове говорит».
Флеминг положил трубку и, беря себя в руки, тихо сказал:
– Извините, многоуважаемый Александр Сергеевич, за то, что я тут на ваших глазах утратил самообладание. Благодарю вас за эту великолепную беседу и буду рад, если наша встреча повторится. Мы беседовали с вами, как говорят пилоты наших люфтваффе и, вероятно, ваших ВВС, на полных оборотах откровенности. А теперь давайте я отмечу ваш пропуск, который, пока мы были заняты, адъютант услужливо положил на стол, и мы простимся. – Флеминг взял со стола розовый листок и приблизил к своим глазам: – О! Бумажка, – произнес он с расстановкой. – Всего-навсего презренная бумажка. Однако какую она имеет силу. Я ведь могу ее подписать или не подписать, и от этого зависит, покинете вы этот дом или останетесь его пленником.
«Нечего сказать, шуточка», – подумал Якушев, ощущая, что на большом его лбу появляются капли неприятного липкого пота. Но вдруг упрямая ярость пронизала все его старческое тело, и, с трудом ее сдерживая, он выговорил:
– Да. Это вы можете, герр генерал, потому что владеете моей судьбой. Однако вы не можете другого.
– Чего же? – прищуриваясь, спросил Флеминг.
– Заставить меня думать не так, как я думаю.
Как показалось Якушеву, голубые глаза немца потускнели, когда он неуверенно произнес:
– Ду-ма-ть? Да, да, вы правы, Александр Сергеевич, извините меня за бестактность. Гестапо имеет власть только над телом человека, но отнюдь не над его душой. Человека можно посадить в одиночную камеру, отправить в вечную ссылку на необитаемый остров, отрезать ему язык, но думать по-иному, нежели он хочет, заставить его невозможно.
Александр Сергеевич неожиданно усмехнулся:
– У нашего великого писателя Салтыкова-Щедрина один ретивый чиновник хотел было росчерком пера закрыть Америку, но потом одумался и промолвил: «Сие от меня не зависит».
Флеминг оглушительно захохотал:
– Так ведь это же великолепно сказано. Вот ваш пропуск, любезный господин Якушев. Извините за грубую солдатскую шутку с моей стороны. Попытаюсь оправдаться лишь тем, что наш общий любимец Гете в свое время изрек: «Ошибки молодости не страшны, если не таскать их до старости». А раз я еще не старик, то у меня осталось немного времени, чтобы исправиться. Постараюсь им не пренебречь.
Уже на пороге, прежде чем окончательно распрощаться со своим посетителем, немец задержал его за локоть:
– Господин Якушев, я совершенно упустил из виду. Там, в авто, положен небольшой сувенир от меня. Не обессудьте, примите.
Надежда Яковлевна с погасшими от горя глазами встретила мужа:
– Боже мой, как долго тебя не было дома. Я все уже передумала. Как хорошо, что ты живой и невредимый. А это что у тебя за сверток?
– Не знаю, – развел руками Александр Сергеевич. – Честное слово, не знаю. Давай-ка развернем.
Она принесла кривой нож и одним взмахом перерезала шпагат. Александр Сергеевич смотрел на ее натруженные, обветренные руки, обтянутые желтой кожей с взбугрившимися синими венами и горестно вспоминал о том дне, когда он впервые их расцеловал и какими они тогда белыми были у пятнадцатилетней гимназистки. И он с тоской вздохнул, подумав о том, какими безотрадными стариками они теперь стали. Будто из тумана надвинулось прошлое, канун его отъезда из Новочеркасска в Москву, их прогулка по аксайскому займищу, первый поцелуй. А теперь вместо гимназисточки с косичками и бантиками в них перед ним суетилась увядшая старушка с горькими прорезями морщин на лице.
Тем временем Надежда Яковлевна развернула оберточную бумагу и всплеснула руками от изумления:
– Саша, посмотри, да ведь это же целый продмаг. Четыре банки мясных консервов, круг копченой колбасы, сливочное масло, кофе, целлофановый кулечек с конфетами. Откуда все это? Полагаю, что не из гестапо?
– Именно оттуда, – подтвердил Якушев, нахмурив лохматые брови. – От самого генерала СС некоего Флеминга.
– Но ведь ты же… Ты, я надеюсь, никого не предавал?
– А ты и об этом уже подумала, – сердито проворчал старик. – Нечего сказать, высокого же ты мнения о своем муже после почти сорокалетнего замужества. Откуда я знаю – за что. Видно, душу хотел излить в нашем затяжном разговоре этот немец. Странный какой-то генерал, будто не от мира сего.
– Погоди, Саша, – прервала его Надежда Яковлевна. – После подробнее обо всем поведаешь. Тут без тебя Миша Зубков приходил и оставил записку. Прочти ее.
Якушев развернул листок, вырванный из ученической тетради в клеточку, и увидел всего несколько слов: «Дорогой Александр Сергеевич! Ухожу на север. Так надо. До скорой встречи. Несмотря на объявленную ценность, голова моя на моих плечах и немецкий комендант сэкономил десять тысяч рейхсмарок, столь щедро обещанных за нее. Ваш Михаил. Коллекционировать записку не рекомендую. Опасно».
На посеревшем лице Александра Сергеевича появилась бледная улыбка:
– Узнаю своего любимого ученика, он и тут шутит.
– Саша, а Миша тоже принес продовольственный сувенир, – улыбнулась старая женщина. – Банку пчелиного меда.
– Вот это да! – вдруг расхохотался старик. – Какое поразительное совпадение, Наденька. Ведь я же в один и тот же день получил подарок от генерала СС и от руководителя Новочеркасского подполья. Да пусть освятит господь лихую голову Миши Зубкова!
Дронова неумолимо тянула к себе окраина. Всякий раз, когда его К-13, выбрасывая в низкое осеннее небо столбы перемешанного с искрами дыма, бесконечно валившего из ее трубы, проносилась мимо крутого Барочного спуска, он видел из окошка знакомые строения, бугор, где раньше всегда собиралась ребятня с Аксайской улицы, даже крышу дома, под которой жила семья Александра Сергеевича. В особенности щемило сердце при взгляде на пустой, голый бугор. В мирное время там почти всегда торчали вихрастые и стриженные под «ноль» головенки окрестных мальчишек. Вырастало одно поколение, но его место на бугре немедленно занимало другое, и так же торчали другие мальчишечьи головы. Сейчас бугор был голым, как выбритая голова запорожца. В эту минуту вне зависимости от того, все ли было чисто на обозреваемом пути, Дронов салютовал родной Аксайской улице. Длинной фистулой захлебывался его маневровый паровоз.
– Чего это ты, Мартынович? – любопытствовал иной раз его бессменный помощник Костя Веревкин. – Аль не видишь, что на путях даже ни одной курицы нет, не то чтоб теленка иль человека, а ты трубишь?
– В топку подбрасывай! – хмуро приказывал машинист вместо ответа. – Знай свое дело, шуруй.
И Костя шуровал вовсю. Казалось, вот-вот черная труба «кукушки» накалится докрасна.
«Эх, Александр Сергеевич, – думал Дронов. – Многим я вам обязан. Ну что бы со мной было, если бы вы не встретились на жизненном пути. Ни рабфака бы не одолел, ни инженером не стал бы. Вот кончится оккупация, выбьют немцев, и опять я вернусь на родной завод имени Никольского, снова поселюсь рядом с вами. Буду каждый день ходить на работу, а на обратном пути забегать иногда к вам, переброситься двумя-тремя добрыми фразами. А как я давно уже вас не видел. С тех пор как фашисты вошли в город, так ни разу и не заглянул. Нет, обязательно надо к вам забрести. На той же неделе это сделаю, в первый же свободный от смены день».
И Дронов сдержал свое слово. Четыре раза подряд от своей суточной четырехсотграммовой пайки хлеба отрезал он по четвертой части и складывал в завалявшийся кусок чистой чертежной кальки.
– Это я Александру Сергеевичу понесу, – ответил он на недоуменный взгляд жены.
Липа подавленно вздохнула и грустно сказала:
– Жорка у нас какой отощавший от недоедания.
Дронов, неверно истолковавший ее слова, вспыхнул:
– Так ты – что же? Против того, чтобы я к своему учителю сходил?
– Да нет, что ты, разве я к этому говорю. Просто подумала, как все сейчас стало зыбко вокруг. Чтобы на Дону и так тяжко доставался человеку хлеб. Проклятые гитлеровцы.
На следующий день рано утром Дронов постучался в парадное дома на углу Аксайской и Барочной. Древнее высохшее дерево этого старенького парадного неохотно отразило его стук. Через минуту в коридоре зашлепали стариковские шаги, грохнула цепочка и сутулая фигура Александра Сергеевича выросла на пороге.
– Ваня! – воскликнул он, запахивая полы драного теплого халата, давно потерявшего свой первоначальный цвет. – Наденька, смотри какого гостя к нам попутным ветром занесло!
В коридор из комнат вышла Надежда Яковлевна, и Дронов, увидев ее, горько вздохнул. Житейское ненастье, причиненное людям войной, коснулось и ее. На сильно поседевшей голове была старенькая, похожая на колпак, некогда очень модная матерчатая шапочка, на ногах, одетых в неоднократно штопанные и латанные носки, галоши. Руки ее, но локоть обнаженные закатанными рукавами телогрейки, были выпачканы угольной пылью.
– Иван Мартынович, – обрадовалась она, – как хорошо, что вы пришли. А мы тут погибаем… И не от голода, а от тоски и одиночества прежде всего. Саша, проводи его в зал, а я тут еще один брикетик угля расколю и в печку подкину.
Потом они сидели в большом, плохо протопленном зале и долго, с нескрываемой печалью глядели друг на друга. Надежда Яковлевна принесла еле-еле нагревшийся чайник, котелок с остатками перловой каши и два ломтика хлеба, к которым и Дронов прибавил свой подарок. Речь Александра Сергеевича была отрывистой и горькой:
– Да, Ваня, вот видите, к чему нас новый порядок привел, даже парок изо рта валит. А ведь при моей бронхиальной астме тепло – это альфа и омега бытия. А помните, когда-то в этом зале сколько задушевных бесед состоялось за обильной трапезой да за бокалами, полными искрящейся волшебной виноградной влаги, которой еще великий Пушкин, этот чародей русского слова, восторгался:
Приготовь же, Дон, заветный
Для наездников лихих
Сок кипучий, искрометный
Виноградников твоих.
Александр Сергеевич оттер со лба выступившие капли пота и, грустно улыбнувшись, продолжал: – А ведь вы заходили в наш дом в последний раз, когда праздновался мой день рождения. И гости здесь были разные: Башлыков Николай Ильич, который назначен немцами директором техникума, Рудов, Залесский, изъявивший ныне согласие написать учебник русского языка для начальных школ Дона. Что он там, негодяй, собирается писать, какими фразами хочет одурманивать мальчишек и девчонок? А? Небось на первой странице так напишет: «Гитлер – великий вождь свободной Европы. Дети, обожайте фюрера и уничтожайте большевиков и комиссаров. Работайте на немцев и будьте рабами». Так, что ли?
Якушев распалился и закашлялся. Жестокий нежданный приступ астмы долго сотрясал его тело. Наконец справившись с ним, он спросил:
– Помнится, в тот день вы пришли, чуточку посидели и удалились с Мишей Зубковым. А над крышей нашего дома уже летали крестатые «юнкерсы», где-то близко куда-то кидали бомбы. Вы с Мишей больше не виделись?
– Нет, Александр Сергеевич, – не моргнув глазом, соврал Дронов, чтобы сразу уйти от дальнейших расспросов.
– Да, да, конечно, конечно, – закивал Якушев и забарабанил костяшками пальцев по далеко не первой свежести скатерти, глядя на которую, Дронов грустно подумал, что у них теперь и мыла-то простого нет, чтобы ее лишний раз постирать. – Да, да! – воскликнул Якушев. – Ах, какой великолепный человек Миша Зубков! Самый мужественный из всех воспитанных мною студентов. – Он понизил голос, и блеклые глаза его как-то строго и вопросительно уставились на гостя: – Так вот, инженер Дронов Иван Мартынович, ходят слухи, что за голову Михаила Николаевича Зубков а немцы большие деньги обещают… В десять тысяч рейхсмарок ее оценили.
– Я тоже эти листовки читал, Александр Сергеевич, – сдержанно вымолвил Дронов. – Одно время ими все тумбы и заборы Новочеркасска были обклеены.
– Скажите, какой злодей, – пробормотал Якушев, упорно рассматривая своего неожиданного гостя. На широком, задубелом от солнца и ветров лице Дронова блеснула усмешка.
– Каким вы его воспитали, таким и получился, Александр Сергеевич – вымолвил Дронов, и они все трое дружно рассмеялись.
– Эх, Александр Сергеевич, Александр Сергеевич, – покачал головой гость и откинул со лба назад колечки волос, – неужто настало такое время, когда и мы, люди русские, перестаем друг другу доверять. Шахты, Красный Сулин, Горная – вот где сейчас Михаил Николаевич, и вы об этом прекрасно осведомлены, потому что перед отъездом он к вам заходил и, не застав вас, оставил записку.
– Верно! – обрадованно вскричал хозяин. – Ну, тогда у меня гора с плеч упала. Значит, вы с ним заодно?
– Заодно, – уже без улыбки подтвердил Дронов. – Однако вы не кричите об этом, пожалуйста, так громко, иначе на Московской улице в гестапо услышат.
– К черту! – завопил Александр Сергеевич и победоносно посмотрел на свою улыбающуюся супругу. – Принято считать, что, если человек в своей жизни посадил хотя бы одно дерево – это хороший человек. Но если педагог из своих учеников воспитал хотя бы одного героя, он дважды хороший человек. А у меня уже два воспитанника подлинные герои: Миша и вы, Ваня. Еще Гоголь изрек: нет такой силы, чтобы пересилила русскую силу. Не так, что ли? А помните, друзья, что молвил Гай Юлий Цезарь, прежде чем перейти Рубикон? Он сказал: жребий брошен. Мы это тоже говорим и еще посмотрим, что будет завтра. Цыплят по осени считают. Весь Дон знает, что по осени. И мы еще посмотрим, господа фашисты.
– Да тише, Александр Сергеевич, – улыбаясь прервал его Дронов. – У вас же в околодке староста есть.
– Да, есть, черт его побери.
– А вдруг подслушает. Свиное ухо тянется далеко.
– Ладно, будем потише, – кашлянул старик и задержал свой взгляд на огромных кулаках инженера. – Ваня! – воскликнул он. – Да разве с вашими кулаками хлипкого старосту бояться нужно?
– Надо, Александр Сергеевич, – вздохнул гость, но тотчас же поправился: – Впрочем, не бояться, а остерегаться.
Дронов покинул Якушевых в хорошем настроении и, шагая по выбоинам Аксайской улицы, не вымощенной от одного конца до другого, думал о неистребимой силе боевого духа казачьего, при котором даже такой подточенный неизлечимой болезнью старец, как Александр Сергеевич, внук мятежного донского казака, бывшего беглого холопа Андрея Якушева, а впоследствии героя войны восемьсот двенадцатого года, обосновавшего после вступления в Париж на высоком холме Монмартр первое казачье бистро, и тот не гнется под оккупантами.








