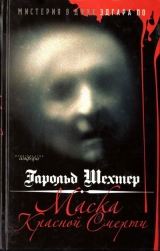
Текст книги "Маска Красной смерти. Мистерия в духе Эдгара По"
Автор книги: Гарольд Шехтер
Жанр:
Классические детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 20 страниц)
Приглашаю вас, дамы и господа! Музей открыт от восхода солнца до десяти часов вечера, входной билет стоит двадцать пять центов, детям и прислуге пятьдесят процентов скидка; арахис, сласти и освежающие напитки продаются везде!
Завершив таким образом свое эмоциональное выступление, Барнум кивнул гиганту, который нагнулся, одной рукой сгреб в горсть край полотна, другой прихватил ведро и швабру. Повернувшись на каблуках, полковник Гошен проследовал к служебному входу, волоча за собой испорченную картину. За ним тянулся хвост из прыгающих и вопящих мальчишек.
Барнум задержался, наблюдая оценивающим взглядом, как значительная часть слушателей направилась прямиком к кассе. После этого он повернулся, чтобы последовать за сабленосным своим уборщиком.
Вплоть до этого момента он меня не замечал, так как я остановился хотя и близко, но несколько сбоку, вне угла его обзора. Теперь же взгляд Барнума зацепился за меня и заставил его остановиться. Он широко улыбнулся и направился в мою сторону.
– По! – воскликнул он, схватил мою ладонь и встряхнул так сильно, что я испугался, как бы руки не лишиться. – Бог мой, как я рад тебя видеть! Дай-ка взглянуть на тебя… Да ты отлично выглядишь, ни днем не старше, чем в последний раз.
Я ответил ему сердечным приветствием, отпустив комплимент по поводу его внешности и отметив, что он стал даже как-то крепче за время визита в Европу.
– Крепче? Ха-ха, скажи уж попросту, что я разжирел! Нет-нет, не возражай, так оно и есть. Как выражаются наши французские кузены, avoir du poids,добавил «мер и весов». Куда денешься, друг мой, с этой французской кухней… они так кормят, так кормят… не оторваться! Нигде в целом свете такой кулинарии не встречал. Все эти крем-соусы, подливки, мясные и кондитерские деликатесы… Удивляюсь, как они сами там живут всю жизнь и не лопаются по швам. Останься я во Франции еще на месяц, и мог бы сам себя выставить в музее. Барнум – Бездонное Брюхо! Самый жирный шоумен планеты!.. Но скажи мне, По, дружище, каким ветром тебя ко мне занесло? Подошел полюбоваться на этот иллюзион? – он показал на пустую свежевымытую стену.
– Да, действительно… – замялся я. – Я уже давно собираюсь отдать визит вежливости по поводу вашего возвращения домой, любезный друг, а тут этот инцидент, вопли газетчиков… Поэтому я и появился сейчас.
– Благодарен тебе за беспокойство, друг мой, да, – вздохнул он. – Гадкая история, ничего не скажешь. Но давай-ка пройдем в мою контору, поболтаем. Спасибо, что заглянул.
Подхватив меня под руку, Барнум устремился к боковому входу, завел меня внутрь, направился к подвальной лестнице и далее пошел впереди, указывая путь.
Коридоры музейного подвала, как я помнил по предыдущим посещениям, представляли собой тускло освещенный запутанный лабиринт. Мало того что они не отличались шириной, так еще и заставлены были всяческими бочками, ящиками и клетками с постоянно прибывающими новыми приобретениями. Даже просторные залы и галереи пяти этажей музея не могли вместить всей барнумовской коллекции.
Барнум провел меня по своим жутковатым подземным лазам, на стенах которых кое-где тихо шипели мелкие змейки газовых светильников, испускающих призрачный свет – казалось, они лучатся таинственным полумраком. Вот на меня из-за поворота злобно уставился африканский страус – чучело, разумеется, – далее распялила лучи громадная морская звезда не менее трех футов в размахе. Зияют пустые глазницы человеческого скелета, запертого в карцерной клетке, рядом Анна Болейн нянчит свою отрубленную голову. Выпятив бесстыдно обнаженную грудь, нагло уставилась вдаль деревянная кукла – женская фигура с носа пиратского парусника. На эскимосские собачьи санки уложен мумифицированный труп древнеегипетского дикого козла, который уже никуда не смотрит: его впавшие веки сомкнуты. В углу стоят две – парные – средневековые алебарды, свисает чуть не с потолка челюсть кита… на что только не наткнешься в подземных коридорах-сокровищницах!
Наконец мы добрались до двери кабинета Барнума. Хозяин отпер святая святых, прибавил освещение и впустил меня внутрь, приглашающим жестом указав на одно из мягких кресел, сосредоточенных в центре комнаты.
– Разгрузи ноги, дружище.
Сам Барнум уселся за массивный письменный стол с ножками в виде когтистых птичьих лап, крепко обхвативших деревянные шары.
– Устраивайся поудобнее. Сигару? Нет? Ну, я закурю, с твоего разрешения.
Он извлек из резной шкатулки красного дерева громадную гавану, отрезал кончик специальной настольной гильотиной и прикурил от фосфорной спички.
– Ф-фу… Так-то лучше… То, что доктор прописал… Добрый сигарный дым – лучшее средство для успокоения нервов. Жаль этого плаката, честно. Лучшее произведение Освальда! Он на него целых полдня угробил.
– Э-э… Освальда?
– Мой новый сотрудник. На все руки от скуки. Выдумывает и малюет лозунги и плакаты. Рожден для этого! Пойми меня правильно, я вовсе не собираюсь утверждать, что он лучше старых мастеров. Грубовато, да. Но в них есть что-то более важное. Они живут!
Конечно, я не купился на публичное заверение Барнума, что его реклама вышла из-под кисти флорентийского художника. Изображение индейского воина отнюдь не отличалось утонченностью. Тем не менее – я не мог этого не признать – несмотря на грубость, примитивность – возможно, именно по этой причине – оно обладало странной выразительностью, неоспоримой силой воздействия.
– А каковы реальные обстоятельства разрушения этого рекламного плаката?
– Обстоятельства? – Барнум выдул громадный клуб сизого дыма. – Нападение банды злобных и трусливых юнцов, вот каковы обстоятельства. Вчера появились возле музея ближе к вечеру. Видел бы ты их! Серое быдло… На их фоне австралийские бушмены-людоеды из моей Галереи этнографических чудес покажутся изысканными денди.
– Мне их довелось видеть. Вчера я проходил мимо и заметил группу из дюжины молодых людей праздного вида, весьма подозрительных по одежде и манерам.
– Вот-вот, по манерам. Отбросы из Бауэри. Цветочки с уличных перекрестков. Я к ним вышел. Попросил пройти своей дорогой. «Стоим, где хотим. Здесь свободная страна!» – огрызнулись они. Наглые щенки. Я не против свободы, По. Я такой же патриот, как и любой другой. Я патриот до мозга костей! Бог мой, да видел бы ты мой праздник в честь Четвертого июля. Грандиознейшее представление в истории зрелищного бизнеса! Больше сотни исполнителей в костюмах эпохи Американской революции, от Бостонского чаепития до битвы при Саратоге. Роскошные фейерверки! Столько шику! Не этой помойной шушере учить меня принципам демократии…
Барнум возбужденно взмахнул сигарой, с которой сорвался мини-фейерверк искр, посыпавшихся на стол.
– Значит, вам не удалось уговорить их разойтись.
– Ну не стоять же мне там вечно. Не у всех есть время подпирать углы да фонарные столбы днями напролет. К тому же я не знал, что они замышляют. Только я удалился, как они принялись собирать всякую дрянь: гниль да помои, мусор, даже дерьмо лошадиное, не поверишь! Дали залп – и смылись. Я вылетел с силачами да гигантами, с зулусами… Куда там! Их и след простыл.
Откинувшись на спинку кресла, король зрелищ присосался к сигаре.
– Я вот что скажу тебе, По, малыш мой, может, ты и удивишься. Я не слишком обижаюсь на эту мразь. Ведь не станешь же ты бранить свинью за привычку валяться в грязи. Или крысу за то, что она питается отбросами в канализации. Они действуют согласно дарованной им Господом природе. А вот мерзавец Беннет действительно заслуживает обвинения и осуждения. Вот кто настоящий зачинщик этого безобразия! Он разжигает страсти своей беспочвенной клеветой. И вполне способен довести дело до кровавого финала. Поверь мне, я такое видывал. Разозленная нечисть, вылезающая из трущоб, как крысы из подвалов… Это похоже на нашествие варваров на Рим. И больших усилий не требуется, особенно в такую адскую погоду, когда все взвинчены до точки кипения. Эта скотина Беннет с огнем играет.
– Но зачем? Каковы его движущие мотивы?
– Ох, дружище, ты меня удивляешь. Ты ведь блестящий аналитик, у тебя такой тонкий ум – и такая наивность. Ответ на поверхности… как мой нос, виден ясно. Зависть, малыш мой. Просто-напросто зависть. Его язвит мой успех. Жжет, покою не дает. Он, возможно, ночей не спит, придумывая, как мне нагадить. Это ж надо – обвинить моего Медвежьего Волка в таких гнусностях! Убийство и скальпирование девочек! Такой гнусной чуши я еще не слыхивал. А поверь, я много чего в своей жизни слыхал.
Цвет лица Барнума в этот момент заставил меня приподняться в кресле. Я испугался, как бы его не хватил апоплексический удар.
– Верно-верно, – поспешно вставил я. – Из всего, что я прочитал в газетах, видно, что меньше всего вероятность того, что это преступление совершил индеец племени кроу, следовательно, и не Медвежий Волк.
– Точно, друг мой, совершенно точно. Не скажу, что старик Волк ангел. Куда там! Весь в крови, столько намахал своим томагавком; да и скальп, с которым он пляшет, не игрушечный, его собственной выделки… Так это ж когда было! Бог меня благослови, он ведь куда как старше меня. Ему же за шестьдесят! Со скрипом ноги поднимает, когда пляшет, ревматизм мучает. А уж лентяй!.. Сидел бы целыми днями за бифштексом да за картами с Джоном Хансоном Крэгом, моим Толстяком из Каролины.
– Какие можно принять контрмеры в ответ на действия Беннета?
– Что ж, подобное подобным… Применить его собственное оружие. Ежедневную прессу. Вот, глянь, дружок.
Барнум вытянул средний ящик письменного стола и вынул из него лист бумаги, который передал мне.
– Сегодня утром сочинил, – не без гордости пояснил Барнум, когда я принял исписанный листок.
На листке была набросана явная рекламная заметка в виде газетной статьи. Самореклама мистера Барнума. Заголовок выделен заглавными буквами: БАРНУМ – ОБЛАДАТЕЛЬ ПРИЗА «БЛАГОДЕТЕЛЬ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА»! АМЕРИКАНСКИЙ МУЗЕЙ – САМОЕ ПОЛЕЗНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ТАКОГО РОДА ВО ВСЕМ ХРИСТИАНСКОМ МИРЕ!
Из текста следовало, что Барнум недавно определен как «Человек Года» представительным форумом ведущих деятелей церкви и образования Соединенных Штатов. Ему присуждена золотая медаль («из чистого золота» – гласил текст) за «неустанные усилия по защите идеалов нравственной чистоты и моральных устоев» общества. Текст статьи сопровождался подборкой высказываний, типичным образчиком которой могло служить суждение некоего «преподобного Мики Биллингворта», который якобы изрек: «Если не считать самой христианской церкви, то невозможно найти столь полезное и воодушевляющее заведение, как Американский музей. Каждому мужчине, каждой женщине, каждому ребенку нашей страны кроме еженедельного посещения храма Господня следует наведываться и в музей мистера Барнума».
– Примите мои поздравления, сэр, – сказал я, прочитав статью. – Я, правда, к стыду своему, не слышал о таком комитете… э-э… «по поощрению нравственности в общественных развлечениях».
– Неудивительно, неудивительно, – утешил меня мистер Барнум, придавив пенек докуренной сигары ко дну пепельницы. – Нет такого комитета на свете. Его нет в буквальном смысле. Но по сути-то здесь все верно. Смысл важнее буквы! Кто оспорит факт, что мой музей – лучшее семейное развлечение? И большинство этих высказываний подлинные. Ну, может быть, и не совсем большинство. Но есть и стопроцентно подлинные.
За долгие годы знакомства с Барнумом я слишком привык к его способам ведения дела, чтобы выказывать какие-либо признаки возмущения, негодования, неприятия иного рода. Положив бумагу на стол, я просто спросил:
– И куда направится эта статья?
– На первую полосу завтрашней «Миррор». Генри Моррис мой добрый друг. Кроме того, он Беннета ненавидит не меньше, чем я.
– Интересно, я ведь тоже собираюсь заглянуть к Моррису. У меня для него рукопись.
– Правда? – обрадовался Барнум. – Сделай одолжение… – он схватил еще один листок, набросал на нем записку, сложил и сунул в конверт вместе с рукописью статьи, – …отдай это Моррису. На курьере сэкономлю.
– С удовольствием, – пообещал я, засовывая конверт в карман, к лежавшей там рукописи. – Наверное, мне пора откланяться.
– Так скоро? Я еще не успел спросить тебя о твоих милых дамах.
– Они обе в добром здравии, – заверил я. – Хотя хрупкое здоровье Вирджинии внушает опасения. Обе они с восторгом восприняли ваш щедрый подарок – как и я сам. Прекрасные, редкие лакомства из далекой Европы. Примите нашу искреннюю благодарность…
– Не стоит благодарности, – отмахнулся Барнум. – И мои наилучшие пожелания обеим. Они желанные гости моего музея в любой день, включая выходные и праздники.
– Непременно, – ответил я, поднимаясь. – Что ж, всего доброго. Мне уже и в свою редакцию пора, а еще к Моррису в «Дейли миррор»…
– Все, все, не задерживаю, – Барнум тоже вскочил, как будто подброшенный пружиной, и широким шагом вышел из-за стола. – Я ведь тоже не бездельник. Сейчас прежде всего найду Освальда и попрошу его сочинить новый плакат, взамен трагически погибшего.
Я уже направился к выходу, но, услышав эту фразу, задержался.
– Вряд ли следует сейчас, с учетом взрывоопасной ситуации, восстанавливать утраченный плакат на прежнем месте. Негодяи воспримут это как неприкрытый вызов.
– Ты прав, мой мальчик, не стоит раздувать пламя. Но и пустовать такое место не должно ни в коем случае. Зияющая дыра – это раз. Рекламное пространство – это второе и главное. Вывешу-ка я там рекламу, скажем, живой анаконды… Или дрессированных цыплят матушки Кэри. Нет, вот! Он мне там намалюет мсье Вокса! Точно, знаменитый мсье Вокс! [4]4
Vox – голос (лат.).
[Закрыть]
– К сожалению, впервые слышу.
– Ну, у меня он новичок. Но уже прославился, удивительно, что ты о нем не знаешь. Известен во всем цивилизованном мире! Чемпион среди чревовещателей! Чудо света! Это тебе не какая-нибудь там хохмочка вроде парня с парой куколок. То есть куклы тоже имеются, не спорю… Для невзыскательной публики. Но это лишь часть его программы. Он разыгрывает целые сцены из классики, используя манекены героев, изготовленные лучшими мастерами. Разумеется, говорит за всех героев. Послушал бы ты сцену смерти Дездемоны в его исполнении! Бог ты мой, да аудитория ревмя ревет всякий раз!
Замечание о чревовещательском варианте классической (хотя и страдающей некоторым неправдоподобием мотивировок) трагедии Шекспира «Отелло» переполнило чашу моего терпения. С трудом удерживаясь от взрыва презрительного смеха, я выдавил из себя:
– З-замечательно.
– О, разумеется! – не заметил иронии мой собеседник. – Ты просто должен это увидеть. И дам своих захвати.
Кивая и улыбаясь Барнуму, я ретировался к двери.
Глава пятая
Выйдя из музея, я направился в редакцию «Дейли миррор», находившуюся на Нассау-стрит. Шагая по Бродвею, я возвращался мыслями к разговору с Барнумом.
Нападение на музей – само по себе всего лишь мелкий акт вандализма, свойственного любому обществу, – в данной ситуации было признаком надвигающейся опасности. Подонки из Бауэри, ответственные за этот акт, презирая полезный труд, тратили свою энергию на деятельность разрушительную. Потребовалось не слишком много усилий, чтобы организовать их в бешеную толпу, сметающую все на своем пути. Бунты черни из трущоб Нью-Йорка случались с устрашающей регулярностью. Один из них даже был увековечен экспозицией в музее Барнума.
Я имею в виду, разумеется, «Докторский бунт», потрясший Манхэттен полвека назад. Основой этого прискорбного события послужило возмущение широкой публики вампирской – и в те времена не слишком редкой – практикой ограбления могил.
Из-за законодательных ограничений того времени, допускающих анатомическое вскрытие лишь тел неимущих и казненных преступников, медикам катастрофически не хватало трупов для анатомических исследований и обучения студентов. Такая ситуация принуждала профессоров хирургии и их студентов прибегать к отчаянным – и не всегда законным – методам.
Яркий пример – великий Уильям Гарвей, чей классический труд «De moto cordis et sanguinis» [5]5
«О движении сердца и крови» (лат.).
[Закрыть]представляет собой краеугольный камень науки о человеке. В своем стремлении исследовать систему кровообращения он вынужден был использовать трупы умерших естественной смертью ближайших родственников, отца и сестры. Еще более разительный пример – французский хирург Ронделе, профессор школы медицины в Монпелье. За неимением материала для обучения студентов он пожертвовал телом собственного умершего ребенка.
Пожалуй, не следует удивляться тому, что решение, к которому пришли Гарвей и Ронделе, – использовать собственные семьи как источник анатомического материала – не получило широкого распространения среди их коллег. Вместо этого анатомы решили обратиться туда, где этого материала было в избытке: на кладбища. Первыми извлекателями трупов были, скорее всего, сами медики да их студенты. Впоследствии ограбление могил стало профессией так называемых «воскресителей», выкапывавших свежезахороненные трупы и поставлявших полученный таким образом анатомический материал медицинским школам.
Разумеется, информация о том, что безвременно почившие родные и близкие могут покинуть место упокоения и оказаться на анатомическом столе, привела к непопулярности вскрытия трупов как такового. Особенно сильно затронутыми оказались чувства беднейших слоев населения, вероятность посмертного странствия для которых была гораздо выше (состоятельные все же прятались после смерти в прочные склепы и саркофаги). Суеверный страх, отвращение, даже открытая ненависть к анатомам и их студентам охватили все слои населения.
На этом мрачном фоне и случился в Нью-Йорке конца восемнадцатого столетия «Докторский бунт».
Толчком, как водится, послужил незначительный эпизод. Некий подросток, имя которого история не сохранила, влез по лестнице-стремянке, оставленной рабочими у стены Нью-Йоркского госпиталя, и, движимый естественным любопытством, заглянул в окно анатомической лаборатории. Там студент-медик как раз исследовал руку, только что отрезанную от женского трупа.
Заметив зрителя, студент, недалеко ушедший от зеленого детства, помахал отрезанной рукой в воздухе, объявив, что рука эта принадлежит матери заглянувшего в окно мальчишки.
Случаю было угодно, чтобы мать мальчика действительно недавно умерла, а погребли ее на кладбище церкви Троицы. Перепуганный подросток ссыпался с лестницы и устремился к отцу, каменщику, работавшему на Бродвее. Возмутительная новость стала известна всем товарищам родителя, которые, похватав рабочие инструменты и размахивая ими как вполне подходящим оружием, устремились к госпиталю и начали крушить здание, чуть не атаковав нескольких подвернувшихся студентов, избежавших ранений, а возможно, и смерти только благодаря своевременному вмешательству властей.
В госпитале толпа обнаружила множество различных частей тел, но понять, кому они принадлежат, возможности не было. Тогда кто-то предложил отправиться на кладбище и проверить могилу почившей жены каменщика. Увеличивавшаяся с каждой минутой толпа решительно направилась на кладбище.
На кладбище возмущенные люди добыли лопату и приступили к мрачной процедуре. Гроб вынули на поверхность и вскрыли.
Каковы же были удивление и ужас собравшихся, когда они увидели, что под крышкой пусто!
Что тут началось! В течение суток толпа, выросшая до пяти тысяч человек, громила и грабила здания Колумбийского колледжа, квартиры городских докторов, осадила муниципальную тюрьму, в которой искали убежища сбежавшие врачи и студенты.
Потребовалось вмешательство высокого начальства. Разрешением ситуации занялись губернатор Джордж Клинтон, мэр Джеймс Дюэйн, главный судья Роберт Ливингстон, а также мистер Джон Джей, тогдашний секретарь Конгресса по иностранным делам. Их усилия ни к чему не привели. Толпа забросала их камнями, один из которых вывел из строя мистера Джея, лишив его сознания. Бунт удалось подавить только после того, как были вызваны войска и открыта стрельба. Потеряв несколько человек убитыми, толпа рассеялась.
Прошло с той поры уже полвека, но в памяти жителей города этот эпизод сохранился отчасти благодаря самому мистеру Барнуму, в музее которого событию этому посвящена целая витрина, под стеклом которой хранится, в частности, рука, якобы принадлежавшая тому самому женскому трупу, из-за которого и произошли упомянутые события. Подлинность руки, как и в случае многих других экспонатов музея, весьма сомнительна. Разумеется, способа установить эту подлинность не существует.
Не подлежит сомнению, однако, тот факт, что Барнум сам оказался в положении, весьма напоминающем положение докторов и студентов во время «Докторского бунта». Он стал центром всеобщего внимания в чрезвычайно неустойчивой ситуации, чреватой взрывом и гражданскими беспорядками.
Внешних признаков грозящего возмущения заметно не было. По пути в редакцию «Дейли миррор» я всматривался в лица пешеходов, как обычно торопящихся по своим делам и не интересующихся более ничем. Но прочное здание может рухнуть при внезапном подземном толчке, так и город мгновенно погрузится в хаос от соответствующего побудительного импульса.
Ситуация складывалась зловещая. Соображения Барнума относительно возраста и состояния здоровья Медвежьего Волка лишь подкрепляли мою уверенность в невиновности индейца. Но пока он остается под подозрением, не предпринимается ничего, что могло бы привести к обнаружению настоящего преступника. Конечно, полиция Нью-Йорка полна решимости схватить негодяя, но у них, как всем прекрасно известно, нет ни опыта, ни умения, необходимых для обезвреживания преступников, демонстрирующих степень изощренности чуть выше средней. Значит, следует ожидать повторения ужасного злодеяния. Преступник между тем оказался еще более омерзительным, нежели предполагалось. В этом мне еще предстояло убедиться.
Помещения редакции «Дейли миррор» находились на третьем этаже. Едва успев подняться по лестнице, я натолкнулся на человека, которого искал.
Невысокий и коренастый мистер Моррис, лет этак шестидесяти, выделялся массивной головой с густой седой шевелюрой. Над глазами нависали кустистые брови, тоже седые. Он стоял в коридоре и шевелил толстыми сочными губами – как выяснилось, когда я подошел ближе, разговаривал с молодым человеком, мне совершенно неизвестным.
В отличие от остальных городских газетных деятелей его масштаба, известных грубостью и диктаторскими замашками, Моррис поражал дружелюбием и видимой мягкостью в общении. В данный момент, однако, он выглядел непривычно. Еще издали я заметил мрачное выражение его лица. Он читал что-то с листка, зажатого в руке, и становился все мрачнее. Читая, покачивал головой и еле слышно недовольно цокал языком.
Моррис настолько глубоко погрузился в чтение, что не заметил моего приближения. Я подошел к нему и остановился. Стоявший рядом с Моррисом брюнет с болезненно бледным угловатым лицом и выступающим массивным подбородком выглядел лет на двадцать пять. Он приветственно кивнул, с любопытством рассматривая меня из-под выгнутых крутыми дугами бровей.
Моррис проворчал что-то и оторвался от бумаги.
– По! – удивленно воскликнул он. – Откуда вы взялись?
– Только что подошел, – сообщил я. – Не хотел мешать.
– До полусмерти напугал. Как будто из воздуха материализовался, как фокусник Барнума.
– Нет, появился я не из воздуха; более мирским, пешеходным способом, но, в частности, и по поручению мистера Барнума.
Я тут же извлек из кармана и вручил Моррису конверт от Барнума. Моррис быстро вытащил листки и ознакомился с содержанием.
– Обычные фокусы Финеаса, – хмыкнул он. – Что же, сделаю, отчего не сделать. Всегда рад оказать услугу старому другу. – И он снова уставился на меня. – Что у вас еще? Ведь не только из-за этого вы сюда пришли!
Я подтвердил верность его предположения и объяснил цель своего визита. Сообщил о наглом письме К. А. Картрайта и постарался заинтересовать редактора своей остроумнейшей сатирой. Вручив последнюю Моррису, я скромно выразил надежду, что он сможет найти для нее место в одном из номеров газеты, и подчеркнул, что оплатой могу пренебречь, удовлетворившись фактом публикации.
– Опять ваши литературные дрязги, да? – усмехнулся Моррис. – Ладно, ладно, цапайтесь, мне только на руку, от ваших склок тираж растет. Вы, однако, подумайте, прежде чем затевать ссору с этим Картрайтом. Не встречался с ним, но слухом земля полнится. Вздорный парнишка, нешуточный.
– Я тоже с собой шутить не позволю, – твердо заявил я.
– Хорошо, хорошо, – сразу согласился Моррис, засовывая мою рукопись в карман двубортного сюртука. – Прочитаю, как только выдастся свободная минутка. Если на самом деле такая веселенькая штучка, как вы охарактеризовали, то будет желанным отдохновением после этой гадости.
Последнее относилось к листку, который он увлеченно читал перед моим приходом.
– Какого плана гадость?
– Результаты вскрытия Розали Эдмондс. Убитой бедняжки. – Он мотнул подбородком в сторону молодого человека. – Таунсенд добыл. Вы еще не знакомы? Джордж Таунсенд, лучший в городе репортер отдела новостей. Эдгар Аллан По, – представил он нас друг другу.
– Автор «Ворона», – кивнув, дополнил молодой человек. – Адское стихотворение. Ничего более жуткого не читал.
– Если не считать этого, – снова указал Моррис на листок, зажатый в левой руке. – Даже вы такого не сможете вообразить, По. Хотите взглянуть?
Он протянул мне листок.
С первой же строчки я почувствовал приступ дурноты. Голова закружилась, как будто я стою у края высокой скалы и смотрю в бездну. Моррис верно отметил, что я в своих работах, учитывая нездоровую страсть публики к сенсациям и ужасам, часто нагнетаю обстановку и не гнушаюсь мрачными сценами. Но ничто в моих опусах не могло даже отдаленно сравниться с фактами коронерского заключения.
Увечья, нанесенные юной жертве, оказались гораздо тяжелее, чем указывалось в газетах. Кроме свирепо сорванного скальпа – даже уши оторвались от головы – жертва оказалась лишенной глаз. Углы рта взрезаны ножом, как будто убийца стремился начертить на лице мертвую улыбку, придав голове жертвы сходство с тыквой-маской в канун праздника Всех Святых. Отрезаны несколько пальцев. Причина смерти – страшный разрез горла, до самого позвоночного столба. Трезвое, лишенное эмоций описание судебного медика только сгущало кошмар содеянного. Даже упоминания о самых безобидных из нанесенных ранений, о кровоподтеках от веревок на лодыжках, вызывали невыносимое отвращение.
Особое внимание привлекало сообщение о разрезе с правой стороны живота, сразу под ребрами. Исследовав эту рану, медицинский эксперт обнаружил, что у трупа отсутствует печень! Так как печень не нашли, становилось ясно, что убийца нашел для нее какое-то применение, наряду со скальпом и отрезанными пальцами.
Заканчивая чтение, я услышал голос Морриса.
– Как вы, По?
Судя по вопросу, можно было заключить, что шок, ужас и отвращение каким-то образом отразились на моем лице. Действительно, я ощутил, что лоб у меня взмок. Вернув бумагу, я успокоил Морриса.
– Да, со мной все в порядке. Конечно, трудно быть спокойным, когда читаешь такое. Вы совершенно правы, никакая фантазия не превзойдет этого реального, невыдуманного ужаса. Публикации в газетах лишь намекали на тяжесть увечий.
– Конечно, – подтвердил Моррис. – Подобное в газетах полностью не напечатаешь. Слишком тяжелый материал. Мне и то тяжело читать, особенно об изуродованном лице ребенка.
Он покачал головой и вздохнул, прежде чем продолжить.
– Что за чудовище могло сотворить такое над другим живым существом, да еще над ребенком!
Дурнота, вызванная чтением медицинского заключения, несколько отступила, я смог соображать яснее.
– Чтобы ответить на этот вопрос, нам следует подавить естественное отвращение к жестокости преступления и попытаться занять беспристрастную позицию специалиста. Того же судебного медика, к примеру. Только таким образом можно рассматривать документ не как источник нездоровых эмоций, но как полезную информацию о психологии преступника, что сужает круг поиска. Особенно важным кажется мне факт удаления печени ребенка.
– Я тоже об этом думал, – вставил молодой репортер. – То же самое случилось с девочкой Добса.
– И что вы об этом думаете, По? – сузил глаза Моррис.
– Как ни неприятно высказывать такое предположение, но вывод напрашивается сам собой. Именно, что среди прочих омерзительных качеств этого существа, убийцы, числится и склонность к антропофагии.
– Как? – в один голос воскликнули оба.
– Каннибализм… Людоедство… – объяснил я ужасный термин.
Мое предположение ошеломило Морриса и Таунсенда. Оба стояли молча, с раскрытыми ртами.
– Хотя сама мысль о людоедстве противна чувствам цивилизованного человека, – продолжал я, – в нашей природе изначально заложен вкус к человеческому мясу. Повсеместность запрещений этого явления говорит о том, что данная склонность универсальна. Среди практикующих людоедство печень считается деликатесом. То, что монстр, убивший девочек, вырезал печень у обеих и захватил органы с собой, установлено бесспорно. Из отчета эксперта следует, что, в отличие от остальных беспорядочно нанесенных увечий, в отношении печени преступник проявил аккуратность и осторожность.
– Да-а, такого я, пожалуй, еще не слыхивал, – ужаснулся Моррис. – Надеюсь, что вы ошибаетесь, По. А если нет, то этот мерзавец Беннет может оказаться прав. Тогда убийца индеец. Тот самый Большой Босс Кроу Как Его Там.
– Ничего подобного, – возразил я. – Если я прав, то вождь Медвежий Волк в качестве убийцы отпадает. Есть в Америке индейцы-людоеды, не спорю, но племя кроу к ним не относится.
– Тогда другой краснокожий дикарь, который «относится».
– Что он дикарь, спору нет. Такое преступление может совершить лишь существо, которому чужды все ценности цивилизации. Что касается цвета кожи, то тут нельзя прийти к определенному выводу. Как показывают исторические материалы, примитивные племена отнюдь не обладают монополией на варварство и дикарство. Преступления неимоверной жестокости совершались как белыми, так и людьми иных цветов и оттенков кожи по всему миру и во все времена.
– Да, мы, двуногие, – мерзкие твари, не возражаю, – вздохнул Моррис. – Но все же такого гадкого случая я еще не припомню. А я ведь уже сорок лет в газетном бизнесе. Скажу я вам, ребята: чем дольше живу, тем больше огорчает меня чертов род человеческий.
Наступила пауза. Моррис встряхнул своей львиной гривой, скатал копию отчета судебного медика в трубку и хлопнул этой трубкой по ладони.
– Пора за работу, – решительно объявил он. – Мне пора, и вам пора, Таунсенд.
Молодой репортер повернулся ко мне, протянул руку, улыбнулся и продекламировал:








