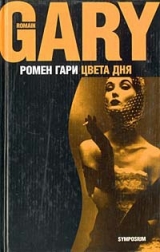
Текст книги "Цвета дня"
Автор книги: Гари Ромен
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 18 страниц)
Он попытался было улыбнуться, но его улыбка, как зазубренное оружие, устала сражаться. Это было сильнее его. Это было сильнее его, и он дал себе волю и сделал еще один небольшой круг по манежу, и тем хуже, если я вызываю у вас смех, – смейтесь, смейтесь, смейтесь! – так в вас будет хоть что-то человеческое. Ибо весь этот французский покой – ну да, ну да, смейтесь! – весь этот французский покой и твоя грудь в моей руке, как если бы Франция была круглой, эти плавно спускающиеся к морю террасы и оливковые деревья, все то дружелюбие, которое по-доброму излучал этот уголок земли, были для него не столько реальностью, сколько наброшенным на нее покрывалом, и к каждому поцелую примешивались угрызения совести оттого, что чувствуешь, как горит Рим. Праведное небо, небо Монтеня, небо белого хлеба, неужели больше невозможно быть счастливым, чтобы ветер с моря не примешивал при этом к вдыхаемой тобой радости свое коварное благоухание? Да и сама любовь, неужели отныне она возможна лишь как прощальная песнь? А ведь всякий раз именно человеческие головы тщетно рубят на гидре абсолюта. Но перед лицом этого столь праведного пейзажа, когда твоя рука в моей руке, когда ощущаешь сладость бытия, о которой неизвестно, исходит ли она из воздуха или от тебя, как тут не почувствовать, как в тебе самом растет желание поделиться всем этим? Как тут не мечтать о том, чтобы дать продолжение этому счастливому уголку, твоим устам, моей любви – и разве награда за всю эту оставленную позади себя радость состоит не в том, чтобы построить мир, в котором она займет первое место? Как при этом французском освещении не поддаться краскам Юга, той самой соли свободы, что откладывает ветер на моих губах, как не поддаться нежности твоей шеи, ее хрупкости, ее слабости, как не защищать все это? Как не поддаться столь ясно выраженной воле всего, что меня окружает, – как не защитить право человека расти свободно, как эти французские деревни, что потихоньку встают там, где того требует глаз? Подними свой взор – и ты увидишь эти цвета, столь ясно выписанные в небе; опусти его – и ты увидишь их начертанными на нашей земле столь ясно, что невозможно ошибиться и не подчиниться им. Энн, дорогая, я слишком глубоко чувствую то, что мне хочется тебе дать, и потому не могу не защищать свою душу от всех этих вариантов тотального морального долга, при котором она сможет существовать лишь разлагая сам строй. Он смотрел на деревню, с ее ареной виноградников и апельсиновых деревьев, расположившейся у подножия старых домов из серого камня, на деревню, которую забросил сюда не какой-то высший замысел человека – прихоть веков на радость человеческому взору откладывала ее здесь. Краски были тут – ясные и живые, и их цвета говорили о женственности, терпимости и медленном созревании. Но как же трудно было побороть желание сделать из этой деревни идею всеобщего мира, этакую тему самопожертвования и братства, как трудно было не помчаться на край земли во имя этой вот родной колокольни…
Он почувствовал, как рука Энн сжимает его руку: он совсем о ней забыл.
Он попытался улыбнуться и вспомнить, что сказал о лирических клоунах Горький, но то, что сказал Горький, вероятно, было не столь уж важно, потому что он написал среди прочего, что любовь – это непонимание человека перед лицом природы. Он просто поцеловал ее, и в этот самый миг она сознательно захотела от него ребенка; это был единственно возможный способ сберечь все: начиная с оливковых деревьев и кончая горизонтом. Она ничего ему не сказала. Она знала, что мужчинам не понять, как можно строить таким способом. Она долго оставалась в его объятиях. Вошел садовник в высокой соломенной провансальской шляпе, приблизился, забрал тачку и выкатил ее, ни разу не взглянув на них, как будто они являлись частью издавна знакомого ему пейзажа.
– Давай вернемся.
Когда они покидали сад, Энн заметила под кустом мимозы какого-то господина: одной рукой он опирался о цветущую ветку, а другой поднес к глазам бинокль. Очевидно, он разглядывал парусники на горизонте. Когда они проходили мимо, господин опустил бинокль на грудь и поздоровался, приподняв свой серый котелок, и Энн улыбнулась ему. Они прошли через церковь, которая теперь, когда зашло солнце, казалась совсем пустынной. И только две монахини стояли на коленях перед алтарем, похожие на бумажных птиц в своих огромных, белых шляпах, – повиснув на своих четках, они, казалось, держались только за эту нить – и на сей раз это и в самом деле выглядело так, как будто Ренье и Энн не существовали; они бесшумно прошли через церковь, и все на самом деле выглядело так, будто их не существовало и будто в мире была лишь одна любовь, но это была не их любовь. Тишина, проводив их из церкви, решила не расставаться с ними, и Ренье вспомнил о тех стариках, что, сидя на ступеньках, провожают вас глазами на выходе из всех церквей и мечетей мира, и взгляду их нет конца. Он зашагал быстрее, чтобы не дать себя заполучить, чтобы не дать лишить себя телесной оболочки, – поскорее прижаться друг к другу в человеческом пространстве, без потусторонности, без навязчивого и далекого зова, вне досягаемости, вне распахнутых объятий горизонта, – поскорее очутиться в каком-нибудь углу, который можно заполнить вдвоем и который вас полностью устроит. Они взошли по ступенькам, закрыли за собой дверь и прошли по плиточному полу к распахнутому окну, и, разумеется, небо было там, – взобравшись на огромный кусок горы, оно глядело на них сквозь деревья, чьи контуры выступали как редкие шерстинки на хребте хищника. Он быстро закрыл ставни, запахнул шторы и пошел за ветчиной, артишоками, козьим сыром и бутылкой вина; хлеб был еще совсем свежим, и он не удержался и сдавил его пальцами, чтобы почувствовать, как они уходят внутрь его плоти, и чтобы послушать, как поет корка, и он улыбнулся Энн, и здесь было все, что может пожелать человек, – все, что он вправе потребовать. Она пошла на кухню за приборами и еще раз взглянула на гору – это была спина буйвола, опустившего морду, как бы желая напиться, – и на последних птиц, суетившихся над ее рябой поверхностью; все, чего она хотела, – это иметь от него сына, и может статься, что, когда тому исполнится двадцать лет, голоса, умиротворенные и успокоившиеся, стихнут, и тогда она сможет сберечь его, как не смогла сберечь его отца. Она вернулась и принялась наблюдать за ним: вот он вышагивает в своих сандалиях по красным плитам – узкие бедра, так плохо спрятавшееся за суровостью лицо, – она смотрела на него: вот он кладет на стол фрукты, на тарелку сыр, и как же он старается, изо всех сил прижимаясь к земле. Она даже не сердилась на него за это, она тоже любила эту невозможную мечту, безграничную мечту, что дарил он ей при каждом объятии, а так она может крепко держать то, что сам он лишь тщетно пытается схватить. Ведь достаточно быть любимым кем-то, чтобы принести ему в дар все завоевания, которые ты тщетно предпринимал, и таким образом полностью исполнить творение, с которым ты один терпел лишь неудачу.
– Вот. Почти готово.
Он налил ей вина, и они уселись за стол, и над всем этим торжествующе царил запах чеснока. Дверь была надежно заперта, стены крепкие, и я уже не еду, решено, отправлю Монклару телеграмму, чтобы сказать – порядок, полная победа, Я остаюсь с ней, сделаю ей сына и заставлю его хорошо выучить границы Франции, чтобы он из них не выходил, и куплю ему виноградник, чтобы он хорошо знал, что ему принадлежит.
VI
Из окна были видны оливковые деревья, раскраской напоминающие рыбью чешую; они шевелились на мистрале, как те сардины, что он видел когда-то копошащимися в отцовской лодке на Сицилии, они были точно такого же серебристого цвета, и мистраль беспрерывно сотрясал их; голубое, каким он любил его, небо было хорошенько выметено ветром; Сопрано глядел на него чуть мечтательно, с некоторой завистью, как смотрел на барона, тоже умудрявшегося всегда быть очень чистым, и думал: интересно, как им это удается? Он как раз ел сардины, наклонившись вперед, чтобы падавшие с банки на ковер капли масла не запачкали ему брюки. Справа находился балкон, солнце тоже было с этой стороны, и Сопрано время от времени отодвигал стул, чтобы увернуться от пытавшейся лечь на него полосатой тени от ставней, – он был суеверен. Ставни были приоткрыты ровно настолько, чтобы он мог видеть в конце улицы Пи – между расположившимися террасами садами, что начинали громоздиться там над стенами, – дом влюбленных с его плоской крышей, на которой билось на ветру оранжевое полотно шезлонга, и поднимавшееся выше домов море. Они проникли на виллу без особых трудностей – если не считать того, что пришлось повозиться с замком, – благодаря рекламному щиту, приглашавшему их обращаться по вопросам аренды в некое агентство в Монте-Карло, из чего ясно следовало, что на вилле никого нет. Они находились в будуаре. Барон спокойно сидел в полумраке, в глубине комнаты, между японской ширмой и туалетным столиком, заставленным флаконами, пудреницами и зеркалами. В вышитом жилете и с биноклем в руках он выглядел так, словно только что вышел из Жокей-клуба. Подлинный аристократ, с уважением подумал Сопрано. Он выпил масло, швырнул пустую банку из-под сардин на ковер, облизал пальцы и стал ковыряться в зубах, поглядывая то на оливковые деревья, то на барона. Он повстречался с ним на дороге возле Рима в Святой год, и барон сразу произвел на него впечатление своим изысканным видом. Он шагал босиком по Виа-Аппиа, и коротышка сицилиец поначалу заключил, что барон совершает паломничество в Рим. Но может, у него попросту украли обувь, а сам он был пьян, пьян как истинный денди. Однако очень скоро он должен был признать, что это не так. Единственной уликой, которую Сопрано обнаружил в карманах барона, был портрет последнего, вырезанный из какой-то немецкой газеты. Бумага совсем измялась, но узнать его не составляло никакого труда: уже тогда у него был тот же весьма изумленный вид, те же светлые глаза, изогнутая бровь, пробор посередине. К сожалению, сама статья, к которой относилась фотография, отсутствовала. Однако от текста еще оставалось несколько слов, и Сопрано часами разглядывал их. Еще можно было различить слова «военный архипреступник», затем «концентрационный лагерь» и, наконец, фразу «одна из наиболее благородных фигур Сопротивления», которая, вероятно, являлась частью подписи под снимком. Все остальное было оторвано. Осталась лишь крайне удивленная физиономия барона. Поди пойми тут что-нибудь. Барон с равным успехом мог быть как военным преступником, так и великим героем. В конце концов Сопрано разделался с этой проблемой, решив, что тот был и тем и другим одновременно. Это красноречиво доказывал его изумленный вид. И ясно было, что он в своем состоянии не смог ни от чего и ни от кого защититься. У него никогда не было ни единого шанса, думал Сопрано. Наверное, сначала его взяли да и сунули комендантом в концентрационный лагерь, ну а после, вероятно, его засунули в Сопротивление, заставили совершать героические дела – или наоборот. В каком порядке это происходило – неважно. Он тут ничего не мог поделать. Все, чего он изо всех сил добивался при таком раскладе, – это остаться незапятнанным. И в этом он преуспел. Сопрано оставил его при себе, чтобы с ним больше ничего не случилось. Сделал он это инстинктивно, сам толком не зная почему. А несколько дней назад прибавился новый факт: страница, вырванная из женского журнала, которую иностранцы обнаружили в кармане его друга в Ницце. Или, может, сами туда ее и засунули, подумал Сопрано, почесывая щеку. С бароном никогда не знаешь, чему верить. Может, ему плевать на меня. Продолжая почесывать свои колючие щеки, на которых щетина отрастала трижды за день, что никогда не позволяло ему быть по-настоящему чистым, он поднял на барона мечтательный взгляд. Сопрано вытащил из кармана страницу и уже в который раз развернул ее. «Словарик великих влюбленных. Гельдерлин, Фридрих (1770–1843). Он хотел абсолютной любви, большей, чем сама жизнь…» Он покосился на своего друга: тот сидел совершенно неподвижно, положив руку плашмя на колени – правда, его голова слегка подрагивала; Сопрано вдруг показалось, что барон еле сдерживает смех и что его вот – вот прорвет. Но, разумеется, это Сопрано только показалось. «Он хотел абсолютной любви, чистой, глубокой, великолепной, большей, чем сама жизнь. И он ее нашел. Он потерял не жизнь, а рассудок. Сюзетта Гонтард, жена банкира, который нанимает Гельдерлина, выглядит столь же юной, как и ее дети; брюнетка с темными глазами, полными огня и нежности. Но банкир обнаруживает их страсть и выставляет поэта за дверь. Сюзетта, не вынеся разлуки, умирает… И Гельдерлин погружается в отсутствие… Он трогается рассудком, но это тихий, отсутствующий помешанный, которого мысленно здесь просто уже нет. Человек-призрак. Окаменевший ствол дерева. Он прожил так еще тридцать семь лет у столяра, который приютил его, возможно потому, что сам привык к дереву». Он сложил листок и восхищенно взглянул на барона. Да, он наверняка был крупной фигурой. В присутствии барона Сопрано чувствовал себя почти униженно. На долю этого бедняги выпало немало бед, но он явно происходил из знатной семьи. Он тут же прозвал его «бароном». Барону требовался тщательный уход, его нужно было мыть, причесывать, одевать; он соглашался сам есть, но категорически отказывался сам подтирать себе зад, вероятно по причине врожденного благородства. Но Сопрано справлялся с этой задачей со смирением и в добром расположении духа. Случалось, однако, он терял терпение и осыпал барона ударами, пытаясь заставить его заговорить, но не добился никакого результата: под градом пощечин барон оставался столь же далеким и безучастным, как если бы они являлись неотъемлемой частью его щек, как щетина. Порой у Сопрано как бы возникало предчувствие, что за всем этим скрывается некий чудовищный розыгрыш, что над ним смеются, но ему было совестно этих дурных мыслей: у барона был такой добродушный вид. Порой он задавался также вопросом, а существует ли барон на самом деле, не является ли он простым проявлением какой-нибудь болезни, которую когда-то подхватил Сопрано и которая может давать, что называется, неожиданные эффекты. Иногда неподвижность барона и в самом деле становилась пугающей, и случалось, Сопрано брал зеркало и подносил его к губам барона, желая убедиться, что тот еще дышит: он побаивался, что вдруг в один прекрасный день почует запах. Случалось также, он пристально вглядывался в своего друга с почти суеверным чувством, и тогда ему вспоминались некоторые истории, что рассказывали порой старухи в его деревне, когда он был маленьким. Но вырванная из дамского журнала страница полностью успокаивала его на этот счет. Он, наверное, погорел из-за какой-нибудь цыпочки, подумал Сопрано. Все женщины шлюхи, это общеизвестно. Он инстинктивно повернулся в сторону балкона, в сторону дома, что стоял в конце улочки, прямо над морем. Достав из кармана бумагу, скрутил цигарку. Долго, тщательно лизал ее, размышляя. Порой в его мыслях случались провалы, и тогда он слышал лишь шепот оливковых деревьев, видел синее-синее небо у себя над головой, ощущал запах рыбы и видел рыбу в лодке и своего отца, стоящего босыми ногами на сетях, которые еще немного шевелились, и какая-нибудь сардина, бывало, прыгала у его ног. Он достал из кармана револьвер и повернул большим пальцем барабан, стараясь овладеть собой. У него был еще один, такой же хороший, в туалетном несессере барона. В общем, первое, что надо сделать, это отправиться в Ниццу, повидаться с г-ном Боше и окончательно с ним все обговорить.
VII
В одиннадцать утра голубым экспрессом из Парижа прибыл Росс, представитель киностудии во Франции, который не сообщил заранее о своем приезде, что уже обещало немало неприятностей. Он застал Вилли валяющимся в постели на шелковых простынях, в бордовой пижаме, которая еще больше подчеркивала его опухший вид; пытаясь взбодриться шампанским, он тупо смотрел на пустое место рядом с собой – малышка Мур снималась в крохотной роли в Монте-Карло.
– Что случилось?
– А как вы думаете? Выпейте бокал шампанского.
– Послушайте, старина, положение серьезное – и вы это знаете. Им оно обходится в десять тысяч долларов в день.
– Спросите, во сколько это обходится мне?
– Так вот, Вилли, что-то здесь не так. Никто не требует от вас правды. Известно, что это не в вашем духе. Но постарайтесь все же подойти к правде настолько близко, насколько можете, и при этом не заболеть.
Вилли слабо шевельнулся в постели. Он всегда чувствовал себя неловко, когда кто-нибудь заставал его рано утром, в полдень, при его пробуждении. Россу это было известно, и он нарочно выбрал это время. Это был момент, когда Вилли если и не оказывался способным на искренность, так, по крайней мере, врал не очень убедительно. Он не владел ни своим лицом, ни своим голосом и лежал вялый, выставленный напоказ в реальном мире как большой комплекс неполноценности, видимый невооруженным взглядом.
– Что ж, ладно, Макси. Но советую вам, попридержите это при себе еще несколько дней. Я попытаюсь все уладить.
– Ну так что?
– Энн отказывается возвращаться.
Росс внимательно посмотрел на него.
– Она недовольна тем, как с ней обошлись на студии. Это уменьшение на пятьдесят процентов.
– Оно коснулось всех, Вилли, общая мера, вы знаете, в каком мы положении.
– Вот именно, старина. Общаямера. Ей очень тягостно подпадать под общую мерку. Она считала – а с ней… и ее менеджер, – что она особыйслучай. Исключительныйслучай.
Ему захотелось взять печенье, обмакнуть его в шампанское и небрежно, с хрустом, съесть. Но он боялся переборщить. По утрам он не чувствовал себя уверенным в своих силах. А как ему казалось, он ни разу не разыгрывал партии, которая имела бы для него большее значение, чем эта.
– Я ни верю ни единому слову из всего этого, Вилли, – торжественно провозгласил Росс. – Вам известно, что одно только снижение облагаемого налогом дохода дает вам выигрыш в тридцать пять процентов, а учет расходов практически покрывает остальное.
Он клюнул, подумал Вилли.
– Не перебивайте меня, Макси. Вы же именно для того и провели ночь в поезде, чтобы выслушать меня.
– Вилли, я повторяю, дело серьезное.
– Ладно, перехожу к главному. Уже четыре года я сам не могу снять ни одного фильма на студии. Два моих первых творения произвели в мире сами знаете какой эффект. Студия потеряла деньги, согласен. Но вы компенсировали это за счет Энн, благодаря мне, – это вы тоже знаете.
– Вы обошлись фирме в два миллиона долларов, – сказал Росс. – Мы согласились заплатить эту сумму за вашу славу и за то, чтобы знали, что с нами гений, – но не более того. Снимать фильмы для престижа можно было позволить себе в сорок пятом, но не сегодня. Вы слышали про телевидение?
– Я думал, вы собираетесь спросить меня, почему не вернулась Энн? – сказал Вилли.
– Вы и в самом деле хотите, чтобы я им пересказал вашу милую жалкую попытку шантажа? – спросил Росс. – Послушайте, малыш, буду с вами груб. Я вас очень люблю. Я вами в некотором роде восхищаюсь. Я уже тридцать пять лет варюсь в общем котле. Вы представляете для меня мир, которого вы сами даже и не знали. Эпоху настоящего кино, Вилли. Тогда это был не блеф – или, если вы предпочитаете, – это был настоящийблеф. Сногсшибательный блеф – который производил эффект – и который шел до конца. Блеф, доходивший до истинной поэзии, который не довольствовался лишь подражанием жизни, а здорово поработал и сам и подарил нам Чарли Чаплина и Бастера Китона. Поэтому вы вызываете у меня некую ностальгическую неясность. Вы вписываетесь в великую традицию. Но вам известно, что они, в конторе, думают об этом?
Он клюнул, клюнул, с облегчением думал Вилли. Вот это реализм. Он почувствовал себя в самом что ни на есть сказочном мире. Майти Маус был сильнейшим во всех сферах, в воздухе и на земле, на которую он, запахнувшись в пурпурный плащ, спускался в очередной раз, ради торжества добродетели. Он даже был способен побить могучих реалистов на их собственном поле.
– Они бы уже давно выставили вас вон, если б не было Энн. Конечно, вы им обошлись недешево, так что они чувствуют себя обязанными продолжать, но только до определенного предела. Через этот предел вы как раз и собираетесь сейчас переступить – и весьма далеко, я бы сказал. Впрочем, вы никогда не испытывали недостатка в ролях – это были роли как роли, согласен. Но вам никогда больше не позволят вернуться на сцену в качестве универсального гения – not on your sweet life. [25]25
Здесь: не в вашей сладкой жизни (англ.).
[Закрыть]Вам это известно. Так что не стоит размахивать руками. И использовать Энн.
Рыбке уже не сорваться с крючка, решил Вилли. Но он чувствовал себя польщенным тем, что сказал Росс: что он действительно вписывается в великую традицию. Сейчас он ему покажет, что такое великое искусство.
– Вы им передадите, что на сей раз я им обещаю быть паинькой.
– Вы сами знаете, как это было бы ужасно, – сказал Росс.
– Они вам рассказывали о моем последнем сценарии?
– Нет. Они знают, что я вас очень люблю.
Вилли сделал глоток шампанского, поставил фужер.
– Почему же, они думают, Энн держится за меня? – спросил он мягко.
Уже многие годы Россу хотелось ответить на этот вопрос.
– Из жалости, – сказал он.
Майти Маус чуть было не расквасил себе морду о землю, но Вилли даже и глазом не моргнул.
– Сейчас я вам все разложу по полочкам, Макси. Но начну с того, что скажу: я не совсем потерял голову. Вы им передайте, что я прошу, чтобы мне дали еще один шанс – а именно как универсальному гению. Обещаю, что буду себя сдерживать – в художественном плане – и они смогут навязать мне какую угодно съемочную группу. Можете сказать им еще и следующее: я хочу быть совершенно искренним. Впрочем, признаюсь, речь идет об искренности, заготовленной заранее и давно. Но я веду переговоры с итальянскими капиталами.
– Вилли, вы говорите с человеком, знающим, что они собой представляют.
– Вы, похоже, не подозреваете о моей известности на континенте, – сказал Вилли.
Ему было чертовски весело. А ведь он еще не нанес Россу удар в самое чувствительное место: ниже пояса.
– Я не говорю, что вы не смогли бы набрать капиталов на фильм-другой, – я бы сказал вернее – на один, если он по-настоящемухорош. Ну а после? Что-что, а условия, в которых живет европейский рынок, я знаю.
На сей раз Вилли выдал все, что припас:
– Не знаю, известны ли вам условия, в которых живу я со своей женой, Макси.
Росс прервался на полуслове. Он выглядел смущенным.
– Не вижу связи.
– Я начинаю уставать от этой милой шутки, Макси. Я отлично знаю, что это шутка, приносящая доход. Но я не хочу без конца продолжать разыгрывать из себя жеребца. Не делайте такое лицо: я прекрасно знаю, что из-за того, что вы живете с кодексом Хея в руках, он проник вам внутрь и вы все стали большими моралистами. Мне очень жаль, если я напугал вас. Но мне это понемногу начинает осточертевать. Я даже начинаю уменьшаться в своих собственных глазах как личность – что уже серьезно. Можно быть сутенером до некой определенной черты, но не дальше. Не в моральном плане, разумеется, не в моральном: в моральном плане на меня можно рассчитывать до конца. А физически.Я не могу больше расходовать себя без счета: уже не тот возраст. Мы могли бы бесконечно продолжать при обоюдной индифферентности. Но это не тот случай. Разумеется, она меня не любит. Даже наоборот. Но она дорожит мною в чувственном плане. А с этой стороны она женщина привередливая. Я мог бы привести уточняющие детали, цифры… В общем. У нее было несколько увлечений на стороне, которые смогли убедить ее в этом. Она относится ко мне как к физическому удобству – и так длится не со вчерашнего дня. Не стану говорить вам, что это ранит мое чувство собственного достоинства: это крайне утомительно, Макси, вот и все. Знаю, вы бы многое дали за то, чтобы оказаться на моем месте, но не так часто и не таким образом. К примеру…
Он привел несколько подробностей. Росс побагровел. Вилли знал, что он в некотором роде обожает Энн.
– Вот что такое моя жизнь. Я отлично знаю, какой доход мне это приносит. Но можно защищать свои интересы лишь до какого-то определенного предела – не дальше: это, по – моему, ваша формулировка, И у меня есть контракты с другими звездами, которые не приносят мне столько денег, но зато и требований у них поменьше. К примеру, малышка Мур: она только что вылезла из моей постели. Но с ней – это для удовольствия. Не для заработка. Иными словами, я начинаю уставать. Я начинаю уставать также и от идеальной пары, и от вашей проклятой рекламы: кончится тем, что вы мне внушите комплекс неполноценности. О, успокойтесь: я не готов бросить начатое – если мне будет позволено так выразиться. Но для меня важно, чтобы оно принесло мне максимум денег. Вот.
Вилли, грызя печенье, взглянул на Росса с интересом. Он был уверен, что у него получилось. Он был уверен, что верно взял прицел. Всегда достаточно взять у противника на прицел уважение к человеческой личности, и вы наверняка его обезоружите. Так что он наблюдал за Россом с задорной улыбкой. Забавно, думал он, до чего люди готовы к встрече с низостью, они всегда настолько уверены, что она может на каждом шагу прыгнуть им в лицо, что самые хитрые из них тут же дают себя убедить, не стараясь уже перепроверить, посмотреть, не обманывают ли их: как только речь заходит о низости, они уверены, что это правда. А ведь Росс знал Энн не один год, он питал к ней немое обожание – наполовину влюбленное, наполовину отеческое. Только, подумал Вилли, всякий раз, когда он нас видел, он, наверное, задавался вопросом, что нас держит вместе.
– Вот, – сказал он. – Теперь вы знаете. И я дам вам один совет, Макси: выждите два часа, потом звоните. Вы рискуете задохнуться. Вы добряк.
– Я бы все же хотел сказать словечко Энн.
– Вы и в самом деле хотите ее видеть, Макси? – насмешливо спросил Вилли.
Росс секунду молчал, потупив глаза.
– Нет, – сказал он, – не очень.
– Не стану от вас скрывать, что, предвидя ваш визит, она отправилась в небольшое турне по Италии. Поскольку она питает к вам некоторую нежность, я решил избавить вас обоих от огорчений. Вы останетесь обедать?
– Нет.
– Нет, конечно, сегодня вы не смогли бы ничего проглотить.
– Во всяком случае, в вашем присутствии. У меня самолет через два часа. Как профессионал скажу вам только, что вы могли бы запустить свой сенсационный материал двумя неделями раньше. Он произвел бы тот же эффект, обошелся бы дешевле, и вы могли бы вести переговоры в более выгодных условиях. Не знаю, захотят ли они теперь разговаривать.
– Представьте дело в лучшем ракурсе, Макси. Я был откровенен с вами, потому что вы друг – во всяком случае, друг Энн. Вы вряд ли захотите ее расстраивать. Вы можете даже сказать, что она переживает моральный кризис, – искус-с-с-ство, знаете ли. Она не хочет больше возвращаться к дурацким историям, в которых ее заставляли сниматься. Она вкусила Европы – и смотрит на все другими глазами. Вот вам хороший ракурс. Впрочем, это совершенная правда.
Не успел Росс открыть дверь, как очутился нос к носу с Гарантье, который входил, держа в руках газету.
– Не знаю, знакомы ли вы, – сказал Вилли. – Макси, это отец Энн.
– Очень приятно, – сказал Гарантье.
– По-моему, мы встречались в Нью-Йорке, – сказал Росс.
Вилли не мог удержаться от желания пофлиртовать с опасностью. Для него это было вопросом стиля, элегантности. И он слишком хорошо знал Гарантье, чтобы опасаться нескромных вопросов.
– Дорогой мой, – сказал он, – Макси провел ночь в поезде, чтобы уговорить нас вернуться в Голливуд. Вам бы следовало сказать это своей дочери.
Гарантье показал на газету, которую держал в руке.
– В Корее вчера погибло двадцать тысяч человек, – сказал он. – И сегодня, вероятно, погибнет столько же. А вы занимаетесь кино.
Росс залился алой краской.
– Сударь, – сказал он, – если бы все занимались кино, в Корее вообще не было бы погибших и уже давно прекратились бы все войны. До свидания.
Он бросился вон из комнаты, хлопнув дверью. Вилли остался валяться в постели, перестав контролировать свое лицо, – Росс ушел, и делать лицо было уже не нужно; но и сам он был не в состоянии насладиться только что одержанной маленькой победой. Он уже забыл про Росса и тревожно смотрел на Гарантье:
– Она не перезвонила?
– Нет.
– С одной стороны, – сказал Вилли, – это хороший знак. Он, похоже, доказывает, что все это несерьезно. Она больше не звонит, возможно потому, что собирается вернуться. Она не должна так себя вести, Гарантье. Вы и представить себе не можете, сколько усилий мне пришлось приложить, чтобы защитить свою репутацию. Я решительно отказываюсь стать посмешищем для всех этих жалких паразитов от кино. Они стерегут меня не один год. Эти гниды никого никогда не прощают. И мне претит сама мысль доставить им такое удовольствие. Единственное, чего я не в силах простить Энн, – она не щадит моего самолюбия. Она наносит удар по моему самолюбию, а значит, удар ниже пояса. Она не уважает мой миф, а этого я не могу ей простить. Вам бы следовало объяснить ей это, старина. Вам бы следовало повидаться с ней и переговорить. Скажите ей, чтобы она уважала моего героя.
Он попытался поощрительно улыбнуться Гарантье, но губы его дрожали, и его циничный вид оказался лишь гримасой ребяческой мучительной досады.
– Прошу вас, Вилли, эта сцена крайне тягостна, если вам так уж необходимо страдать, делайте это в другом ключе. И не используйте меня в роли гимнастического мата. Вы наняли Бебдерна, вот его и используйте.
– Где он?
– За стеной. Пересчитывает ваши галстуки.
Вилли встал и открыл дверь гостиной:
– Идите сюда, старина.
Вошел Бебдерн с охапкой галстуков.
– Двести сорок восемь, – сказал он, – я их сосчитал.
– Можете взять сколько хотите.
– О нет, – сказал Бебдерн. – Я ничего для себя не хочу. И потом, мне все равно их всегда будет мало. Знаете, я слишком требовательный. Это меня и губит. Хотел бы я быть вами, Вилли, вот чего бы я хотел. На меньшее я не согласен…
– Тогда идите и приготовьте мне ванну.
– Напомню вам, что мы должны возглавить жюри.
– Жюри? Какое жюри?
– Я объявил вчера журналистам, что вы решили продлить свое пребывание. И я принял от вашего имени приглашение председательствовать на конкурсе красоты сегодня во второй половине дня.
– Да пошли вы.
Бебдерн заныл:
– Послушайте, Вилли, вы не можете так поступить. Подвернулся такой случай. Я всегда мечтал председательствовать на конкурсе красоты.








