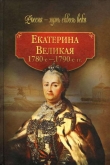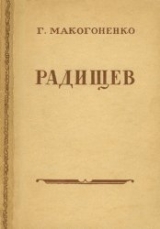
Текст книги "Радищев"
Автор книги: Г. Макогоненко
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 14 страниц)
Разговор сего земледельца возбудил во мне множество мыслей» (подчеркнуто мною.—Г. М.).
Но это не единственный путь; иногда автор прибегает и к изображению больших явлений и событий, в которых путешественник сам непосредственно не участвует, но выслушивает рассказы встреченных им в дороге лиц. Встреченные лица сообщают такие факты их столкновений с действительностью, которые приводят ум путешественника в смятение с еще большей силой, так как путешественник имеет здесь дело уже с трагическим результатом этих столкновений и, кроме того, убеждается, что он в своем заблуждении не одинок, что несправедливость и произвол в жизни закономерны («Чудово», «Спасская полесть», «Зайцево» и др.).
Общественно-политическая задача «Путешествия из Петербурга в Москву» определила высокие ее художественные достоинства и особенности. Книга, написанная с целью умножения числа людей, «прямо взирающих» на действительность, с целью воспитания героя, имеет сюжет, строго подчиняющий себе весь вводимый в повествование огромный материал. Поэтому радищевское «Путешествие» не распадается на отдельные куски, главы и эпизоды, как это обычно происходит в традиционном жанре сентиментальных путешествий, подчиненных субъективистским, индивидуалистическим задачам их авторов. Сюжет у Радищева цементирует все богатство впечатлений путешественника, отражающих богатства реального мира. Единым сюжетом «Путешествия» является история человека, познавшего свои политические заблуждения, открывшего правду жизни, новые идеалы и «правила», ради которых стоило жить и бороться, история идейного и морального обновления путешественника.
С первой же главы в центре внимания автора становится герой, который наблюдает, слушает и участвует сам в событиях своего путешествия. Главы «София», «Тосна», «Любани» и «Чудово» рисуют нам человека, верующего в мудрость екатерининских законов страны, «где мыслить и верить дозволяется всякому, кто как хочет», где все дышит обилием, где, якобы, искоренены всякие неустройства и злоупотребления, где правит мудрая императрица, «философ на троне». Но вот герой выехал из столицы и как будто попал в другой мир,– так все ново и незнакомо в нем.
«Я зрел себя в пространной долине, потерявшей от солнечного зноя всю приятность и пестроту зелености; не было' тут источника на прохлаждение, не было древесные сени на умерение зноя. Един оставлен, среди дри-роды пустынник! Вострепетал.—Несчастный,—возопил я, где ты? где дева лося все, что тебя прельщало? где то, что жизнь твою делало тебе приятною? Неужели веселости, тобою вкушенные, были сон и мечта?»
Его оскорбляет поступок почтового чиновника, не желающего поступать по справедливости («София»), возмущает дорога, оказавшаяся много хуже, чем о ней писали. Он с негодованием отворачивается от стряпчего, собирающегося заработать на темных делишках составления фальшивых родословных, еще твердо веруя, что услугами пройдохи никто не воспользуется («Тосна»).
После встречи с крестьянином (в главе «Любани») он уже удивлен, что тот работает шесть дней на барщине, удивлен диким произволом, находящим опору в законах. Но вот новая история—неугомонная жизнь как нарочно вывернула перед нимизнанку, до сих пор скрытую от него. Систербекская история («Чудово») его поражает; он уже вынужден против воли сделать первое отступление от привычных взглядов и признать существование «малых и частных неустройств». Но он еще поспешно добавляет, продолжая верить и надеяться, что они, конечно, «в обществе связь его не нарушат».
Глава «Спасская полесть» открывает нам смятенный душевный мир путешественника. Выехав из Петербурга спокойно, он, лежа в кибитке, предался было сладостным воспоминаниям об оставленных им друзьях, мечтам о будущей встрече с ними, целиком погрузившись в себя, занявшись собственными мыслями и чувствами. Но обступившая его жизнь нарушила это уединение. Началось с дорожных ухабов: кибитку трясло, кидало из стороны в сторону, так, что «для сохранения боков» путешественнику пришлось вылезти и пойти пешком. Не успел выйти из кибитки, как увидел пашущего в воскресенье крестьянина. Начались встречи, разговоры, которые все более и более волновали путешественника, заставляли задумываться над увиденным, заняться чужими бедами, чужим горем. В Спасской полести путешественник после встречи со второй жертвой беззакония весь оказывается во власти социальных эмоций, совершенно забыв о себе, о своих прежних друзьях, отдавшись раздумьям о судьбах чужих людей—гонимых, преследуемых, угнетенных в государстве, где правит сама «мудрость на троне». «Повесть сопутника моего тронула меня несказанно. Возможно ли, говорил я сам себе, чтобы в толь мягкосердое правление, каково ныне у нас, толикие производилися жестокости? Возможно ли, чтобы были столь безумные судии, что для насыщения казны (можно действительно так назвать всякое неправильное отнятие имения для удовлеторения казенного требования) отнимали у людей имение, честь, жизнь?» Так путешественник с горечью признался себе—в екатерининской России у человека с легкостью можно было отнять не только имение, но и честь и жизнь. Он теперь на своем опыте убедился, как правы были и Новиков, обличавший судей и помещиков, и Фонвизин, сказавший правду о скотининых и простаковых, о придворных, жадной толпою стоящих у екатерининского трона. Разделяя негодование и возмущение этих писателей, он следует за ними же и в своих последних надеждах: нужно открыть глаза самому монарху,– это единственный выход из тяжелого положения, в котором очутилась Россия. «Я размышлял, каким бы образом могло сие происшествие достигнуть до слуха верховные власти. Ибо справедливо думал, что в самодержавном правлении она одна в отношении других может быть беспристрастна». Так перед нами уже не просто гуманный и честный человек, но гражданин, полный общественной активности, готовый защитить перед лицом самого монарха, которому верит, как богу, попранную справедливость. В этом возбужденном состоянии, поглощенный идеей обращения «к высшей власти», путешественник засыпает, и Радищев использует это для того, чтобы рассказать о его сне.
Путешественник видит во сне то, что ему хотелось исполнить наяву—открыть монарху глаза на все бедствия и злоупотребления, господствующие под покровом «его беспристрастной власти».
И снится путешественнику сон, что он «царь, шах, хан, король, бей, набоб, султан или какое-то сих названий нечто, седящее во власти на престоле». Все вокруг его престола «блистало лучезарно», утопало в роскоши. Голова монарха была украшена «венцом лавровым», под руками его лежали две книги—закон милосердия и закон совести, «с робким подобострастием» вокруг стояли «члены государственные».
Сладостный сон продолжался. Создавая его, Радищев сумел с большой художественной силой передать читателю двойственность своего замысла: во-первых, он выражал естественную для данного этапа идейного развития путешественника надежду на Екатерину, во-вторых, он выражал революционную, радищевскую точку зрения на монархическую власть вообще и деспотическое правление Екатерины II в частности. Первый план осуществлялся в фабульном движении—заблуждающемуся монарху женщина-Истина снимает бельма с глаз, он прозревает, видит себя обманутым и, благодарный Истине, начинает творить благо. Второй план осуществлялся средствами иронии– оружие, которым так блестяще пользовался Радищев, превращая весь сон в злейший памфлет на екатерининскопотемкинское самодержавное правление. В этом смысле первая фраза, где самодержец дерзко представлен как «нечто, седящсе во власти», крайне показательна.
Путешественник, увидевший себя во сне монархом, слышит громкие восклицания придворных: «он усмирил внешних и внутренних врагов», «он обогатил государство», «он любит науки и художества», «поощряет земледелие», «он умножил государственные доходы, народ облегчил от податей, доставил ему надежное пропитание» и т. д. Радищев сознательно при этом перечисляет то, что было обычно перечисляемо в официальных екатерининских манифестах. Таким образом само содержание также помогало читателю понимать, что речь идет не о «султане или набобе», а о Екатерине. Заставляя своего «набоба» и «султана» говорить, Радищев прямо уже издевается над Екатериной—«речи таковые, ударяя в тимпан моего уха, громко раздавалися в душе моей». Екатерина, прочтя эти страницы, отлично поняв, в кого целил Радищев, гневно записала на полях: «Враль», «страницы написаны в возмутительном намерении», «покрыты бранью и ругательством, злодейским толкованием».
Что же происходило во сне дальше? После раболепия государственных чиновников к монарху, самодовольно упоенному своей мудростью, подходит Истина—и здесь-то начинается кульминационный момент сна, кульминационный момент политических надежд лучших людей России– писателей, общественных деятелей. К царю подходит мужественный человек, снимает с глаз «толстую пелену и вещает правду»: «Я есмь Истина. Всевышний, подвигнутый на жалость стенанием тебе подвластного народа, ниспослал меня с небесных кругов, да отжену темноту, проницанию взора твоего препятствующую. Я сие исполнила. Все вещи представятся днесь в естественном их виде взорам твоим». И свершилось так давно ожидаемое чудо: прозревший монарх «вострепетал», увидев себя,погрязшего «в тщеславии и надутом высокомерии». «Одежды его, столь блестящие,оказались замараны кровью и омочены слезами». Министры его—коварными обманщиками и злодеями. Военачальники «утопали в роскоши», «воины умирали от небрежения начальников». Милосердие монарха сделано «торговлею». «Вместо того чтобы в народе моем через отпущение вины прослыть милосердым, я прослыл обманщиком, пагубным комедиантом». Все увидел прозревший вдруг монарх,—злодейство, корысть, бедственное положение угнетенного народа, утвердившееся в годы его правления. Именно в этом месте сна оба плана сливаются в один– сон становится резкой, злой и беспощадной сатирой. Уже многому наученный путешественник спешит поведать обо всем самому монарху, рассказать об открывшейся ему правде,—и здесь он бесстрашен и беспощаден. И Радищев всем сердцем сочувствует его смелым обличениям екатерининского самодержавства. Расхождения между путешественником и Радищевым начинаются вновь далее– путешественник все это рассказывает монарху затем, что верит: стоит только наяву явиться перед лицом Екатерины, сказать ей все, о чем страждет его умудренная опытом путешествия душа, и русский монарх «возревет яростию гнева» на всех тех, кто обманывал его, кто причинил столько страданий народу, возгласит: «Недостойные преступники, злодеи! Вещайте, почто во зло употребили доверенность господа (господина.—Г. М.) вашего? Предстаньте ныне пред судию вашего. Вострепещите в окаменелости злодеяния вашего»... Больше того, мечтает путешественник,—Екатерина не только изгонит плохих министров, но, чтоб избежать в дальнейшем повторения сего бедствия, призовет к себе «великих отченников», сказав им: «Прииди... облегчить мое бремя; прииди и возврати покой томящемуся сердцу и востревоженному уму».
В глазах Радищева эта иллюзия была не только печальным заблуждением, как бы частным делом некоторых хороших людей. Нет, для него эта иллюзия была преступлением, разоружавшим русское общественное движение, преступлением, потому что она была выгодна Екатерине,потому что она соответствовала ее политическим планам, ее тактике. Вот почему он иронией взрывал эту веру изнутри уже в этой главе, вот почему была избрана форма сна,—все, о чем так мечтал путешественник, можно было осуществить лишь во сне. Вот почему, наконец, он заставляет и самого путешественника признаться в утопичности своих надежд. «Властитель мира,—заявляет он после пробуждения,—если, читая сон мой, ты улыбнешься с насмешкою или нахмуришь чело, ведай, что виденная мною странница отлетела от тебя далеко и чертогов твоих гнушается».
Путешественник на почтовых мчится дальше—навстречу новым фактам. Новгород наводит на размышления о естественном праве; выводы неутешительны: «Вопрос: в естественном состоянии человека какие суть его права? Ответ: взгляни на него. Он наг, алчущ, жаждущ. Все, что взять может на удовлетворение своих нужд, все присво-яет. Если бы что тому воспрепятствовать захотело, он препятствие удалит, разрушит и приобретет желаемое. Вопрос: если на пути удовлеторения нуждам своим он обря-щет подобного себе, если, например, двое, чувствуя голод, восхотят насытиться одним куском, кто из двух большее к приобретению имеет право? Ответ: тот, кто кусок возьмет. Вопрос: кто же возьмет кусок? Ответ: кто сильнее.– Неужели сие есть право естественное, неужели се основание права народного!—Примеры всех времян свидетельствуют, что право без силы было всегда в исполнении почитаемо пустым словом.—Вопрос: что есть право гражданское? Ответ: кто едет на почте, тот пустяками не занимается и думает, как бы лошадей поскорее промыслить».
Путешественнику уже слишком хорошо знаком встреченный в Новгороде жульничающий купец Карп Дементьевич с его опорой не только на естественное, но и на вексельное право. Вновь, неожиданно для себя, он обнаруживает противоречие: вексельное право, введенное правительством как закон, есть не. что иное, как законом разрешенные обман и жульничество. «Введенное повсюду вексельное право, то есть строгое и скорое по торговым обязательствам взыскание, почитал я доселе охраняющим доверие законоположением; почитал счастливым новых времен изобретением, для усугубления быстрого в торговле обращения, чего древним народам на ум не приходило. Но отчего же, буде нет честности в дающем вексельное обязательство, отчего оно тщетная только бумажка? Если бы строгого взыскания по векселям не существовало, ужели бы торговля исчезла? Не заимодавец ли должен знать, кому он доверяет? О ком законоположение более пещися долженствует, о заимодавце ли, или о должнике? Кто боле в глазах человечества заслуживает уважения, заимодавец ли, теряющий свой капитал, для того, что не знал, кому доверил, или должник, в оковах и темнице. С одной стороны легковерность, с другой—почти воровство. Тот поверил, надеяся на строгое законоположение, а сей... А если бы взыскание по векселям не было столь строгое, не было бы места легковерию, не было бы может быть плутовства в вексельных делах...» Разоблачение вексельного «права» обладает такой убедительной силой, что путешественник с тоской должен констатировать: «Я начал опять думать, прежняя система пошла к чорту, и я лег спать с пустою головою».
В Бронницы путешественник приезжает полный смятения: он молится, взывая к богу, прося о помощи; он теряет прежнюю систему, и это страшно. Что будет впереди? Заставить себя отвернуться от фактов и слепо верить прежнему он не может. «Рассудок претит имети веру и самой повести; столь жаждущ он убедительных и чувственных доводов» («Бронницы»). И еще с большим вниманием он присматривается к этим доводам. В главе «Зайцево» Крестьянкин рассказывает ему историю своего единоборства со всей существующей системой крепостнического государства по поводу процесса, в котором очевидная справедливость была на стороне обвиняемых крестьян. Угрозы, подкуп—все было пущено против Кре-стьянкина, лишь бы не допустить справедливого приговора, не допустить торжества правды. Дворянское общество, среди которого жил Крестьянкин, его судебное начальство требовало не справедливого, а классового суда в интересах дворян, и когда он, Крестьянкин, запротестовал, отстаивая права крепостных, рассматриваемых им как граждан без различия их состояния, его объявили опасным человеком, вынудили подать в отставку.
Перед героем развернулась страшная картина узаконенной несправедливости и произвола у всех на глазах в интересах господствующего класса; чувственные доводы делали свое дело. Глава заканчивается описанием состояния героя: он сидит на камне посреди пыльной дороги, чертит «на песке фигуры кой-какие» и думает тяжелую, горькую думу.
Задуматься есть отчего: перед путешественником ужё не только разрозненные факты, которых нельзя опровергнуть, но живой человек, возмущенный всей системой этих фактов, убежденный, что мир полон пороков, несправедливостей, и в то же время верующий, что нет смысла в одиночной борьбе, что остался единственный путь– смириться и уйти прочь.
Родительское напутствие, услышанное им от крестец-кого дворянина («Крестцы»), заставляет подумать о себе: если есть люди честные и мужественные, восстающие против несправедливости, нравственно чистые, то каков же он сам? Картина, нарисованная в «Яжелбицах», помогает путешественнику посмотреть на себя глазами Крестьян-кина и крестецкого дворянина. И он с ужасом видит, что моральная грязь и нравственная нечистоплотность общества присуща и ему, члену этого общества.
«Нечаянный хлад разлился в моих жилах. Я оцепенел. Ка за лося мне, я слышал мое осуждение. Воспомянул дни распутныя моея юности. Привел на память все случаи, когда востревоженная чувствами душа гонялася за их услаждением, почитая мздоимную участницу любовные утехи истинным предметом горячности. Воспомянул, что невоздержание в любострастии навлекло телу моему смрадную болезнь...»
Прозрев, путешественник обвиняет, но не только самого себя; впервые он выступает с обличением по адресу всего общества господствующих. Это они, это существующая государственная система виновата в существовании социального бедствия—проституции. «Но кто причиною, что сия смрадная болезнь во всех государствах делает столь великие опустошения, не токмо пожиная много настоящего поколения, но сокращая дни грядущих? Кто причиной, разве не правительство?»
На этом кончается первый этап идейного развития путешественника—когда он осознает свои прежние заблуждения, приходит к пониманию бедственного положения страны и убеждается в необходимости немедленных коренных политических преобразований. Второй этап—это решение вопроса о путях изменения существующего положения, точнее: освобождение от нелепой, несостоятельной иллюзии, что в России царствует философ на троне, которому можно и должно снять пелену с глаз, который с величайшим нетерпением ждет пришествия мужествен-
ного человека, советника и помощника, готовый излить благо на своих подданных. Выше уже говорилось, что эта надежда была основанием политических воззрений путешественника, именно на нее он и пытался опереться, когда прежняя система «пошла к чорту».
В решении этой общественно важной проблемы особую роль играют встречи путешественника с людьми своего круга, дворянами—или жертвами екатерининского режима, или отважными мечтателями, фанатичными утопистами, жаждущими открыть Екатерине истину.
Первая встреча происходит в Чудове с приятелем Ч. Он рассказал о жестоком равнодушии государственных чиновников, жертвой которого чуть не стал он сам. Возмущенный поведением начальника, Ч. пытался искать справедливости, жаловался на него в Петербург, но ничто не помогло,—так был велик страх перед всесильными вельможами, так сильна привычка раболепия перед властью. Что же решает он делать, не добившись наказания виновного? Я,—заявляет он путешественнику,– «смирился...Теперь я прощусь с городом навеки. Не въеду николи в сие жилище тигров. Единое их веселие грызть друг друга; отрада их томить слабого до издыхания и раболепствовать—власти... Заеду туда, куда люди не ходят, где не знают, что есть человек, где имя его неизвестно». Совершенно очевидно, что приятель путешественника Ч. начитался Руссо. Не желая жить «среди тигров», он думает лишь о себе, бежит из общества, жаждет уединения, в котором он, не тревожимый несчастьями других, сможет жить счастливо сам.
Вторым беглецом из общества был случайный спутник, встреченный в Спасской полести. Несправедливо преследуемый судьями и властями, он, не пожелав бороться даже за свое правое дело, ехал вон из столицы «куда глаза глядят». Таким же, в сущности, беглецом оказывается и третий человек, встреченный путешественником в Зайцеве—Крестьянкин. Несомненно, Крестьянкин резко отличается от своих двух предшественников: он человек общественно-активный, деятельный, у беж денный бо рец, вдохновляемый чувством справедливости, он в своей деятельности, направленной на благо крепостных крестьян, идет даже на подвиг, проявляя редкое мужество и отвагу. Но подвиг оказался не по плечу ему, он надорвался и решительно отказывается от дальнейшей службы и дея-дельности вообще: «Не нашед способов спасти невинных убийц, в сердце моем оправданных, я не хотел быть ни сообщником в их казни, ниже оной свидетелем; подал прошение об отставке и, получив ее, еду теперь оплакивать плачевную судьбу крестьянского состояния и услаждать мою скуку обхождением с друзьями».
Образом Крестьянкина Радищев хотел показать, как честный и мужественный человек, не одушевленный идеей отрицания, всего крепостнического государства, верующий, что все дело в частных неустройствах и злоупотреблениях, неизбежно терпит поражение в своей отважной, но, в сущности, бесполезной деятельности.
Путешественник узнал от Крестьянкина о таких неустройствах и злоупотреблениях дворянской власти, что это позволяет ему понять некую закономерность всех этих частностей,—и в этом прежде всего значение встречи с Крестьянкиным. Но он не может согласиться ни с его методом индивидуальной борьбы с отдельными носителями зла, ни с его решением вообще отказаться от деятельности, уйти из общества, ограничиться кругом друзей. Нет, герой-путешественник, чем более прозревает, чем глубже постигает горькую правду крепостнической действительности, тем становится активнее, хочет деятельности, хочет отдать жизнь свою страждущим повсюду согражданам. Но какая же это деятельность, что же должно и можно делать? Каков путь устранения обнаруженного бедственного состояния родины?
И здесь Радищев сталкивает своего героя с крестец-ким дворянином, а затем с автором проекта освобождения крестьян, «гражданином будущих времен». Встреча с этими двумя людьми занимает едва ли не центральное место в «Путешествии». Крестецкому дворянину посвящена целая глава, самая большая в произведении, автору «проекта в будущем»—две главы. Оба героя—крупные мыслители, оба пространно излагают свои философские и политические воззрения. Общее в их убеждениях—резкая и категорическая критика существующего в России социально-политического режима. Оба отлично понимают: дело не в частных неустройствах и отдельных злоупотреблениях, а в системе рабства, в бюрократическом дворянском государстве. Крестецкий дворянин мужественно заявил: «Правила общежития относятся ко исполнению обычаев и нравов народных, или ко исполнению закона, или ко исполнению добродетели. Если в обществе нравы и обычаи не противны закону, если закон не полагает добродетели преткновений в ее шествии, то исполнение правил общежития есть легко. Но где таковое общество существует? Все, известные нам, многими наполнены во нравах и обычаях, законах и добродетелях противоречиями. И оттого трудно становится исполнение должности человека и гражданина, ибо нередко они находятся в совершенной противоположности». В России законы противоречат народным обычаям и добродетелям– таков общий вывод. Отсюда все бедствия сограждан. Оттого государева служба развращает дворян: потакая их корыстным интересам, она делает их жестокими исполнителями воли министров, вельмож, временщиков. Оттого порок, злодеяния, преступления находят свою опору в законе. Оттого даже родитель, отлично воспитавший своих детей в духе добродетели, ждет, когда «сынок любезный с приятною улыбкою отнимать будет имение, честь, отравлять и резать людей, не своими, всегда боярскими руками, но посредством лап своих любимцев».
Автор «проекта» выражался еще более резко. Он прямо и обнаженно ставил вопрос о главной язве екатерининского государства—рабовладении. Он гневно писал: «Земледельцы и до днесь между нами рабы, мы в них не познаем сограждан нам равных, забыли в них человека». «Порабощение есть преступление». «Но кто между нами оковы носит, кто ощущает тяготу неволи? Земледелец! кормилец нашея тощеты, насытитель нашего глада; тот, кто дает нам здравие, кто житие наше продолжает, не имея права распоряжаться ни тем, что обрабатывает, ни тем, что производит».
Именно от рабства все бедствие. И не только нищета, болезнь, смертность, страдания миллионов соотечественников и сограждан. Рабство развращает все общество. «Нет ничего вреднее, как всегдашнее на предметы рабства воззрение. С одной стороны родится надменность, а с другой—робость. Тут никакой не может быть связи, разве насилие».
Как видим, и крестецкий дворянин, и «гражданин будущих времен» отлично поняли, в чем состоит главное бедствие России. Они отказались говорить о частных неустройствах и, как истые граждане и патриоты, как государственные мужи, ставят перед обществом центральный вопрос русской жизни и предлагают решение—ликвидацию гибельного для России крепостного права, освобождение крестьян.
Путешественник, познакомившись с крестецким дворянином, с сочувствием выслушивает его напутствия, его политическое завещание сыновьям, вступающим на поприще общественной жизни, с волнением прочитывает «проект в будущем», написанный его другом, решительно и окончательно становится на их сторону, признавая справедливыми, человеколюбивыми их смелую критику екатерининского режима, их требование ликвидировать рабство. Но какой же путь к решению этой центральной проблемы предложили ему опи?
Оба не принадлежат к беглецам, это мужественные деятели, отдавшие всю свою жизнь делу спасения отечества, именно отечества, а не отдельных жертв злоупотреблений. Крестецкий дворянин панацею от всех бед видит в воспитании. Он смело вступает в единоборство со всей господствующей системой. Он знает, что крепостничество, самодержавная власть растлевают дворян, делают их насильниками, поработителями и мучителями тех, кто должен им доставлять средства для утоления прихотей. Он создает свою систему воспитания и наставляет, согласно ей, детей своих, как добродетельных граждан, честных людей, мужественных патриотов. Он научает исполнять добродетель, которая есть форма активной деятельности на благо сограждан. Крестецкому дворянину уже около пятидесяти лет, за ним опыт, он убелен сединами, он тверд в мыслях и отважен в своем убеждении. Он неколебимо стоит среди враждебного ему общества, не боясь ни мучений, ни преследований, ни заточения, ни даже смерти. Он уже много лет занят воспитанием и с гордостью открывает путешественнику свою систему, в основе которой лежит труд. Он убежден, что труд делает человека полезным и нужным обществу членом. Труд освобождает от страшной необходимости жить за счет других, быть угнетателем себе подобных людей. Труд определяет отношения с другими людьми, но не по положению в обществе, не по роду, а по характеру деятельности. Труд воспитывает чувство человеческого достоинства, укрепляет нравственность, защищает от соблазнов дворянского общества, укрепляет здоровье. Взрастив своих сыновей в труде, крестецкий дворянин преподает им правила гражданской жизни, желая видеть в них не только честных людей, но и граждан. Вот почему им крайне необходимы правила «еди-ножития» и «общежития».
Он делит добродетели на частные и общественные. Правила, преподанные крестецким дворянином, предоставляли каждому человеку индивидуальный выход, научая его определять и строить свою жизнь в трудных и тяжелых условиях такого общественного уклада, где добродетели «в ее шествии» беспрестанно препятствовали. При этом он верит: если воспитывать все больше и больше людей, подобных его сыновьям, положение в обществе изменится само собой. Просвещение—всесильное оружие, просвещенный человек своим примером увлечет десятки других, ибо добродетель в действии так прекрасна, так несоизмеримо лучше порока, что все, погрязшие в злодеяниях и корысти, решатся покинуть позорную стезю зла. Краеугольным камнем всей системы воспитания крестецкого дворянина, на котором он незыблемо стоял, была вера в просвещенного государя. Научая противиться любой «неправде», он наставляет—уважай закон: «закон, каков ни худ, есть связь общества». Повинуйся закону и государю, верь, что только он изменяет закон, противоречащий добродетели, «ибо в России государь есть источ* ник законов».
Автор «проекта в будущем» будто в подтверждение слов крестецкого дворянина, будто в развитие его центральной идеи воспитания, обращается к русскому государю– «источнику законов», с написанным им самим манифестом– проектом необходимых России преобразований. Веруя, что Екатерина ждет прихода человека, который открыл бы ей истину, дал бы спасительный совет, он смело пишет от ее имени о преступности рабства, о необходимости освобождения крестьян. Манифест, написанный им, есть яркое свидетельство его веры, что все необходимые преобразования в России осуществимы лишь по воле монарха. Оттого монарх в манифесте предстает мудрым, всепонимающим, печалующимся о судьбе своих сограждан, жаждущим творить благо. Этот монарх пишет, обращаясь ко всей нации: «Родившись среди свободы сей, мы истинно братьями друг друга почитаем, единому принадлеже семейству, единого имея отца, бога», и дальше: «Может ли
Государство, где две трети граждан лишены гражданского звания, и частию в законе мертвы, называться блаженным?»
Но если монарх понимает, что крепостное право есть преступление, что же мешает ему в его человеколюбивых действиях? Дворяне,—отвечает «великий отченник». Дворяне своекорыстия ради выступают «поборниками неволи». И вот автор «проекта в будущем», в союзе с русским монархом, обличает дворян и уговаривает их освободить крестьян: «Неужели толико чужды будем ощущению человечества, чужды движениям жалости, чужды нежности благородных сердец, любви чужды братния; и оставим в глазах наших на всегдашнюю нам укоризну, на поношение дальнейшего потомства, треть целую общников наших, сограждан нам равных, братий возлюбленных в естестве, в тяжких узах рабства и неволи?»
Чувствуя, что уговор мало подействует на «поборников неволи», «гражданин будущих времен» и русский монарх начинают угрожать дворянству новым пугачевским восстанием, если они сами добровольно не освободят крестьян: «Не ведаете ли, любезные наши сограждане, коли-кая нам предстоит гибель, в коликой мы вращаемся опасности. Загрубелые все чувства рабов и благим свободы мановением в движение не приходящие, тем укрепят и усовершенствуют внутренние чувствования. Поток, загражденный в стремлении своем, тем сильнее становится, чем тверже находит противустояние. Прорвав оплот единожды, ничто уже в разлитии его противиться ему не возможет. Таковы суть братия наши, во узах нами содержимые. Ждут случая и часа. Колокол ударяет. И се пагуба зверства разливается быстротечно. Мы узрим окрест нас меч и отраву. Смерть и пожигание нам будет посул на нашу суровость и бесчеловечие».