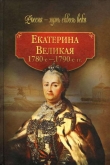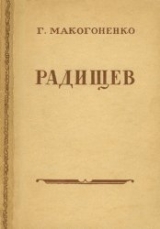
Текст книги "Радищев"
Автор книги: Г. Макогоненко
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 14 страниц)
Так идет борьба: он уговаривает себя насладиться уединением и томится им, бежит сам от себя. День ото дня, все яснее и яснее он понимает, что одиночество—«се смерть жизни, смерть души». Наконец приходит отчетливое сознание: «Как можно человеку быть одному, быть пустыннику в природе». Счастье и блаженство начинаются с окончанием одиночества. Гонимый тоской уединения, он бежит дома, где должен был, согласно заветам Руссо, «быть блаженным», бежит навстречу вернувшимся друзьям—«выходит—о радость! о блаженство! друзья мои возлюбленные! Они!»
Как видим, в противовес идее уединения Радищев выдвигает принцип общежительства. Позже Радищев еще раз вернется к этому вопросу и прямо назовет идеи Руссо «умствованиями», открыто ополчится на него. «Человек,– заявит он,—рожден для общежития. Поздное его совершеннолетие воспретит, да человеки не разыдутся, как звери. О Руссо! куда тебя завела чувствительность необъятная». Т^ак писал Радищев в 90-е годы, в соответствии со своей уже сложившейся философией и политическими взглядами, но в 70-е годы, несмотря на всю активность критической переоценки центрального догмата буржуазного сентиментализма, Радищев еще не смог до конца сформулировать свою позитивную программу. Русский университет еще не был окончен. Вот отчего в своей критике он опирается пока что на психологические доказательства. Вот отчего его герой, томимый одиночеством человек, дан вне социальной среды и общественной жизни, вот отчего ему чужды интересы других людей, он глух и равнодушен к судьбам своих сограждан: «должность требует моего выезда,—невозможно, но от оного зависит успех или неудача в делопроизводстве, зависит благосостояние или вред твоих сограждан,—напрасно». Впавший в «бесчувственность» герой, предавшись своим •страданиям, своим чувствам, не едет туда, куда призывает его долг. Вот отчего своего утешения он ищет в общении не с людьми вообще, не с теми, с кем связан «по должности», а лишь «с друзьями души».
Человек радищевского «Дневника» ненавидит одиночество, страдание, смерть, он ясно понимает, что «тысячи побуждений существуют, чтобы желать жизни». Он жаждет общения с людьми, но он еще не знает своего общественного призвания, не знает, как и в чем он осуществит себя как личность. Видимо, эту слабость позиций своего героя ощущал Радищев—во всяком случае он воздержался от напечатания «Дневника одной недели».
Разразившееся восстание русских крепостных крестьян помогло Радищеву понять слабость своего «Дневника», слабость своей эстетической позиции—в ней отсутствовала положительная программа, программа превращения литературы в оружие политической борьбы.
Как уже говорилось ранее, крестьянская война создала перелом в мировоззрении Радищева. Параллельно процессу формирования революционно-политической теории Радищев формулировал основы своей эстетики. Определив свое призвание быть прорицателем вольности, революционным писателем, Радищев тем самым определил существо своей эстетики. Она должна была вооружать литературу, выводить ее на арену активной политической борьбы, служить коренным интересам народа, то есть прежде всего содействовать делу освобождения русского крепостного крестьянства.
В соответствии с этим Радищев сделал героем своих произведений передового своего современника, отважившегося порвать с своим классом и объявить «дерзновенную борьбу» всему самодержавно-крепостническому государству.
Радищевский герой враждебен человеку европейского сентиментализма—семьянину, герою очага, замкнувшемуся в крохотном мирке своих душевных переживаний, своих добродетелей, своего самодовольного счастья. Он исторический деятель, преобразователь, бунтарь, политик, живущий в мире, именуемом Россией, для которого интересы родины, интересы угнетенного народа—его собственные интересы. Он порывает с миром «уединенности», «единственности» и потому всегда раскрывается и само-утверждает себя как личнбсть в общественном деянии, в патриотическом служении. Он всегда выступает в окружении множества людей, в центре больших событий, всегда—вдохновитель дерзких вольнолюбивых деяний и поступков, «прорицатель вольности», «зритель без очков».
Радищев начисто опрокинул и отверг понятие человека, культивируемое сентименталистами. Вместо буржуазно-ограниченной формулы «человек велик своим чувством» Радищев утверждает: человек велик своим сочувствием к угнетенному народу. Это сочувствие помогает порвать с теми, кто равнодушен к окружающим людям, к судьбам своих сограждан. Оно выводит из порочного круга частного, эгоистического и самодовольного существования на широкое поприще общественной деятельности, заставляет искать истинного счастья и блаженства в борьбе за благо отечества, в мщении за томящихся в рабстве миллионов крестьян.
Радищевский герой—не абстрактный умозрительный человек «вообще». Писатель стремился понять «тайну национальности» и передать в изображаемых им людях неповторимые и дорогие ему, как патриоту, черты русского характера. Отсюда желание изображать таких людей, в которых наиболее ярко и отчетливо проявились не просто отличные человеческие качества, но эти качества выступали как русские, национальные, прежде всего потому, что они подтверждались всем опытом русской истории. Поэтому он создает портрет выходца из народа, гениального ученого и поэта Михаила Ломоносова, поэтому его внимание привлекает Петр, величайший деятель русский прошлого, с замечательными чертами смелости, активности, дерзости и размаха, выступавшими как русские качества. Он прославляет вольнолюбие, ненависть к тирании, «твердость в мыслях» в облике реального человека, русского философа Ушакова. Наконец, полный исторического самосознания, он станет писать о самом себе, как о первом русском революционере, передавая свои черты отваги, твердости, неукротимого стремления к свободе, к деятельности на благо страждущего человечества, как черты русского национального характера. Величайшей заслугой Радищева поэтому является создание им первого в мировой литературе образа человека-революционера, черты которого он пытался раскрыть в своих думах, чувствах, поступках, в складе ума, как черты русского характера.
Это огромная по размаху, дерзповенная по существу работа. В 80-х годах Радищев создавал одно произведение за другим, и каждое практически утверждало новую эстетику, эстетику героической литературы, мощно приуготовлявшей основы русского реализма, утвержденного Пушкиным.
Чтобы понять ход развития литературы, место, занимаемое таким крупным писателем, как Радищев, необходимо «в прошедшем отыскивать настоящее и прозревать в историческую связь явлений». Искусство, по словам Белинского, «со стороны содержания, есть выражение исторической жизни народа»1. Каковы же те исторические и социальные обстоятельства, которые определили формирование радищевской эстетики? Каковы те литературные явления, которые помогли Радищеву, послужили ему опорой, дали возможность завершить начатое до него и открыть перспективы для нового развития? Именно в глубокой и органической связи с русской традицией исторический смысл и значение радищевской литературной революции.
УШ
Стремясь понять своеобразие русской истории и самобытность русского национального характера, Пушкин записывал: «Россия по своему положению, географи
ческому, политическому е!с. есть судилище, приказ Европы. Мы великие критики».
Эта пушкинская мысль с поразительной точностью отмечает одну из важнейших черт исторического развития русской литературы XVIII и первой трети XIX веков. В самом деле, стараниями русского дворянства и самодержавных правителей от Петра и до Екатерины II в России тщательно пересаживалось иноземное искусство. Оно оказывалось более близким классовым интересам дворян, чем культура, чем искусство своего народа, чем молодая литература, создаваемая писателями, оппозиционными самодержавному правительству, по-разному отражавшими в своем творчестве настроения, чаяния, крепостническое бытие миллионов русских хлебопашцев. Именно поэтому особенностью развития передовой русской литературы является ее борьба с западным влиянием за национальную самобытность и независимость, ее «стремление отрешиться от результатов искусственной пересадки, взять корни в новой почве и укрепиться ее питательными соками»1.
Ярким примером ограждения русской литературы от западных влияний является творческая деятельность Ломоносова и Новикова. Творчество Ломоносова открывает новую эпоху именно потому, что он определил и обосновал общественную роль искусства, предъявил к поэту требование гражданского и патриотического служения. Гениальным завещанием явилось беспримерное, не знающее себе равных в мировой литературе произведение под названием «Разговор с Анакреоном». Это был первый развернутый манифест русской литературы, формулировавший основы русской национальной эстетики в открытой борьбе с враждебными ей нормами европейского искусства. Эта открытая полемичность выражена в Самом названии и в самой сути содержания,—произведение Ломоносова построено, как развернутое опровержение тезисов, выдвинутых Анакреоном.
Почему избран Анакреон? Древнегреческий поэт, создатель антиобщественного, гедонистического чувственного искусства, получил, начиная с XVI века, европейское распространение, стал знаменем целого направления в поэзии, живописи, театре, скульптуре. Мотивы его поэзии—любовь и наслаждение, вино и женщины, человек,упоенный мимолетными чувственными радостями– отражали философско-политическую позицию господствующих классов, оправдывали их эгоистическую, своекорыстную жизнь за счет угнетенных масс народа.
Во Франции, начиная с XVI века, с поэтов Плеяды и ее главы Ронсара, с новой силой возрождается поэзия Анакреона. Создается целое анакреонтическое направление. В конце XVII и начале XVIII века оно станет в центре огромного движения, известного под именем «Рококо», уже не только во Франции, но и Германии и Италии, Поэма, лирика, живопись, театр (опера), выражая вкусы и требования дворянства, стали средством развлечения. Искусство славило наслаждение, и чувственное наслаждение прежде всего. Оно изображало жизнь человека вечным праздником. Человек этого искусства был изъят из мира общественной и социальной жизни. Он являлся в своем узко эгоистическом мирке частной жизни всегда с бокалом вина, всегда с возлюбленной, на лоне сказочной, условной, аллегорической, парадной природы, всегда в уединении, всегда философствующий о своем праве заботиться об удовольствиях, об утехах, о прихотях. Анакреонтизм—искусство деградирующего дворянства, но искусство воинствующее именно тем, что оно отстаивало частную жизнь человека,—как-то неожиданно оказался близким идеологам просвещения. Поэтому анакреонтические мотивы мы находим у Монтескье и Вольтера, поэтому Вольтер перед смертью первым признает и высоко оценит нового поэта, поднявшего упавшее было знамя рококо, – Парни.
Вот почему Ломоносов дал бой Анакреону, выступив с опровержением его принципов, ниспровергая вождя антиобщественного искусства, глубоко враждебного социальной и исторической практике русского народа, духу русской литературы. Чувство человеческого достоинства у Ломоносова органически было слито с национальной гордостью. Свойственная ему высокая оценка своего поэтического и научного труда определила и композицию произведения. Оно построено, как спор двух лидеров: Анакреона—всемирно известного поэта, вождя и учителя воинствующей школы антиобщественного искусства, и Ломоносова—главы русской литературы, закладывающего и формирующего основы активной и героической эстетики, отражавшей национально-общественный -опыт русского народа. Это чувство национального достоинства, сознание величия и значения культуры подымающейся нации, ее самостоятельности в ряду других культур, нашло свое выражение в замечательных, вещих словах Ломоносова, обращенных к своим согражданам: «Сами свой разум употребляйте. Меня за Аристотеля, Картезия, Нев-тона не почитайте. Ежели вы мне их имя дадите, то знайте, что вы холопи, а моя слава падет и с вашею».
Вот несколько примеров не только поэтического, но и общественного столкновения двух враждебных друг ДРУГУ эстетических систем.
Анакреон декларирует: поэт поет любовь:
Мне петь было о Трое,
О Кадме мне бы петь,
Да гусли мне в покое Любовь велят звенеть.
Ломоносов с презрением отвергает этот отказ от общественной героической темы:
Мне струны поневоле Звучат геройский шум,
Не возмущайте боле,
Любовны мысли, ум;
Хоть нежности сердечной В любви я не лишен;
Героев славой вечной Я больше восхищен.
Анакреон славит чувственную радость, наставляет и требует: счастье человека в частной жизни, в мире собственных личных интересов:
Не лучше ль без терзанья С приятельми гулять И нежны воздыхания К любезной посылать...
Лишь в том могу божиться,
Что должен старичок Тем больше веселиться,
Чем ближе видит рок.
Ломоносов с гневом отворачивается от подобного идеала человеческого счастья. Он бросает в лицо творцу этой философии уничтожающие слова Катона—«Какую вижу я седую обезьяну?» И далее последовательно отвергает принципы морали и эстетики этой школы:
Анакреон, ты был роскошен, весел, сладок,
Катон старался ввести в республику порядок...
Ты жизнь употреблял как временну утеху,
Он жизнь пренебрегал к республики успеху.
Завершается этот спор формулировкой задач искусства. Анакреон, давая заказ живописцу, предлагает «написать любезну мне». Здесь, в этих стихах Анакреона, целая энциклопедия воззрений антиобщественного искусства с его отъединенностью человека от жизни мира, с его равнодушием к другим людям, культом «случайной радости», чувственных наслаждений. С гордостью и восторгом Ломоносов формулирует основы эстетики русской героической литературы. Он тоже заказывает живописцу портрет, но это портрет не «любезной», а «возлюбленной матери»—России.
О мастер в живопистве первый!
Ты первый в нашей стороне,
Достоин быть рожден Минервой,
Изобрази Россию мне.
Изобрази мне возраст зрелый И вид в довольствии веселый,
Отрады ясность по челу И вознесенную главу.
Значение этого ломоносовского выступления трудно переоценить. Он не только выступал против современного, деградирующего и вместе с тем воинствующего, дворянского искусства (не случайно в 70—80-х годах именно на этой анакреонтической базе вырастет целое направление так называемой «легкой поэзии»). Отвергая это искусство с его культом частного человека и проповедью идеалов эгоистического существования, он тем самым предостерегал русскую литературу и от нового течения– сентиментализма, с его эстетикой уединенного человека, семьянина, собственника, довольного очагом и своими добродетелями. Больше того, он вооружал молодую русскую литературу героической эстетикой, в центре которой стоял общественный человек, в великом деянии, в патриотическом служении осуществлявший свою личность.
Все творчество Ломоносова и прежде всего его оды были образцами этого нового чувства. Тематика его од—величие и благо России.
Именно у Ломоносова мы встречаемся с первой попыткой дать личность в ее национально выраженном русском характере. Лирический герой его од—Русский, с большой буквы, сын отечества, пришедший в восторг от сознания, что уже сделано для блага отчизны, что еще открывается в туманной дали ее будущей истории. Это Петр, данный не как император, а как неповторимая индивидуальность, деятель всемирно-исторического масштаба. Да, Петр не изображен в своей частной жизни. Да, лирический герой не совпадает с бытовым обликом Михаила Васильевича Ломоносова. Но перед нами в том и другом случае—личность, понятая и в ее общественной функции, личность, обнаруживающая свою нравственную силу, духовную красоту и индивидуальную неповторимость в патриотическом, активном’ служении общему благу и благу отчизны прежде всего.
Но ломоносовская личность—лирический герой его стихов, данный как сын отечества, как россиянин,—это лишь первый подступ к полному литературному выражению русского характера и русского героя. Герой Ломоносова к тому же и ограничен. Он не видит, что в России есть разные русские—дворяне и хлебопашцы, что Петр не только вождь и вдохновитель народа в его работах й походах, но и самодержец, неукротимый враг народной вольности. Эта ограниченность Ломоносова таилась в его политических убеждениях—он разделял концепции просвещенного абсолютизма.
Нараставшая к середине века борьба крепостного крестьянства с помещиками все более выдвигала проблему социальную, как главную и определяющую характер русской жизни. Вопрос о рабстве, о правах крестьян, о судьбе закабаленного хлебопашца, вопрос о крестьянине и крепостном праве к моменту прихода к власти Екатерины II станет центральным. Это чувствовало и потому волновалось дворянство; это понимала Екатерина и оттого вынуждена была маневрировать и искать путей к новой политике. Это чувствовала и понимала растущая русская общественность. В деле формирования именно этой русской общественности решающую роль сыграла литература.
Рассматривая данный вопрос, Белинский обнаружил наличие резко отличных факторов, исторически образовавших общественность на Западе и в России. «Разнородное общество, сплоченное в одну массу только одними материальными интересами, былсР бы жалким и нечеловеческим обществом. Как бы ни были велики внешние благоденствия и внешняя сила какого-нибудь общества, но если в нем торговля, промышленность, пароходство, железные дороги и вообще все материальные движущие силы составляют первоначальные, главные и прямые, а не вспомогательные только средства к просвещению и образованию, то едва ли можно позавидовать такому обществу»1.
*Гак, по Белинскому, обстояло дело на Западе: буржуазный способ производства, материальная база капитализма (промышленность, торговля, железные дороги) создают лишь искусственное сплочение навечно разъединенных и враждебных друг другу индивидуумов, и потому оно «печальное общество». Иные исторические обстоятельства сформировали передовую общественность России: «В этом отношении нам нельзя пожаловаться на судьбу: общественное просвещение и образование потекло у нас вначале ручейком мелким, едва заметным, но зато из высшего и благороднейшего источника,—из самой науки и литературы»8. Именно эти условия, по мнению Белинского, сделали литературу средством создания прогрессивного общественного мнения.
«Говоря об успехах образования нашего общества, мы говорим об успехах нашей литературы, потому что наше образование есть непосредственное действие нашей литературы на понятия и нравы общества. Литература наша создала нравы нашего общества, воспитала уже несколько поколений, резко отличающихся одно от другого, положила начало внутреннему сближению сословий, образовала род общественного мнения»9.
Создание этого общественного мнения падает на бурные 60—70-е годы, годы работы Комиссии по составлению нового Уложения, годы выступлений Козельского, Новикова, годы начала деятельности Радищева. Таким образом, Белинский подошел к объяснению того, как в силу русских исторических условий на арену общественнополитической борьбы с самодержавным колоссом выступила особая, только в России проявившая себя, сила– передовые круги дворянства. Эти люди, чутко слышавшие пульс социальной жизни, не могли оставаться равнодушными к цщзни угнетенного крестьянства и потому оказались способными «уразуметь» положение этого класса. От тех же, кто составлял большинство в русском государстве, от крепостных крестьян, исходило сознание необходимости изменения несправедливого политического и экономического режима, сознание необходимости революции.
Ленинская периодизация русского революционного движения дает нам ключ к пониманию процессов, происходивших в обществе и литературе в конце XVIII века. В статье «Памяти Герцена» Ленин писал: «Чествуя Герцена, мы видим ясно три поколения, три класса, действовавшие в русской революции. Сначала–дворяне и помещики, декабристы и Герцен»1. Сначала дворяне: Радищев—первый русский революционер—открывает этот список. Ему предшествовали дворяне, не поднявшиеся до осознания необходимости революции, но честно порывавшие с эксплоататорской, своекорыстной практикой своего класса и отважно отстаивавшие интересы народа, борясь с просветительских позиций против рабства и тирании. Среди этих людей первое место принадлежит писателю-просветителю Николаю Новикову.
Литературно-общественная деятельность Новикова-писателя непосредственно предшествует радищевской и служит той почвой, опираясь на которую Радищев создает передовую и революционную литературу, глубоко связанную с национальной традицией и всемирно-историческими подвигами русского народа.
Для Новикова Ломоносов был «мужем великого разума, высокого духа». Он ценит в Ломоносове «доброту», «твердость духа», «стремление преодолевать все случавшиеся ему препятствия», «предприимчивость», многогранность и широту его интересов, «верность отечеству, друзьям», «нрав веселый и остроумный»—черты, выявлявшие в поэзии русского человека. Но глубоко ценя Ломоносова, продолжая его дело патриотического служения отечеству, Новиков выдвигает новое требование к литературе—служить интересам несчастных крепостных Филаток, живущих в разоренных деревнях под управлением тирана—помещика Безрассуда. Для Новикова патриотизм—это борьба за ограждение России от трутней-дворян, презирающих отечество, его историю, русский язык, русский народ, это—желание изменить существующее положение, основывающееся на бесчеловечном праве владения себе подобными людьми, праве, освобождающем дворян от труда, от деятельности и приводящем к физическому и нравственному их вырождению, праве, обрекающем миллионы хлебопашцев на вымирание, на страдание, на животное существование.
Вот почему в своем журнале «Трутень», изданном в 1769 году, Новиков впервые открыто поставил перед общественной мыслью, перед «дворянским корпусом», перед правительством крестьянский вопрос. Он был объявлен главным, от решения которого зависела вся дальнейшая судьба и дворянства, и самодержавного государг ства, и трудового народа. Именно с этих пор в России крестьянский вопрос не сходит более со страниц литературы.
Несомненно, постановка вопроса о судьбе крепостного крестьянства, о паразитизме дворянства отражала нараставшую, год от года все более грозную борьбу хлебопашцев за свою волю. И острота этих социальных и политических вопросов, поднятых сначала на страницах «Трутня», а затем «Живописца», определяла эстетические позиции Новикова-писателя. За его плечами был опыт русской литературы и Ломоносова прежде всего. Новиков учился в основанном Ломоносовым университете, воспитывался у Поповского—ученика Ломоносова, разбирал творения поэта уже на школьной скамье. Усвоенный от Ломоносова образ русского героя-деятеля, патриота, сына отечества, россиянина, был обогащен им социальной характеристикой. Герой новиковских очерков в журналах—Правдолюбов, Путешественник, Издатель «Трутня»—не просто русский человек, но дворянин, сострадающий положению крепостных, вознегодовавший на своих собратьев по классу, ставший на путь отважного обличения их паразитизма, их своекорыстной, варварски жестокой и бессмысленной жизни.
Ломоносовский герой велик своим подвигом во славу России, своим патриотическим восторгом, своей гордостью великим и могучим отечеством. Повиновений герой– человек, негодующий на несправедливость, человек, сочувствующий крестьянскому состоянию, переполненный чувством скорби, участия и возмущения. Мерой человека, его личных качеств и неповторимых достоинств, индивидуальных особенностей Новиков объявляет его общественную активность, готовность вмешаться в несправедливые социальные отношения, заинтересованность в судьбах других людей —больше того, не просто людей, а сочувствие хлебопашцу, находящемуся в рабстве. Сфера социальных эмоций определяет духовный облик нови-ковского человека. Ему чужд комнатный мирок, домашнее удовольствие, чуждо уединение и самодовольство. Он тысячами уз связан с людьми, его «очаг»—Россия, его интересы—судьбы угнетенных, его друзья—«единоземцы», сочувствующие ему в социальной скорби, ободряющие его за порицание помещика Безрассудова, за борьбу с правительственным журналом «Всякая всячина», с чиновни-ками-взяточниками, обижающими тех, кого они обязаны защищать.
Важнейшим этапом в развитии эстетики «действительной живописи», прямо предшествующей радищевской литературной революции, было создание Новиковым образа человека-гражданина, русского патриота. На страницах своих первых журналов Новиков и осуществляет эту новую, сложную задачу. Скрыв с^ое имя автора, Новиков открывает «Трутень» первым портретом своего героя, которому дает имя: «Издатель «Трутня». Представляясь читателю, Издатель «Трутня» говорит о своей слабости, лености. Читатель готов уже улыбнуться такому простодушному замечанию, но вдруг Издатель сообщает, что именно эта слабость помешала ему выбрать постоянную службу, так как ни одна известная—«не по его склонности». Насторожившись, читатель следует дальше, и узнает: военная отвергнута Издателем оттого, что «беспокойна и угнетает человечество», приказная—«хоть и гораздо наживна, однако не по моим склонностям», придворная– «всех покойнее», «ежели бы не надлежало знать наизусть науку притворства», ежели бы не надо было «забывать человечество», занимаясь ею.
Слушая эти признания, читатель знакомился с новым для него человеком, мало похожим на известных, окружающих его людей. Это был смелый человек, не боящийся посылать стрелы в адрес двора, острослов, высмеивающий вельмож и дворян, человек глубокого и серьезного отношения к жизни, твердо принявший решение отказаться навсегда от казенной службы, от службы царям. Но, отказываясь служить, он недогружается в уединение, не предается самодовольству, а выбирает самый трудный путь в жизни, путь общественного служения своему отечеству, путь защиты русского «питателя», живущего в «бедности и рабстве».
Он предается неведомой дотоле в России общественной деятельности—изданию журнала, с намерением исправлять нравы, обличать власть в ее несправедливых и преступных действиях. Это он хочет делать сообща, приглашая сограждан последовать за ним, подкрепить его. Так начиналась жизнь литературного героя и в то же время реального человека—«Издателя «Трутня». И крайне важно, что первое появление этого героя перед читателями было публичной исповедью о своих намерениях, публичным изложением принципов своей морали, публичным утверждением своего права на независимость и свободу действий от правительства, деятельность частного человека, направленную на благо отечества и сограждан.
Каждый новый лист журнала становился страницей биографии этого человека, так непохожего на своих собратьев по классу. Резко обрушивался он на взяточников, обличал придворных, высмеивал столичных «господчиков». Смело говорил о злоупотреблениях в судах, «беззаконии при рекрутских наборах», зло издевался над дворянами, преклонявшимися перед французскими парикмахерами и из всех наук понимавшими лишь воло-соподвивательную науку, отважно начавшего предерзостную полемику с коронованным автором—Екатериной II. Но, выступая с критикой существующего в России положения, критикой, проводимой с моральных позиций, Новиков заботился и о том, чтобы создать перед читателем образ нового в русских условиях человека, не только патриота, но и гражданина. Этой цели служили письма в редакцию. Письма давали характеристику этого человека, рисовали нравственный облик его. К нему, частному человеку, можно было обращаться за помощью, за советом, сообщать о злоупотреблениях, просить вмешаться в судьбы преследуемых и угнетенных. Ему можно было рассказать о себе—он всегда откликался, приходил на помощь. Его жизнь оказывалась открытой, жизнь удивительная, ни на что непохожая —жизнь общественного деятеля. Именно потому, что это было новым, Новиков ставил своей задачей максимально полнее обнаружить существо, характер, смысл, содержание идеалов этого человека-гражданина.
«Чистосердечное ваше о самом себе описание мне весьма нравится»,—заявляет Чистосердов. «Я уверен, что вы—ненавистник порока и порочных»,—писал Правдолюбов. «Я прибегаю к вам и прошу вашей помощи»,– обращался Заботин. «Я знаю, что вы,—признавался Азазазов (писатель Александр Аблесимов), —благодетель всех бедных и угнетенных, что вы ставите долгом помогать помощи требующим». Так писали друзья «сочувственники», разделявшие убеждения Издателя.
Враги бесновались. Придворные «господчики» злобно заявляли:—«не в свои-де, етот Автор, садится сани», «та-кая-де склонность есть дерзновение», и т. д.
Этому выявлению нравственных достоинств Издателя «Трутня» способствовали журналы, пристально следившие за беспримерно открыто живущей личностью, занимающейся не зависимой от правительства общественной деятельностью. Правительственный журнал «Всякая всячина» яростно обрушился на Издателя «Трутня», называя его «ругателем», «вреднейшей тварью» и т. д. Журнал союзника Новикова—Эмина одобрял деятельность Издателя «Трутня» и во всеуслышание заявлял: «Вы прямой друг истинного человечества».
Но этим не удовлетворялся Новиков. Он стремился как можно полнее обрисовать облик Издателя «Трутня» с тем, чтобы образ этот мог стать выражением его идеалов человека. Прежде всего, подчеркивает он, Издатель «Трутня»—патриот, русский человек, ему дороги интересы отечества, он защищает от немецко-французских невежд русский язык, бережно поддерживает творческие успехи русских художников, русских искусных ремесленников и мастеров. Он гневно обличает тех, кто гнушался всем русским, кто предавал Россию за ленты, пудру, вина и кружева. Для него ненавистна сословная оценка человека. Он с негодованием пишет о вельможе Недоуме, гордящемся «своей породой и древностию рода», о помещике Безрассуде, нагло заявлявшем', что «крестьяне—не суть человеки». «Безрассудный!—восклицал Издатель «Трутня»,—разве забыл то, что ты сотворен человеком, неужели ты гнушаешься самим собою во образе крестьян, рабов твоих. Разве не знаешь то, что между твоими рабами и человеками больше сходства, нежели между тобой и человеком».
Итак, не порода, не род, не знатность, а какие-то другие качества определяют, по Новикову, ценность человека. Какие же именно?
Уже в первом листе Издатель «Трутня» объявляет себя активным защитником закрепощенных хлебопашцев, заявляя, что стал на сторону тех,-кто работает, защищая их от тех, кто поедает их труд. Русский дворянин,—показывает Издатель «Трутня»,—или взяточник-судья, или грабитель-чиновник, или тунеядец-помещик Безрассуд, или воевода За был честь, или спесивый вельможа Недоум, или говорящий на тарабарском наречии светский волокита, и потому он недостоин высокого имени человека. Главное в человеке,—утверждает он,– труд на общую пользу. Носителем этих качеств оказывается русский крестьянин, о котором Издатель «Трутня» рассказывает в «Крестьянских отписках».