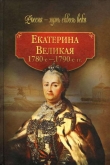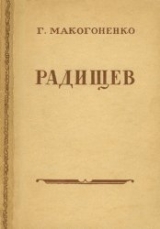
Текст книги "Радищев"
Автор книги: Г. Макогоненко
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 14 страниц)
Как ни положительна была объективная роль теории Руссо о воспитании в условиях феодального общества, она в своем существе представляла собою теорию буржуазно-индивидуалистическую и потому антиобщественную. Именно это и вооружало против нее Радищева.
Система убеждений Руссо на редкость лаконически и полно нашла свое выражение в книге «Эмиль». Ненавидя сословное феодальное государство, где ценили только ранг, звание, а не личное достоинство, он выступает с апологией и защитой человека. Видя, как современное ему общество уродует, калечит, порабощает личность, видя, как весь аппарат власти, вся структура государственного устройства направлены на подготовку из человека члена этого общества, он страстно и горячо отрицает это общественное воспитание. «Все прекрасЕЮ выходит из рук творца вещей, все вырождается в руках человека»,– заявляет он. Современное общество воспитывает верного слугу жестокого, несправедливого, деспотического государства, подавляя в нем все драгоценное, составляющее его «я». Так, оказывается, в уоловиях сословного государства гражданин и человек враждебны друг другу, разделены друг от друга. Поэтому-то Руссо обрушивается на общественное воспитание. «Общественное воспитание не существует более и не может существовать потому, что там, где нет более отечества, не может быть и граждан. Эти два слова—отечество и гражданин—должны быть выброшены из современных языков. Я знаю причину этого, но не хочу об этом говорить». В этих словах вся позиция Руссо, позиция протестанта и гневного отрицателя сословного государства и в то же время позиция буржуазного индивидуалиста, не желающего бороться за обращение своей родной Франции в отечество, не дорожащего именем гражданина Франции, предпочитавшего в теории создавать систему воспитания индивидуалиста, равнодушного к окружающему его миру и страданиям угнетенных людей, в жизни—именоваться «гражданином Женевы».
Роман «Эмиль» и написан «гражданином Женевы», предлагающим утопическую идею воспитания человека, воспитания, состоящего в ограждении естественной доброй природы, прирожденных достоинств от общества. Отсюда главная догма этой системы: «Образуй с самого начала ограду вокруг души твоего ребенка». Воспитание в полной изоляции от окружающей среды, от общества, позволяет привить воспитаннику открыто индивидуалистические идеалы: «Человек,—учит Руссо,—существует весь для себя». Воспитанник из рук Руссо должен выйти «ни судьей, ни солдатом, ни священником»,—«он будет прежде всего человеком». «Жизнь—вот ремесло, которому я хочу его обучить».
Эмиль—это человек особой, «новой породы», человек без родины, без общественных идеалов. Руссо подчеркивает—для воспитания не имеет значения ни общественная среда, ни национальные традиции, а лишь добрый климат, благоприятствующий физическому здоровью. Эмиль «не нуждается ни в чем, кроме себя, для того, чтобы быть счастливым». Ему нужна религия, ибо без религии нет добродетели. Добродетель же, состоящая в следовании предначертаниям природы (то есть в умении жить для себя),—честность, искренность, богатство чувства, в том числе чувство бога, его могущества и т. д. «Что же такое добродетельный человек?»—спрашивает Руссо, после того как Эмиль прошел весь курс воспитания, и отвечает: «Это тот, кто умеет побеждать свои влечения, так как в таком случае он следует своему разуму, своей совести; он исполняет свой долг; он держит себя в порядке и ни за что не отступит от него. До сих пор ты был свободен только по видимости; ты обладал лишь непрочной свободой раба, которому ничего не приказывают. Теперь будь свободен на деле; учись быть господином самому себе, повелевай своему сердцу, Эмиль! И ты будешь добродетельный».
Эмиль, действительно, стал свободным на деле в результате воспитания. Но что же это за свобода, которую так славит Руссо? «Свобода не в какой-либо форме правления, она в сердце свободного человека, он носит ее повсюду с собою». И здесь оказывается, что свобода Руссо—это свобода моральная, свобода для себя, свобода, в конечном счете, собственного благополучия. Закономерным поэтому является и конечный идеал жизни Эмиля, как итог всей воспитательной системы Руссо. Вот что заявляет этот «естественный», от природы «свободный» человек: «Я знаю только одно счастье—жить независимым с тем, кого любить, зарабатывая каждый день аппетит и здоровье своим трудом... Я не хочу другого блага, кроме небольшого хутора в каком-нибудь уголке мира. Вся моя жадность будет заключаться в том, чтобы привести его в цветущее состояние, и я буду жить припеваючи. Дайте мне Софи и мое поле—и я буду богат».
Филистер и собственник, буржуа и семьянин, самодовольный и опьяненный своим чувством, своей добродетелью, своим полем, своим «хутором», своей Софи, равнодушный к окружающему его миру и людям, и в равнодушии жестокий эгоист,—вот кого воспитал Руссо, стыдливо прикрывая от самого себя убогость и ограниченность идеала пышными философическими одеждами «естественного, природного человека». Но, вожделея этого своего уюта и своего самодовольного счастья, как и следовало ожидать от буржуа, Эмиль не отваживается завоевать его. завоевать его хотя бы для себя. Дух борьбы ему чужд. Человек без родины, он думает лишь о себе. Не находя во Франции условий для осуществления своего идеала, он отправляется по Европе в поисках «убежища, в котором бы можно жить счастливым с семьей». Если, заявляет своему Эмилю
Руссо, удастся найти это желанное убежище, «ны обретете истинное счастье, которого тщетно ищут столько людей, и не пожалеете о затраченном на это времени. Если не удастся—вы исцелитесь еще от одной химеры; вы утешитесь сознанием неизбежности зла и подчинитесь закону необходимости». Нет, не был свободным человеком воспитанник Руссо! Его философия—философия раба и филистера.
Книга Руссо была поднята, как знамя, третьим сословием Франции—буржуа увидел свой портрет; ему хотелось спокойно жить на своем «хуторе», на своем поле, .в своем доме, со своей семьей и умиляться, проливать слезы восторга от сознания своей добродетельности, своей честности, своего прямодушия. Эта книга пришла в Россию и, как многое в идейном наследии просветителей, оказалась пущенной на потребу интересов Екатерины, игравшей роль просвещенного монарха и затеявшей создание учебных заведений для воспитания искусственным путем «новой породы людей».
Первому русскому революционеру выпала историческая роль оградить русское освободительное движение от чуждых влияний, разоружавших его. Система воспитания Руссо была враждебна практическим задачам русской революции. Опровержением этой индивидуалистической, антиобщественной и буржуазной в своем существе системы и была повесть «Житие Федора Васильевича Ушакова».
Руссо начинает роман с решения «дать себе воображаемого ученика», и этот воображаемый ученик, Эмиль, становится героем. Радищев, верный своему уже сложившемуся принципу, берет реальное лицо—Федора Ушакова. Реальность исторического героя, точное, объективное изображение его жизни, его воспитание, его развитие подчеркивало правоту радищевских убеждений, противопоставленных умозрительной утопической системе и воображаемому ученику. Руссо стремится найти своему Робинзону—Эмилю—«свое поле и свой хутор», в недрах
несправедливого, сословно-феодального государства. Ненавидя это государство, он не хочет биться за отечество, довольствуясь хутором. Поэтому-то, считая невозможным воспитание гражданина, он воспитывает человека. Радищев со всей решительностью и категоричностью отвергает тезис о невозможности воспитания человека-гражда-нина. И не только отвергает, но и открывает миру верный и действительный путь к этому. Радищев, так же как и Руссо, знает, что в реальной действительности понятия государства и отечества не совпадают. Но ему чужда пассивность и смирение перед этим объективным фактом истории, ему ненавистен отказ от отечества и подмена его хутором. Радищев знает: человек может изменить действительное положение вещей; если у него отняли отечество, он может его завоевать, вернуть его себе в борьбе с феодально-самодержавным государством. Больше того, он знает, что только в борьбе за отечество каждая личность станет гражданином, а гражданин воспитает в себе человека. Это было открытием Радищева. Оно вооружало общественное движение, открывало перспективы, помогало людям порывать с пессимизмом Руссо.
Руссо ограждает своего героя от среды, искусственно изолирует от общества. Радищев показывает, что главным фактором воспитания русских студентов были обстоятельства их жизни под началом самодержавного майора Бокума. Учитель Эмиля наставляет своего ученика—будь умерен в своих желаниях, а если даже их нельзя будет осуществить в реальной жизни, не отчаивайся и смирись; в смирении своем познай силу своего духа. Радищев показывает, как обстоятельства жизни, глубоко враждебные человеку, беспрестанно толкают его на протест. Учитель русских студентов, их «вождь», Ушаков направляет это естественное чувство, объясняет его справедливость и законность, учит использовать его, как оружие, как средство защиты от порабощения.
Руссо объявлял: буду воспитывать «доброго человека». Радищев, создавая образ Ушакова, утверждал: вот воспитанный обстоятельствами жизни «добрый гражданин». Он ополчается протиз внушаемого Эмилем смирения. «Человек много может сносить неприятностей, удручений и оскорблений. Доказательством сему служат все едино-начальства. Глад, жажда, скорбь, темница, узы и самая смерть мало его трогают. Не доводи его токмо до крайности». Доведенный до крайности человек восстает на притеснителя. Именно в этом «отражении оскорбления» проявляется «естественное положение человека». «От сего рождается мщение», «закон, ощущаемый человеком всечасно, но заграждаемый и укрепляемый законом гражданским».
Так было найдено главное—воспитывать надо ненависть к угнетателям. Воспитателем «доброго гражданина» должна быть сама жизнь, политические обстоятельства бытия человека, живущего в обществе, где господствует угнетение человека человеком. Действия Бо-кума, угнетавшего студентов, вызывали возмущение, негодование возрастало до исступления, пока, наконец, не вылилось в бунт. Этот бунт, укрепив общественный союз студентов, увеличил силы каждого в отдельности. Так практическая жизнь наглядно убеждала студентов в неправоте Руссо, считавшего общество, народ «собранием единственников». Возражая против такого понимания общества, Ушаков заявлял, что в действительности общество представляет «нравственную особу, общим понятием и хотением одаренную и для того права и обязанности иметь могущую». Это учение Ушакова опять-таки подтверждалось практикой. «Обществу» студентов, составлявшему «нравственную особу», Бокум нанес обиду, отвергнув справедливое требование одного из его членов. И тогда вступил в силу закон: все за одного. За бунтом последовали заключения, следствия, суд. Была пройдена полная школа воспитания русского свободолюбца.
Ушаков был самобытным русским мыслителем, первым в ряду тех новых исторических деятелей России, кого выдвигало освободительное движение —истинных патриотов, видевших свой патриотический долг в борьбе с рабством в своем отечестве. Радищев свидетельствовал перед своим народом—ты потерял великого мужа, доброго гражданина, умершего в самом расцвете своих лет. Но «великий муж родит великого мужа», —пишет Радищев в «Слове о Ломоносове». Он, Радищев, мужественно вставший на путь революционной борьбы, —первый революционер в России. И он бесконечно многим обязан Ушакову. В повести об Ушакове он открыто и публично устанавливает преемственность свою и связь с «вождем юности»; он заявляет, что «в изображении умершего найдешь черты в живых еще сущбго». Стремясь сохранить память о русском философе Ушакове, Радищев не только пишет повесть о нем, но и издает все оставшиеся после него сочинения. Так начинал свой революционный путь в России Радищев, посчитавший необходимым самому установить свои русские связи, традиции своих предшественников и учителей.
В документальной достоверности повести—огромное историческое ее значение. Радищев бережно сохраняет от забвения образ самобытного русского философа. Он создает первую и, к сожалению, единственную до сих пор объективную научную биографию этого мыслителя. Напечатав сочинения Ушакова, Радищев дал им характеристику, указав на сильные и слабые стороны его философских и политических воззрений. Сильные, как уже говорилось выше, состояли прежде всего в том, что 23-летний юноша мужественно начал переоценку идей Руссо, увидя в них «философию единственников», поднялся до отрицания главного положения «гражданина Женевы», —об антиобщественной природе человека. Наконец заслуга его состоит в попытке сформулировать основные принципы иного воспитания—воспитания человека и «доброго гражданина». Ему уже, Ушакову, принадлежит и антируссоистское «истинное определение человека»: не «единственник»,
живущий своим чувством, а гражданин, который «величайшее услаждение находит в том, чтобы быть отечеству полезным».
Но Ушаков умер в самом начале своего поприща. Он «не имел... довольно опытности» и, поскольку «все почти юноши, мыслить начинающие, «любят метафизику», «мысли свои обращал более к умственным предметам». Поэтому он иногда «возносился на крылиях воображения за пределы естественности». Эта метафизичность, страсть «к умственным предметам» мешали Ушакову «придерживаться правил, народным правлениям приличных». Отсюда одно из главных заблуждений Ушакова в области политики – исповедание концепции просвещенного абсолютизма: «предоставленный сам себе», он «полагал единственное упование на правосудие государя своего».
Убеждения Ушакова формировали сознание Радищева в Лейпциге; молодой свободолюбец исповедовал их в пору своей юности. Но по возвращении в Россию, по окончании русского «университета», его философские и политические воззрения стали иными. Ушаков был «добрый гражданин», Радищев—революционер, «прорицатель вольности». Ушаков, чувствуя «к предстателям мерзение», борется с ними, уповая на государя, Радищев—борется с самодержавием. Ушаков пишет сочинение, в котором высказывается против казни вообще, доказывая ее ненужность для общества. Радищев отвергает эти метафизические суждения и требует казни для монарха и для дворян, видя в этом общественное благо. Поэтому убеждения Радищева в период написания «Жития Ушакова» во многом отличны от ушаковских. Радищев сознательно и преднамеренно оговаривает: Ушаков был учителем, но не вообще, а «по крайней мере в твердости». О том, что это значит и почему Радищев так настаивает на воспитании в нем твердости, будет сказано ниже. Поэтому крайне наивны те исследователи, которые до сих пор ставят знак равенства между убеждениями Ушакова и Радищева.
«Житие Ушакова»—первое художественное произведение в России, создавшее так нужный русскому общественному движению образ положительного героя—человека и гражданина, истинного сына отечества, действительного патриота и борца за свободу. Здесь нашли свое органическое слияние две ранее существовавшие у Радищева раздельно стихии—лирическая, исповедная, и документальная, достоверная. Образ Ушакова, сочетавшего в своем лице доброго гражданина, свободолюбца, «с бушевавшим в его душе негодованием на неправду»; вождя и учителя русских студентов, философа и мыслителя; человека «доброго сердца», открытого «гласу дружбы»; человека твердых мыслей и жизнелюбца, с мечтой о чистой и деятельной любви, мужественного перед лицом смерти, – дан объективно в делах и поступках, в чувствах и обстоятельствах его жизни.
Параллельно Ушакову Радищев дает лирический автопортрет. С первых строк обращения к другу Кутузову перед читателем возникает обаятельный образ человека, живущего открытой жизнью, готового перед всеми «отверз-ти последние излучины сердца». Вспоминая «о днях юности своея», он погружает читателя в свой внутренний мир, рассказывая о себе все; и чем ближе знакомился читатель с этой духовной жизнью неповторимой индивидуальности, тем отчетливее и яснее возникал перед ним образ нового человека—русского революционера. Опыт оды «Вольность» давал плодотворные результаты. Рассказами о себе, о юности и друзьях Радищев занимает внимание читателя не потому, что именно для него, автора, важны, дороги и незабвенны эти дни юности, эта эпоха беззаботного счастья, но потому, что это—время «блаженного союза душ», эпоха, «соделавшая» счастье и смысл всей последующей жизни. Именно в эти дни, указывает
Радищев, он «научился мыслить», стал истинным человеком и гражданином, видевшим единственный смысл своего существования в деятельности и борьбе за счастье своих томящихся в рабстве «единоземцев». Так утверждалось новое содержание личной жизни, содержание интимного человека, где эмоции социальные составляли основу духовного богатства индивидуальности, живущей в обществе и ощущающей себя как личность лишь в борьбе.
Этот мир делался для читателей еще более близким и дорогим оттого, что это был не мир абстрактного человека, или, как выражался Ушаков, не мир «человека вообще», «сотворенного в воображении нравоучителей». Нет, то был мир русского человека, русского по своему характеру, по своим мыслям, по складу ума. Размышляя о русском народе, о русском характере, Радищев, обобщая свои наблюдения, писал: «Твердость в предприятиях, неутомимость в исполнении—суть качества, отличающие народ российский... О, народ, к величию и славе рожденный, если они (эти черты характера.—Г. М.) обращены к тебе будут на снискание всего того, что сделать может блаженство общественное!»
Определение это замечательно тем, что оно заключает в себе радищевскую философию нравственности, его понимание задач воспитания. Русский народ в итоге своего исторического развития обладает этими решающими чертами—твердостью в предприятиях и неутомимостью в исполнении. Существование их—залог будущего освобождения родины от рабства. Именно эти черты создали ему величие и славу, именно они, обращенные на снискание «блаженства общественного», помогут ему разбить путы рабства, расправиться со своими мучителями, уничтожить самодержавие. Вот почему воспитание, по Радищеву, обязательно должно проходить в условиях национальной традиции. Вот почему он всячески подчеркивает, что главная черта в характере Ушакова—«твердость», и главное, чем обязан он Ушакову,—воспитание в нем твердости. Вот почему, создавая свои революционные произведения – «Путешествие из Петербурга в Москву» и «Житие Ушакова», то есть осуществляя свое намерение служить отечеству, совершая подвиг, к которому он готовился всю жизнь, Радищев в «Житии Ушакова», как истинный русский человек, «трепетал воспоминания» о намерении, возникшем было в Лейпциге покинуть Россию, чтобы избежать преследований Вокума. Открывая читателю «излучины своего сердца», Радищев показывал: для него, патриота, нет и не может быть другого желания и иного счастья, кроме жизни в России, жизни, которая в его сознании означала борьбу с тиранией, с рабством, борьбу за свободу и счастие миллионов крепостных крестьян.
X
«Путешествие из Петербурга в Москву»—книга, посвященная проблемам будущей русской революции. Ее героем стал народ—движущая сила этой революции, и передовой дворянин, порывающий со своим классом и становящийся в ряды «прорицателей вольности», деятелей революции. Вот почему эта книга подводила итог русскому общественному движению XVIII века и в то же время поднимала его качественно на новую, высшую ступень.
В посвящении книги, написанном, когда «Путешествие» было уже не только закончено, но и прошло цензуру, Радищев со всей обнаженностью вскрывает свой замысел: «Я человеку нашел утешителя в нем самом». «Отыми завесу с очей природного чувствования—и блажен буду». Сей глас природы раздавался громко в сложении моем. Воспрянул я от уныния моего, в которое повергли меня чувствительность и сострадание; я ощутил в себе довольно сил, чтобы противиться заблуждению; и—веселие неизреченное!—я почувствовал, что возможно всякому соучастником быть во благодействии себе подобных.—Се мысль побудившая меня начертать что читать будешь».
Яснее было трудно сказать, —книга должна была «отнять завесу с очей» тех, кто «взирал не прямо на окружающие его предметы», должна была открыть истину, рассеять заблуждение. Именно эта надежда и вдохновила Радищева. «Но если, говорил я сам себе, я найду кого-либо, кто намерение мое одобрит, кто ради благой цели не опорочит неудачное изображение мысли, кто состраждет со мною над бедствиями собратий своей, кто в шествии моем меня подкрепит, не сугубой ли плод произойдет от подъятого мною труда?»
Возникает естественный вопрос: к кому же в первую очередь обращался Радищев со своей книгой, кто должен был «подкрепить» Радищева в его «шествии»? Сам дворянин,
Радищев, став на путь революции, стремился «научить прямо взирать» на социально-политическую жизнь самодержавно-крепостнической России, обратить внимание на центральный вопрос русской жизни—рабство, увлечь собственным мужественным примером на путь революции передовые, оппозиционно настроенные к политическому режиму Екатерины, радикальные по своим воззрениям круги дворянства. Исторические обстоятельства России не представляли других возможностей.
Ленин неоднократно обращал внимание на эту особенность русской истории—выдвижение из рядов дворянства деятелей, порывавших со своекорыстной практикой класса, к которому они принадлежали. «Дворяне дали России Биронов и Аракчеевых, бесчисленное количество «пьяных офицеров, забияк, картежных игроков, героев ярмарок, псарей, драчунов, секунов, серальников», да прекраснодушных Маниловых. «И между ними—писал Герцен—развились люди 14 декабря, фаланга героев, выкормленных, как Ромул и Рем, молоком дикого зверя... Это какие-то богатыри, кованные из чистой стали с головы до ног, воины-сподвижники, вышедшие сознательно на явную гибель, чтобы разбудить к новой жизни молодое поколение и очистить детей, рожденных в среде палачества и раболепия»14.
Радищев и стремился всей своей деятельностью и своим «Путешествием» прежде всего разбудить к новой жизни молодое поколение, рожденное в среде палачества, угнетения и раболепия. Вот отчего главным героем книги становится дворянин, научающийся «прямо взирать» на окружающие его предметы, дворянин, «уязвленный страданием человечества», сумевший осознать бедственное положение крепостного крестьянства, дворянин, понявший свои либеральные заблуждения, порвавший со своим классом, отряхивающий с себя гнусный груз предрассудков, отважно решившийся итти во след Радищеву.
Образ героя «Путешествия» не тождественен исторической личности самого Радищева. Это человек, имеющий свою собственную биографию, своих многочисленных друзей, свои сложные, противоречивые убеждения, это человек, лишь под конец путешествия оказывающийся способным стать радищевским «соучастником во благоденствии себе подобных». Кто же этот человек? Дворянин, живущий в столице, не имеющий крепостных и добывающий средства к существованию службой. Он человек гуманный, либеральных воззрений, субъективно честный в исполнении своего долга, одобряющий сатирическую деятельность Новикова, читающий его статьи о воспитании, сочувствующий фонвизинским драматическим и прозаическим сочинениям. Добродетельный и честный, он ненавидит социальную несправедливость злупотребления, притеснения и оскорбления человека. Он воспитан на популяризировавшейся в России идее энциклопедистов о просвещенном абсолютизме, как идеальном государственном строе. Поэтому он верит, что в лице Екатерины II осуществлено просвещенное самодер-жавство, отчего в России начал водворяться «златый век», восторжествовала справедливость, осуществилась свобода, когда дозволялось «мыслить и говорить каждому, что он хочет».
Взяв в герои современника, человека, типичного для общественной жизни России 80-х годов, Радищев хотел открыть ему истину, обнажить его заблуждения и воспитать в нем своего «сочувственника», способного сопровождать его на пути революции. Что же могло воспитать этого человека? Ответ был уже найден, как мы знаем, в «Житии Ушакова»: воспитывает жизнь, обстоятельства, окружающие человека, если только человек сумеет взглянуть на них без предубеждения, если доверится всемогущей силе своих чувств.
В «Житии Ушакова» дух протеста воспитывали в студентах условия их бытия, созданные майором Бокумом. Нового героя Радищева должна была воспитывать исторически-конкретная действительность, именуемая деспотическим, самодержавно-крепостническим государством Екатерины И. Каким же образом эти политические обстоятельства жизни могли стать фактором воспитания? Ответ был найден также в «Житии Ушакова»: путешествие, погружение человека в гущу событий, столкновение его с сотнями реальных фактов, ранее ему неведомых, создание условий для чувственного восприятия подлинной, объективно существующей действительности.
Мытам читаем: «Не имел он (Ушаков.—Г. М.) однако же довольно опытности, так сказать, в учении, дабы из путешествия своего извлечь всю возможную пользу. Примечания достойно: человек, достигнув возмужалых лет, когда начинает испытывать силы разума, устремляемый бодростию душевных сил, обращает проницательность свою всегда на вещи вне зримой округи лежащие, возносится на крыльях воображения за пределы естественности и нередко теряется в неосязаемом, презирая чувственность, столь мощно его вождающую. Все почти юноши, мыслить начинающие, любят метафизику; с другой же стороны, все, чувствовать начинающие, придерживаются правил, народным правлениям приличных. Итак, Федор Васильевич мысли свои обращал более к умственным предметам и не знал еще, какую полезность извлечь можно из путешествия». Это и была философская база радищевской эстетики, положенной в основание «Путешествия из Петербурга в Москву».
Воспитывает человека жизнь. Человек, погруженный в гущу жизни, доверяется своему чувству, и именно это чувство освобождает его от заблуждений, от умозрительных умствований, метафизических представлений, открывает ему единственно объективную истину—«правила, народным правлениям приличные». Таким образом, отправляя героя в путешествие, Радищев предопределял и исход его воспитания: руководимый чувством, он непременно придет к обнаружению, а затем и приятию именно тех правил, которые «народным правлениям приличны».
Радищевская эстетика героического, эстетика воспитания революционера прочно опиралась на материалистическую философию. Основной философский вопрос Радищев решает с позиций материализма. Он пишет: «бытие вещей независимо от силы познания о них и существует само по себе».
Познание действительности, существующей независимо от сознания индивидуума, происходит при помощи чувств; без чувств разум—ничто. Механизм познания представляется Радищеву в следующем виде: пер
вичным познанием является опыт, вторым– рассуждение; рассуждение—это тот же опыт, но «опыт разумный». Если опыт чувственный познает сами вещи, то рассуждение познает отношение вещей.
Радищев сам формулирует: «Рассуждение есть не чт© иное, как прибавление к опытам, и в бытии вещей иначе нельзя удостовериться, как через опыт».
Радищев не был только эмпириком, оставшимся в плену фактов; от наблюдения фактов он переходил к их обобщению.
Установить это положение очень важно, так как оно формирует систему взглядов Радищева, раскрывая нам его метод мышления в следующей последовательности: наличие факта, его наблюдение и чувственное восприятие– первый опыт; рассуждение по поводу факта—накопление нового «умственного опыта», чтобы в итоге, сблизив однородные явления и устранив случайное, притти к обобщениям. Так Радищев устанавливает рождение нового представления и убеждения у человека—от непосредственного соприкосновения с действительностью и только с ней.
В соответствии с этим принципом и построены главы «Путешествия из Петербурга в Москву». Большинство глав содержит в себе «чувственные факты»—поданную и показанную тем или иным способом действительность, зарисованный кусок ее, и следующее за ним «рассуждение»—осознание этой действительности. В «Софии»—это случай с почтовым комиссаром и рассуждение о справедливости вообще; заунывные песни повозчика и рассуждение о необходимом характере правления. Затем—эта встреча с крестьянином, вызывающая размышление «о неравенстве крестьянского состояния», рассказ о систербекской истории и полное тревоги раздумье о злоупотреблении чиновников своей властью. Это—напутствие крестецкого дворянина сыновьям и дума о качествах человека и гражданина. Это—встреча с Анютой, с рекрутами, с семьей, продававшейся с молотка,—и навеянные этими встречами мысли о необходимости крестьянского восстания, как единственного пути к вольности народа. Иногда главы разрастаются и содержат не один, а несколько «фактов», за которыми следует одно «рассуждение», —так построена «Спасская полесть».
Изучение материала глав «Путешествия» позволяет нам сделать следующий вывод: все изображаемые факты действительности, призванные воздействовать на путешественника, раскрывать ему подлинную жизнь и рассеивать сложившиеся иллюзии о ней, подчиняют его разум своей логике жизненной правды. Факты подобраны в следующей последовательности: вначале—столкновение ложной системы, ложных представлений о действительности, свойственных в начале книги герою ее, с самой действительностью, впервые во всей ее наготе представшей перед путеществен-ником; затем, под влиянием этого столкновения, крушение системы ложных убеждений. В дальнейшем следуют группы фактов, под воздействием которых формируется новое сознание путешественника.
Соответственно этому замыслу автор избирает и самый метод введения фактов. В первых главах с особой остротой показано столкновение заблуждающегося путешественника с действительностью, причем результаты этих столкновений поданы читателю с особой наглядностью: герой книги высказывает свое мнение раньше, чем ознакомится с фактом. Следующее за тем изображение действительности колеблет его ложные представления о жизни. Путешественник начинает искать выход из реально ощутимого противоречия между своими привычными взглядами и действительными фактами. Он размышляет, еще внимательнее присматривается к происходящим вокруг него событиям и людям. В качестве примера укажем хотя бы на главу «Любани»:
«—Ты конечно раскольник, что пашешь по воскресеньям?—Нет, барин, я прямым крестом крещусь, сказал он, показывая мне сложенные три перста. А бог милостив, с голоду умирать не велит, когда есть силы и семья.– Разве тебе во всю неделю нет времени работать, что ты и воскресенью не спускаешь да еще и в самый жар?—В нецел е-то, барин, шесть дней, а мы шесть раз в неделю ходим на барщину; да под вечером возим оставшее в лесу сено на господский двор, коли погода хороша; а бабы и девки для прогулки ходят по праздникам в лес по грибы да по ягоды... Голый наемник дерет с мужиков кожу; даже лучшей поры нам не оставляет. Зимою не пускает в извоз, ни в работу в город; все работай на него, для того, что он подушные платит за нас. Самая дьявольская выдумка– отдавать крестьян своих чужому в работу. На дурного приказчика хотя можно пожаловаться, а на наемника кому?—Д руг мой, ты ошибаешься, мучить людей законы запрещаю т.—Мучить? Правда; но, небось, барин, не захочешь в мою кожу.—Между тем пахарь запряг другую лошадь в соху и, начав новую борозду, со мною простился.