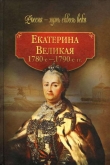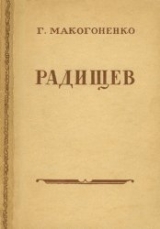
Текст книги "Радищев"
Автор книги: Г. Макогоненко
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 14 страниц)
Екатерина поняла, что зашатался престол, всей поме-щичье-самодержавной России грозила великая опасность. Приходилось принимать решительные меры к спасению. Полки, один за другим, отправлялись к месту боев. Иногда приходили известия—Пугачев разбит. Но, разбитый под Оренбургом, он появлялся в Уфе, разбитый под Уфой, он с новыми силами подступал к стенам Казани. Приходилось принимать чрезвычайные меры. Из столицы двинулась гвардия. Спешно повели переговоры с врагом внешним—Турцией, о мире, чтобы .бросить силы освободившейся армии на врага внутреннего.
Армия Пугачева была и сильной и бесконечно слабой одновременно. Силы ее в народности,—в нее шли угнетенные русские люди «с веселием мщения». Шли крепостные крестьяне, шли бурлаки, как тогда на Руси называли наемных рабочих, шли крепостные, работавшие на заводах, шли пребывавшие в рабстве башкиры и другие угнетаемые царизмом народы. Эта армия действовала решительно, быстро, отважно. И в то же время она была слабой, лишенной единства, неорганизованной, воодушевляющейся более против конкретно знакомых носителей зла, против ненавистных мучителей, чем против всего крепостнического государства. Поэтому, не понимая отчетливо своих общеклассовых и национальных задач, часто руководимая защитой своих ' непосредственных, узко понятых интересов, она так же быстро распадалась под ударами правительственных войск, как быстро создавалась на почве ненависти к своим угнетателям, на почве твердого желания разбить цепи рабства и обрести желанную свободу. Но как ни слаба была пугачевская армия, она почти полтора года победоносно воевала с отлично подготовленными профессиональными войсками Екатерины. Это было возможно потому, что Пугачев нес вольность, и народ всюду шел за ним, приветствовал его, помогал ему, поддерживал его.
Работая в качестве военного прокурора (обер-аудитор) при штабе петербургского главнокомандующего, Радищев оказался близок к Военной коллегии, месту, куда стекались все донесения о действиях Пугачева, и потому был в курсе всех событий. Он читал сводки полковников, генералов, командующего Бибикова, знакомился с многочисленными следственными делами пойманных «возмутителей», с волнением брал в руки указы Пугачева—документы исторической важности, живые свидетели государственного творчества народа. Военачальники доносили из армии, что вступление Пугачева в города и села вызывало празднества, народ встречал его с хлебом-солью, «в лучших платьях», «показывая радостный вид». Пугачев специальными манифестами жаловал народу волю, освобождая от подушных податей и рекрутского набора, передавал землю помещиков «навечно» крестьянам. В указах говорилось: «Жаловать буду вас всех во-первых: вечно вольностию, реками, лугами, всеми выгодами». Указы Пугачева выражали самые задушевные народные чаяния и мечты: «Отныне я вас жалую землями, водами, лесами, рыбными ловлями, жилищами, покосами и морями, хлебом, верою и законом нашим, посевом, телом, пропитанием, рубашками, жалованием, свинцом, порохом и провиантом, словом всем тем, что вы желаете во всю жизнь вашу». И подпись под этими указами всегда была неизменной: «Делатель благоденствия, сладкоязычный милостивый, мягкосердечный российский царь император Петр Федорович, во всем свете вольный». Или: «Ваш доброжелатель, духовно усердствующий государь». И народ верил этим наименованиям, действительно Пугачев был для них доброжелатель, ибо рушил он рабство, мучителей убивал, жаловал вольность, землю, прощал вины и проступки, обещал помощь, защиту и участие. В донесениях, адресованных Военной коллегии, сообщалось, что крестьяне повсеместно о своем мужицком царе отзывались так: «Был он нам, черни, не злодей, а приятель и заступник».
Но этому могучему стихийному движению крестьян за свою свободу не суждено было победить. «Отдельные крестьянские восстания даже в том случае, если они не являются такими разбойными и неорганизованными, как у Стеньки Разина, ни к чему серьезному не могут привести. Крестьянские восстания могут приводить к успеху только в том случае, если они сочетаются с рабочими восстаниями, и если рабочие руководят крестьянскими восстаниями. Только комбинированное восстание во главе с рабочим классом может привести к цели. Кроме того, говоря о Разине и Пугачеве, никогда не надо забывать, что они были царистами, они выступали против помещиков, но за «хорошего царя». Ведь таков был их лозунг»3.
Восставших все больше и больше теснили хорошо вооруженные войска правительства во главе с екатерининскими генералами.
В армии же Пугачева начался распад. Ее солдаты, вчерашние крестьяне, получив свободу и землю, бросали армию и оставались в своих селах. Крестьяйская армия, воодушевляемая идеей «хорошего царя», не осознавала своих классовых интересов, не понимала Общегосударственного размаха борьбы, действовала стихийно. Это было исторически неизбежной слабостью крестьянства. Ею пользовались екатерининские генералы. Располагая огромными вооруженными силами самодержавного государства, они жестоко расправлялись с восставшими, хитростью и подкупом пытаясь заполучить вождя и руководителя восстания —Пугачева.
В ноябре 1774 года выданный царским генералам Емельян Пугачев был доставлен в Москву. На Волге ещз с полгода гуляли отдельные отряды бывшей могучей армии. Восстание было подавлено.
С утра 10 января 1775 года в Москве на Болоте, несмотря на лютый мороз, собралась многотысячная толпа. Даже крыши домов и лавок были усеяны людьми. Народ стоял в ожидании уже несколько часов. Наконец вдали показались сани, и в народе закричали: «Везут! Везут!»
В санях на возвышении сидел Пугачев с открытой головой и кланялся народу, что стоял на всех улицах. Пугачев взошел на эшафот. Стоявшие вокруг войска взяли на караул. Чиновник принялся читать манифест. По окончании чтения Пугачев широко взмахнул рукой, перекрестился и, заторопившись, стал прощаться. Кланялся во все стороны, говоря прерывающимся голосом: «Прости, народ православный; отпусти, в чем я согрешил перед тобою...»
Экзекутор дал знак, палачи бросились к Пугачеву и стали торопливо раздевать его. Через минуту Пугачева казнили.
Именно в этом 1775 году Радищев уходит в отставку. Вряд ли можно сомневаться в политических мотивах этой отставки. Радищев бросает военную службу, уходит из штаба петербургского главнокомандующего и делает все это в момент начавшейся жестокой расправы над «возмутителями». Несомненно, Радищеву предстояло исполнять волю монархини и карать «мстителей». И он не пожелал быть этим орудием ненавистной ему Екатерины. Уже был известен в России пример использования отставки, как средства сохранения своей независимости от правительства. Новиков первый после службы в Комиссии по составлению нового Уложения категорически отказался служить и в возрасте двадцати трех лет сделал беспримерный в России шаг—ушел в отставку, занялся общественной деятельностью, публично объявив русским людям о своем нежелании служить на государственной службе. Позже, в 80-е годы, к отставке прибегнет Фонвизин. Радищев уходит в отставку в 1775 году, два года не служит совсем, несколько раз уезжает на много месяцев из столицы в Москву и к родителям. В этот период он женится на сестре своего товарища Рубаиовского Анне Васильевне. В 1777 году он вернулся на службу, но не военную, не юридическую, а хозяйственную, поступив вКом-мерц-коллегию, находившуюся под управлением либерально настроенного графа Александра Воронцова, ненавидевшего деспотический режим Екатерины II.
Какой же след оставило восстание Пугачева в сознании Радищева? Все, написанное Радищевым после пугачевского восстания, есть непосредственное, теоретическое, политическое, философское и художественное обобщение опыта великой войны русского народа против помещичье-самодержавного государства, войны, наиболее демократической, предшествовавшей и американской и французской буржуазным революциям.
В самом деле массовость, широта, продолжительность и демократичность движения позволили уяснить Радищеву общественно-политические проблемы русской жизни. Было совершенно очевидно, что в основании этого всенародного движения лежат общие, социально-политические причины.
Царствование Екатерины II ознаменовалось усилением «тяжести порабощения», увеличением прав дворянства. Крепостное право было доведено до своих крайних пределов. Сотни тысяч крестьян, до того вольных, были розданы новоявленным вельможам на вечное владение, приписывались к заводам, превращались в рабов, лишенных всех прав. «Доведенные до крайности», крестьяне беспрестанно восставали против своих угнетателей. За первые десять лет царствования Екатерины было более пятидесяти крупных волнений и крестьянских бунтов, среди которых особое внимание привлекали крупные «возмущения» на шуваловских и демидовских заводах. Так созревали условия для огромного антифеодального восстания. Нужен был только толчок, чтобы привести в движение угнетенные массы. Радищеву становилась ясной справедливость и законность этой борьбы против мучителей-дворян и чиновников. Восстание Пугачева отчет-либо показало ему, что первейшей задачей русского освободительного движения является борьба с крепостничеством и самодержавием. Больше того, становилось ясным, что единственным путем достижения этого является восстание, революция, ибо никогда ни помещик, ни самодержец не уступят в чем-либо своим крепостным, не откажутся от своих прав. Дикий разгул реакции, усиление гнета после поражения народа с необыкновенной силой убедительности доказывали это. Даже тысячи вздернутых на виселицы помещиков, даже страх перед новой пугачевщиной не заставил дворян хоть немного поступиться своими правами. Чем яснее видел это Радищев, тем отчетливее становилась его мысль, что надежды можно возлагать только на восстание, только на сам народ. Так, после опыта крестьянской войны, возглавляемой Пугачевым, он станет глашатаем крестьянской революции.
Развивая свою теорию революции, Радищев многократно говорит при этом о мщении. Революционер, республиканец, он вкладывает в это слово особый смысл. Мщением он называет крестьянскую войну под руководством Пугачева. Мщением именуется будущая русская революция, в честь которой он пишет свою пламенную оду «Вольность». Этим словом Радищев стремится подчеркнуть справедливое, исторически законное право угнетенных народных масс силой оружия вернуть отнятую у них свободу. Больше того: слово это передает всю веками накопленную суровую ненависть крепостных к своим поработителям и мучителям, решимость и долг беспощадно бороться с ними.
Между прочим в употреблении слова «мщение» сказался демократизм Радищева. Проповедуя революцию, призывая русских крепостных «избить дворянское племя», возвести самодержца на плаху, он говорит языком, понятным широким массам народа. Книги его они не могли прочесть,—это Радищев отлично знал. Но слово «мщение» сходило с их страниц, становилось лозунгом, ясной программой действий, вдохновляющим на великое и правое дело. Поэтому, употребляя разные термины: возмущение, мщение, восстание, Радищев всегда подразумевает одно—революцию, вооруженную борьбу крепостных против своих угнетателей, ниспровержение устоев феодального государства и утверждение республики свободных тружеников. Таким образом «мщение» включает в себя й момент великого созиданйя, когда мстители, расйра-вившись с «венчанным злодеем», будут творить новую государственность, новые социальные отношения, новую культуру. Употребление этого термина в радищевской теории революции, следовательно, объясняется конкретно историческими условиями той эпохи, пропагандистскими задачами Радищева.
Пугачевское восстание решило вопрос и о будущей культуре, о ее творцах. Господствующая дворянская теория утверждала, что культуру создают избранные. Именно это обстоятельство и оправдывало справедливое, по мнению господствующих классов, общественное разделение на трудящееся большинство и управляющее меньшинство. Это меньшинство творило искусство, создавало науку, литературу, управляло государством, организуя в нем жизнь. Народ, мужик, мог лишь только пахать.
Еще до пугачевского восстания в русских сатирических журналах и в новиковском «Трутне» в частности писалось о нелепости и дворянско-своекорыстном характере этой теории. Эпоха Петра, богатая фактами массового народного творчества во всех областях жизни, многогранная могучая деятельность гениального Ломоносова, политические речи крестьянских депутатов в Комиссии по составлению нового Уложения и многое, многое другое позволяло Радищеву критически отнестись к этой реакционной теории. Но крестьянская война за вольность радикально и коренным образом раз навсегда покончила с нею.
Многочисленные стихийные бунты, беспрестанно возникавшие в России, ограничивались всегда лишь уничтожением своих мучителей. Поэтому многие дворянские идеологи старались доказать, что восстания крепостных бессмысленны, творчески бесплодны и что они лишь сеют разрушение. И вот именно в восстании, несмотря на всю его стихийность, Радищев увидел творчество народа. Пугачев не только сражался с екатерининскими генералами, чинил суд и расправу над помещиками и царскими чиновниками, не только разрушал старые, ненавистные народу порядки.
Во главе восстания был штаб—«Военная коллегия». Он состоял из людей, выдвинутых народом, из «мстителей», и именно мщение проявило в них доселе дремавшие духовные силы, таланты, нравственные качества. Вчерашний беглый крепостной Хлопуша стал страстным «прорицателем», «возмутителем», воодушевлявшим своими речами обездоленных, стал незаурядным полководцем. Рабочий Белобородов стал полковником, принял командование артиллерией; крестьянин Михаил Шигаев—продовольственным комиссаром армии; казак Иван Чика-Зарубин– одним из организаторов военных отрядов, ближайшим помощником Пугачева. Да и сам Пугачев, вчерашний казак, по бедности ходивший наниматься в работники к богатым хозяевам, стал государственным деятелем, вождем восстания.
Указы Пугачева свидетельствовали о попытках организации новых экономических порядков. Штабом Пугачева отменялось крепостное право, даровалась вольность, жаловалась земля, отменялись старые подати и назначались новые налоги, нужные для ведения войны, делались попытки создания своей администрации. Все эти факты были известны Радищеву. Несомненно, все эти мероприятия не могли изменить общего, стихийного характера движения. Но вместе с тем они были объективным, реальным и документально достоверным свидетельством творческих возможностей народа. Восстание продемонстрировало и готовность и способность самого народа не только освободиться от своих мучителей, но и своими руками создать новую государственность, новую культуру. Все это позволило Радищеву понять: именно восстание есть наивысший акт народного творчества. Такое понимание отьрывало широкие перспективы. Дворянство, отчаянно защищавшее свои права на чужой труд, установившее режим рабства и деспотизма, превратилось в паразитический, антиобщественный класс. Народ, во имя «святой вольности», украденной дворянством, доведенный до крайности тяжестью порабощения, восстает. Осуждая режим рабства, ненавидя угнетателей, Радищев именно в годы ожесточенных боев народа с палачами и мучителями решительно порывал со своей средой. Опыт восстания воодушевлял его глубокой, проникновенной верой в светлое будущее России. Народ своей борьбой за вольность утвердил убеждение Радищева, что именно он есть истинный субъект истории, ее хозяин, ее создатель и творец.
Все это поставило перед Радищевым глубоко личный
вопрос: нужно было решить, что ж® делать ему, дворя-пину, в этим убеждением, как жить в крепостнической России после поражения восстания и торжества екатерининско-потемкинской реакции?
Служба в Коммерц-коллегии у Воронцова, честное исполнение своих обязанностей, внимание и уважение сиятельного начальника к его с блеском развернувшемуся дарованию глубокого экономиста, государственного деятеля, быстрая служебная карьера—в 1780 году он уже помощник начальника Санкт-Петербургской таможни, а в 1785 году—фактический ее управляющий,—все это не могло удовлетворить Радищева. Он стремился к деятельности общественной, к деятельности на благо страдающего в оковах народа. Какой же могла быть деятельность в эту пору? Конец 70-х годов знаменовался в России господством реакции. Ужас перед народным возмущением сплотил дворян. Оппозиционные настроения, характерные для известной группы общественных деятелей (Панин, Сумароков, Херасков .и др.), пали сами собой перед лицом смертельной опасности, каким было для них пугачевское восстание. В год расправы над восставшими когда-то бывший в оппозиции Сумароков стал славить Екатерину. Екатерина объявила себя «казанской помещицей» в знак полной солидарности с дворянством. Вокруг «казанской помещицы» дворянство сплотилось с ликованием—монархиня оправдывала их доверие. Многие из числа субъективно-честных дворян, отлично понимавшие справедливость требований крепостного крестьянства, лично ненавидевшие рабство и деспотизм, не видя средств и путей к изменению существующего положения, с презрением отвернулись от потемкинского режима произвола. Они демонстративно уходили с поприща общественной деятельности, замыкались в кругу собственных, личных, моральных проблем и интересов, не желая присутствовать на празднике победивших рабовладельцев. На этой почве широко развернулось масонство—религиозно-нравственное течение, объединившее в свои тайные общества прежде всего этих людей, решивших, что если нельзя уничтожить или хотя бы уменьшить социальное зло, то можно не увеличивать его, что если нельзя исправить «порочные» натуры русских крепостников, то можно заняться собственным нравственным усовершенствованием. Масонство не было идейно однородным течением. В 80-х годах появились и открыто-мистические, воинственно-реакционные ордена, каким, например, был орден розенкрейцеров, руководимый сначала мистиком Шварцем, а затем шарлатаном и политическим авантюристом Шредером. Но вне зависимости от оттенков и программ различных орденов масонство в целом объединяло, как правило, ту дворянскую интеллигенцию, которая, отказываясь от общественной деятельности, не пожелала что-либо сделать для изменения судьбы крепостных. Высшей формой активности этих «самоусовершенствующихся личностей» была милостыня, подаваемая «несчастным». Вот почему Радищев ненавидел масонство и зло высмеивал его.
Только немногие деятели отваживались продолжать свой прежний путь, и среди них первое место занимали Фонвизин и Новиков.
У
В этих условиях Радищев и начал свою деятельность. Все настоящее России, ее будущее, общественно-культурная жизнь отечества, все идеологические ценности мира – философские, политические, социологические, эстетические теории—рассматривались отныне Радищевым, человеком энциклопедических знаний, в свете опыта вооруженной борьбы русских крепостных. До нас дошли бумаги Радищева—его замечания о прочитанных книгах, его выписки по истории, его мысли о распространенных просветительских теориях,—эти рукописи, только теперь публикуемые, помогают нам восстановить содержание и характер идейной работы Радищева в начале 80-х годов.
Естественным было обращение к вопросам политическим и социальным. Здесь прежде всего необходимо было проверить опытом русской истории и русской жизни теории, уже созданные «великими мужами» и получившие мировое распространение. И Радищев останавливается на двух главных деятелях, лидерах двух различных лагерей, умеренного и радикального, во французском просвещении,—на Монтескье и Руссо.
Монтескье—создатель новой социологии, вдохновитель политической доктрины энциклопедистов. Его «Дух законов» был источником воззрений на государство, проповедовавшихся и Гольбахом, и Гельвецием, и Дидро, и Вольтером. Для Екатерины «Дух законов» был «молит-
венником». Что же открыл Монтескье? Как пишет в своих замечаниях Радищев, он «мнимое нашел разделение правлений, имея в виду древние республики, ассийские правления и Францию». Абстрактная, метафизическая теория Монтескье устанавливала три типа государственного устройства: республику, деспотию и монархию. Соответственно этой метафизической классификации также умозрительно делался вывод: республиканско-демократический строй
является идеальным, но утопичным, в настоящее время неосуществимым. Деспотия—форма правления отвратительная, противная природе человека, подлежащая уничтожению. Монархия же, смягченная просвещением и вдохновляемая философами,—вот практическая программа для современного устройства политического бытия народов. Именно в силу своей схоластичности, оторванности от реальной истории народов, догматичности эта теория породила политическую концепцию энциклопедистов, которая не могла вооружать освободительное движение народов, а, наоборот, отлично была использована само-державцами—Фридрихом II и Екатериной II. Поэтому Радищев отвергает социологию Монтескье, называет ее «умствованием», указывая причину ее метафизичности– отрыв от реальной жизни народов и государств: «Монтескье,—заявляет он,—забыл о соседях своих».
Но, как уже говорилось, политическая доктрина энциклопедистов никогда не вызывала сочувствия Радищева. Другое дело—Руссо. Его демократические радикальные воззрения, его теории народоправства казались в лейпцигский период молодому свободолюбцу истинными. Следы влияния самой радикальной книги французского мыслителя «Общественный договор» отчетливо видны в примечании к слову «самодержавство», которым сопроводил Радищев свой перевод книги Мабли. И вот именно теории Руссо подвергаются категорическому и решительному пересмотру после пугачевского восстания. Характерным оказывается уже тот факт, что Радищев ставит его в один ряд с Монтескье, и равно с ним отвергает. Пересмотр шел по всем линиям: политической, философской и эстетической. В отличие от Монтескье Руссо выдвигает в качестве идеала не монархию, а республику. Казалось бы, это являлось свидетельством и радикализма и демократизма Руссо. Но Радищев показывает, что это отличие Руссо от Монтескье только кажущееся, внешнее. В самом деде,
Руссо проповедует республику, но лишь для малых стран и народов. Большие же государства и народы должны довольствоваться, по Руссо, монархией. И здесь Радищев стремится выяснить причину «умствования» – оторванность от жизни, от истории, от политической практики народов, умозрительность теоретических построений. В своих заметках по этому вопросу он пишет: Руссо, «не взяв на помощь историю, вздумал, что доброе правление может быть в малой земле, а в больших—должно быть насилие». Последнее замечание крайне характерно: по мнению Руссо, в «больших землях» должна быть монархия; Радищев же переводит это понятие на свой язык: насилие. Так, кстати сказать, было всегда у Радищева: монархическое правление было для него тождественно с насилием. Дав оценку политическим и моральным воззрениям Монтескье и Руссо, Радищев в крайне выразительных словах передает свое общее отношение к ним: «Монтескье и Руссо с умствованием много вреда сделали».
Той же метафизичностью, по Радищеву, отличаются и воззрения Руссо на общественную природу человека. В «Общественном договоре» Руссо заявляет: человек свободен от рождения. Свобода эта есть следствие человеческой природы. Истинное состояние человека, когда он ощущает себя вполне свободным,—состояние одиночества. Это естественное его состояние. Но в силу развития человеческого общества «первобытное состояние не может более существовать». Чтобы защитить себя и свою свободу, человек должен жить в обществе, у него «не остается другого средства самосохранения, как образовать путем соединения сумму сил». Но, соединившись в общество, человек теряет часть своей свободы. Как же быть? Руссо берется «найти такую форму ассоциации, которая защитила бы и охраняла совокупной общей силой личность и имущество каждого участника и в которой каждый, соединяясь со всеми, повиновался бы, однако, только самому себе и оставался бы таким же свободным, каким был и раньше». Так, по Руссо, общество, союз, нужны человеку лишь для него, для его защиты. Пребывая в обществе, он использует его для своих целей, всячески ограждая себя от этого общества и спасая от него свою свободу.
Радищев полностью отвергает эту теорию, как антиобщественную, индивидуалистическую, противоречащую интересам народа. В бумагах Радищева находится незавершенный набросок трактата о коренных проблемах нравственности и бытия человека под названием «О добродетелях и награждениях». Весь этот набросок—опровержение философии «Общественного договора», первая попытка изложения иной теории о человеке и обществе. Общество, союз,—по Радищеву, —создаются не для защиты индивидуальной свободы индивида, а для «обуздания» тех, кто покушается на общие права людей. «Воззванные в общежитие всесильным гласом немощей и недостатков человеки скоро познали, что для обуздания наглости и дерзновения нужна была сократительная сила, которая, носяся поверх всего общественного союза, служила бы защитою слабому, подпорою угнетенному». Центральная же мысль радищевского рассуждения—общество не посягает на права и свободу человека, но раскрывает в нем дремавшее силы, пробуждает и воспитывает качества, обогащающие его личность. «Единственность», по Радищеву, гибельна. «Подернутые мглою бездействия, объятые мраком самоневедения или неощущения, силы человеческие дремавшие, уснувшие, паче или поистине мертвые в единственности, воспрянули в общественном сожитии, укрепилися взаимно, распро-странилися, возвысились и, объяв все не токмо существующее, но и все возможное, возмечтали и то, что им несоразмерно, касаяся пределов даже божественности».
Только в союзе, в обществе,—подчеркивает Радищев, – человек может ощутить свое достоинство, свою свободу. «Немощны, дебелы, расслаблены во единице, едва не всесильны стали в сообщении, творяи чудеса яко боги». Совершенно очевидно, что все эти утверждения Радищева об общественной природе человека, о силе союза носят глубоко демократический характер и являются теоретическим выражением опыта «союза» крепостных «немощных во единице», но ставших «едва не всесильными в сообщении» в пору активной защиты своих прав, попранных угнетателями. В этом же отрывке Радищев, прямо обращаясь к угнетенным, призывает их понять «силу вашу общую», которая «тебе и собратий твоей присно сущна». Речь Радищева в этих заметках утрачивает спокойствие ученого мыслителя. Она горяча и призывна, будто произносит ее человек, «вышедший на лобное место», когда «все взоры на него стремятся, все ожидают с нетерпением его прорицания»: «дерзай желати своего блаженства,– утверждает Радищев,—и блажен будешь. Блажен в общественном союзе, блажен и в твоей единственности».
И Монтескье и Руссо Радищев обвинял в незнании жизни, истории, в оторванности от опыта политического и социального бытия народов. В 80-е годы сам Радищев напряженно занимается русской историей, читает летописи, исторические сочинения, проводит огромную работу по изучению экономического положения современной ему России, пишет исследование об экономике Петербургской губернии, знакомится с русским законодательством, с практикой исполнения законов, судами и исполнительной властью, сам начинает писать, видимо, по заказу, сочинение «Опыт о законодавстве». На место «умствований», метафизики Радищев ставит конкретную, достоверную историю, факты, документы.
Сохранившиеся радищевские замечания по истории свидетельствуют, что в древней Руси и в недавнем прошлом русского народа Радищев ищет ответа на вопрос об исконных начальных формах его политического бытия. И в Киеве, и в Новгороде он находит «веча или народные собрания». Именно «на оных сборищах основывалась наипаче вольность народа». Княжеская власть, замечает он, не была сильной. «Князя Всеволода новогородцы, лиша правления, держали два месяца в заточении». Эта исконная вольность народа была насильственно отнята князьями. У народа отнимали права, порабощая его.
История свидетельствовала Радищеву—царская власть и народ антагонистичны. Цари и князья отняли вольность у народа и с каждым годом, с каждым столетием все более и более его закабаляли. Но в то же время Радищев видел, что в деятельности некоторых монархов было много прогрессивного, нужного для блага всего русского государства. Царь Иван Васильевич «соединил разрозненную на уделы Россию», «возбудил государственные силы, всегдашним разделением и от ига татарского в недеи-ствие пришедшие», «он положил основание того величества, которого Россия достигла», «царь Алексей Михайлович оградил Россию от поляков», «Петр произвел окончательные преобразования всего огромного государства». Этими царями исчерпывается список самодержцев, в деятельности которых Радищев видел прогрессивные черты. Но и они,—и это очень важно для Радищева,—укрепляя русское государство, приносили ему в жертву интересы народа, порабощая и закабаляя крестьянские массы. Именно это последнее обстоятельство, засвидетельствованное опытом русской истории, позволило Радищеву окончательно отвергнуть надежду на монархию, надежду на самодержца, каким бы «великим», «добрым», «мудрым», «просвещенным» он ни был. В любом своем виде, в любой своей форме монархия—смертельный враг народа, она держит народ в узде рабства; и народ поэтому вправе вернуть себе то, что было отнято у него силой.
Так, из глубокого изучения русской истории, социального бытия народа, его экономического и юридического положения, из обобщения опыта его освободительной борьбы рождалась радищевская теория народной революции, как единственного пути к вольности,—теория, чуждая умозрительности, проникнутая историзмом, глубоко и органически связанная с прошлым русского государства, с судьбой русского народа, отвечающая насущным потребностям миллионов крепостных крестьян, вооружающая русское освободительное движение.
Учитывая условия развития русской общественности, Радищев и принимает решение стать писателем. Отрывки теоретических работ по истории, социологии, экономике, юриспруденции остались незавершенными. Чтобы придать своим теориям большую силу общественного воздействия, он приступает к созданию художественных произведений, пронизанных этими политическими идеалами. Радищев избирает писательство, рассматривая слово как сильнейшее оружие. Но не просто печатное слово, а свободное слово, ибо он хочет писать, минуя царскую опеку. А предстояло написать правду о политическом бытии России, о положении народа, о деспотизме екатерининского правления, об антинародности любой формы монархии, о революции, которая одна может только преобразовать отечество на началах вольности. Это, конечно, правительство не разрешило бы сделать открыто. Поэтому надо было найти способ, чтобы свободное слово достигло соотечественников, открыло бы им глаза, вооружило бы их в жизни и деяниях.