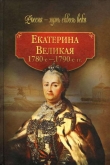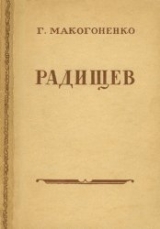
Текст книги "Радищев"
Автор книги: Г. Макогоненко
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 14 страниц)
– Не трудно ли тебе нести такую ношу, любезная моя, как назвать не знаю?
– Меня зовут Анною, а ноша моя не тяжела. Хотя бы и тяжела была, я бы тебя, барин, не попросила мне пособить.
– К чему такая суровость, Аннушка, душа моя, я тебе худого не желаю.
– Спасибо, спасибо; часто мы видим таких щелкунов как ты; пожалуй, проходи своей дорогою».
Именно труд составляет основу крестьянской, и путешественник понимает, истинно человеческой нравственности. Когда он, движимый искренним чувством, хочет нодарить Анюте сто рублей, чтобы ускорить ее свадьбу с любимым человеком, и Анюта, и ее мать с негодованием отвергают эту подачку. Они, люди труда, привыкли только к трудовым деньгам, и подарков, тем более от господ,—подарков, всегда унизительных и корыстных, решительно не принимают.
Глава «Едрово» имеет огромное значение в моральном обновлении путешественника. Перед ним в образе Анны, ее семьи, открылся новый, неведомый мир нравственной красоты и чистоты. Он ходит по деревне Едрово, с восхищением смотрит на жизнь этих людей, которых они, «мучители дворяне», превратили в «тяглый скот», слушает их простые, полные искренности и достоинства речи, с гневом и презрением думает о своей прошлой жизни, о жизни всего «дворянского корпуса», погрязшего в своем паразитизме и тунеядстве. Встреча с Анютой, крепостной девушкой,—поворотный момент в жизни путешественника. От нее, от ее поступков, ее задушевной мечты завести семью, воспитать сына исходит такой свет, что путешественник уезжает из Едрова с надеждой возможного своего обновления, возможного причащения к этой новой жизни. И Радищев сам всей душой верит, что возможно такое моральное обновление, что великая, мудрая и покоряющая сила заложена в людях труда. «Анюта, Ашота, ты мне голову скружила1—восклицает он. —Для чего я тебя не узнал лет пятнадцать тому назад. Твоя откровенная невинность, любострастному дерзновению неприступная, научила бы меня ходить во стезях целомудрия... О, моя Анютушка! сиди всегда у околицы и давай наставления твоею незастенчивою невинностью. Уверен, что обратишь на путь доброделания начинающего с оного совращаться и укрепишь в нем к совращению наклоненного».
В Городню путешественник приезжает «мстителем». Вот почему его внимание привлекает толпа крестьян,– в деревне сдавали рекрутов. Он смело подходит к крепостным, заводит с ними разговор, ища средств и путей
помощи им. Они теперь для него «друзья мои». М здесь происходит встреча с крепостным интеллигентом.
Крестьянин из Любани, Анюта из Едрова—крепостные, сумевшие, несмотря на гнет рабства, обрекшего их на безысходную тяжелую работу, сохранить в себе «величественные преимущества человека». Встреченный в Городне рекрут—крепостной, но волею человеколюбивого помещика он получил образование, и в нем оказались разбуженными дремавшие нравственные силы, таланты и способности.
В напечатанной в 1789 году «Беседе о том, что есть сын отечества?» Радищев писал о важном моменте в жизни народа, о моменте осознания им своего положения; крепостные, задавленные тяжелой работой и бедностью, «не видят конца своему игу, кроме смерти, где кончаются их труды и их мучения, хотя и случается иногда, что жестокая печаль, объяв дух их размышлением, возжигает слабый свет разума и заставляет их проклинать свое состояние и искать оному конца». Размышление, по Радищеву, важнейшая черта в характере русских крестьян. Крепостной начинает размышлять под влиянием обстоятельств; «доведенный до крайности», он проклинает свое состояние, и тогда размышление «возжигает в нем свет разума», который помогает ему положить конец своему «печальному положению».
Встреченный в Городне рекрут убедил Радищева, что «размышление» у крепостных может быть ускорено образованием и воспитанием. Главная черта в характере крепостного интеллигента—именно это размышление. Разговор с ним убеждает путешественника, что «он достиг понятий, не достающих нередко в людях, несвойственно называемых благородными». Он учился наукам, приобретал знания и в России, и за границей. Главное в его образовании—рост самосознания: «я есть человек, всем другим равный». Он патриот, его «сердце трепетало, вступая опять в пределы отечества». Он русский по основам своего характера. Он тверд в мыслях, он ненавидит «робость духа». Он «сносит жребий свой терпеливо», не умея только терпеть «поругания». Разбуженное в нем человеческое достоинство делает его активным и смелым. Он, получив образование, оказывается опять на положении раба, делается жертвой разнузданной жестокости жены своего молодого барина, бывшего его соученика, забывшего наказ отца своего—дать несчастному волю. Но, терпеливо перенося угнетение, он не пресмыкается перед своими мучителями, он судит их; барин, говорит он, обладает «робостью духа», барыня «соединила скареднейшую душу и сердце жестокое и суровое. Воспитанная в надменности своего происхождения, отличностию почитала только внешность, знатность, богатство». Как истинно русский человек, он терпелив, но до предела. Грозно предупреждает он своего мучителя, «не доводи до отчаяния души», «страшись!» Испуганные его угрозой, господа поспешили отдать ненавистного им человека в рекруты. Перемена положения породила надежду—«сладостное несчастному чувствование».
Выслушав этот рассказ, путешественник почувствовал близость к крепостному крестьянину. «Я прижал его к сердцу моему,—пишет путешественник.—Лицо его новым озарилось веселием. Не все еще исчезло, ты вооружаешь душу мою,—вещал он мне,—против скорби, дав чувствовать мне, что бедствие мое не бесконечно». Трудно переоценить значение этого вещего образа русского разночинца, созданного Радищевым на основе глубокого понимания великой творческой мощи русского народа и его роли в будущей революции, которая должна обновить «любезное отечество».
Рядом с образом крепостного интеллигента—Ломоносов, сын холмогорского рыбака. Крепостной интеллигент—только возможность. Ломоносов—свершение. «Определенный по состоянию своему препровождать дни свои между людей, коих окружность мысленные области не далее их ремесла простирается», «Ломоносов, «изострив свое понятие», укрепив разум свой «полезными и приятными знаниями», стал «великим мужем», ученым, реформатором языка и стиха, «первым в российской словесности». Так человек, «исторгнутый из среды народные», властно приобрел «от природы право неоцененное действовать на своих современников». Ломоносов, великий деятель русской национальной культуры,—неопровержимое свидетельство талантливости русского трудового народа, его огромных потенциальных сил, его способности к величайшему государственному созидательному творчеству.
В основании радищевского изображения русских крестьян лежит его учение о роли обстоятельств в воспитан нии человека. По Радищеву, «не прилежание, не старание, не воспитание делают великого мужа». «Известно всем, сколь мешкотно, сколь тихо бывает шествие наше в учении нашем». Обращаясь к истории, Радищев утверждает, «История .свидетельствует, что обстоятельства бывают случаем на развержение великих дарований. Но на произведение оных природа никогда не коснеет, ибо Чингис и Стенька Разин в других положениях, нежели в коих были, были бы не то, что были; и не царь во Греции, Александр был бы, может быть, Картуш. Кромвель, дошедший до протекторства, явил великие дарования политические. . . на войне великие качества военного человека, но, заключенный в тесную округу монашеские жизни, он прослыл бы беспокойным затейником и часто бы бит был шелепами».
Создавая «Путешествие из Петербурга в Москву», Радищев опирался на опыт пугачевского восстания. Вот когда обстоятельства оказались отличным случаем «для развержения великих дарований». Вот почему, изображая русских крепостных крестьян, людей, отягощенных рабством, сведенных на положение «тяглого скота», Радищев героизировал их, видя в каждом ту дремлющую до случая силу, которая сделает его истинным сыном отечества, патриотом, деятелем революции. Сила, обаяние, нравственная красота русских крепостных радищевского «Путешествия» именно в том и состоит, что мы чувствуем в каждом из них будущего деятеля, освободителя России. Через индивидуальный облик каждого просвечивает его потенциальная судьба свободного человека. Именно поэтому, Радищев и мог писать о крестьянстве, как о том общественном классе, которому предстоит решить судьбу российской империи. Именно эта особенность радищевского подхода к крестьянам с особой силой проявилась в коллективных образах народа. Во всех этих случаях крестьяне даны в действии, в момент своей наивысшей жизни,—в момент свершения мщения угнетателям.
Впервые мы сталкиваемся с народом, не только утесняемым, не только размышляющим, но и действующим, в главе «Зайцево». Молодого парня, заступившегося за честь своей невесты, велено было «сечь кошками немилосердно». «Побои вытерпел он мужественно, неробким духом смотрел, как начали над отцом его то же произ-№
водить истязание. Но не мог выдержать, когда он увидел, что невесту господские дети хотели вести в дом». Он вырвал невесту из господских рук и побежал. Началась погоня. Тогда пробил час мести. Парень, «выхватив заборину, стал защищаться». На шум прибежали другие крестьяне. «Соболезнуя о участи молодого крестьянина и имея сердце озлобленное против своих господ, его заступили. Видя сие, асессор, подбежав сам, начал их бранить и первого, кто встретился, ударил своею тростью столь сильно, что упал бесчувствен на землю. Сие было сигналом общему наступлению. Они порешили всех четверых господ и, коротко сказать, убили их до смерти на том же месте».
Возникли обстоятельства, и долго терпевшие рабы смело и мужественно поднялись на мучителя, проявляя товарищество, «соболезнуя» об участи не своей, но своего односельчанина, несправедливо гонимого и оскорбленного.
В главе «Хотилов» прямо говорится о пугачевском восстании, поднявшем десятки тысяч крестьян на революционное дело, сделавшем из них мужественных воинов, одушевленных желанием «освободиться от своих властителей».
В оде «Вольность» Радищев рисует картину революции, которая преобразила крепостных, сделав их «великими мужами», мстителями, бойцами за вольность. Свергнув самодержавие и творя суд над «злодеем» монархом, народ произносит речь, полную сознания своего величия, своего достоинства. И главное, что вменяет себе в заслугу народ, —сознание своего права на свободу, сознание своего труда, как творчества. Отсюда он сам характеризует себя как создателя, зиждителя, творца. «Покрыл я море кораблями... дал способ к приобретению богатств и блага человечества. Желал я, чтобы земледелец не был пленник на своей ниве». Он, народ, «гремящую воздвигнул рать», «земные недра раздирает», «металл блестящий извлекает», обеспечивает охрану отечества от внешних врагов,—«медны изваял громады, злодеев внешних чтоб карать». Труд народа—основа жизни на земле. Вот почему даже повергнутый в рабство, лишенный всех результатов своей деятельности, нищий, голодный и бесправный, он благодаря созидательному труду своему сохранил в себе нравственное достоинство, человеческое, творческое отношение к жизни.
Но есть и особое творчество народа, так «любезное» Радищеву, —его способность подчиняться «природному закону», завоевывать себе и своему отечеству свободу. Революция—вот наивысшее выражение творческих возможностей народа. Именно поэтому в Городне путешественник, открывший для себя и этот закон, обращается с прямым призывом к крепостным поднять восстание. Этот призыв к мятежу полон великой радостной веры в победу народа, в создание им своими собственными руками новой государственности, новой культуры, народным правлениям приличных». Вот эти вдохновенные слова путешественника:
«О, если бы рабы, тяжкими узами отягченные, яряся в отчаянии своем, разбили железом, вольности их препятствующим, главы наши, главы бесчеловечных своих господ и кровию нашею обагрили нивы свои! Что бы тем потеряло государство? Скоро бы из среды их исторгну-лися великие мужи, для заступления избитого племени, но были бы других о себе мыслей и права угнетения лишен-ны».
Созданные Радищевым образы крестьян укрепляли эту веру путешественника, подтверждали убеждение, что именно из среды крепостных вырастут великие мужи, что именно народ есть истинный и единственный творец жизни во всех ее областях—экономической и культурной, политической и государственной.
Но, призывая к «избиению племени мучителей», путешественник вместе с «новомодным стихотворцем», то есть Радищевым, тем самым окончательно разрывал с дворянской средой. Наступала новая, суровая и мужественная жизнь «мстителя» и «прорицателя вольности». Чувствуя одиночество в среде дворянского общества, и путешественник и Радищев ищут общения не только с себе подобными, не только с теми, кого они вместе теперь научат «смотреть прямо» на окружающую их жизнь, но и с народом.
Глубокая пропасть отделила дворян от крепостных. Вековое мучительство, порабощение, неслыханная жестокость и деспотизм вызвали в народе неугасимую справедливую ненависть к своим господам. Это понимал Радищев и путешественник. Они по рождению, по своему положению принадлежали к дворянам, к мучителям, и потому должны были расплачиваться за все злодеяния, сделанные их собратиями. Но революционные воззрения, но разрыв со своим классом, но мужественное решение отдать свою жизнь делу освобождения народа, но вера и знание, что эту свободу завоюет только сам народ,– толкали к нему, к этому самому народу, И Радищев и путешественник предпринимают первые в истории русского общественного движения попытки приблизиться к русскому хлебопашцу, опереться на его поддержку, так необходимую им, —отважно дерзнувшим бросить вызов всему самодержавно-крепостническому государству, посмевшим дворянам и русскому царю «грозить плахою».
Вот почему, начиная с Едрова, путешественник ищет путей сближения с крестьянством. Первые же предпринятые им шаги повели к неудаче. Воспитанный в дворянском обществе, он оказывается не способным в общении с Анютой и ее матерью убедить их в искренности своего намерения. Когда, движимый хорошим чувством, он предлагает деньги, то, не желая того, оскорбляет достоинство женщины, И путешественник огорчен, хотя и понимает, что в этом виноват он сам, влачащий на себе отвратительные лохмотья корыстной, меркантильной дворянской морали, где деньги всегда принимались с жадностью и никогда никого не оскорбляли.
В Городне путешественник настойчиво продолжает искать общения с народом, —отсюда его разговоры с рекрутами. И здесь—первая удача—разговор с крепостным интеллигентом на началах взаимного понимания. Там же, в Городне, он оказывается способным оказать услугу другой группе рекрутов, незаконно отправляемых в армию. И безмерна радость путешественника, когда эту услугу от барина рекруты принимают, сердечно и просто благодарят его.
«Путешествие» начинается с размышления героя о покинутых им в Петербурге «друзьях души». К Москве он подъезжает идейно и морально обновленным. Он уже не только вырвался из мира нелепых и преступных иллюзий, но и расстался со всем своим прошлым. Теперь он воистину русский путешественник, человек, уязвленный страданиями крепостного крестьянства, воодушевленный «природным законом», «грозный мститель» и «прорицатель вольности», живущий огромной, всеобщей жизнью, нашедший новых, нужных и любезных ему людей– Анюту и крепостного интеллигента. Теперь Анюта, кре-
постной интеллигент, «новомодный стихотворец», рекруты—становятся «друзьями его души». Вот почему, подойдя к рекрутам, путешественник заговаривает новым и для себя и для них языком.
«Друзья мои, —сказал я пленникам в отечестве своем, —ведаете ли вы, что если вы сами не желаете вступить в воинское звание, никто к тому вас теперь принудить не может». Нет, это не сентиментальная речь «друга»,—это точная и деловая речь мстителя, защитника народного, пренебрегающего угрозами «рекрутских отдатчиков» и вооружающего крепостных мужиков советом, практическим советом, который прямо приносит им пользу, ибр помогает освободиться от солдатчины. Выслушав со вниманием полезный и нужный им совет барина, крестьяне принимают его услугу и благодарят его: «О, если так, барин, то спасибо тебе, когда нас поставят в меру, то все скажем, что мы в солдаты не хотим и что мы вольные люди».
И путешественник замечает при этом перемену, происходящую в рекрутах. Опять перед нами возникает коллективный образ народа, одушевленного единой мыслью—добиться своей свободы: «Легко себе вообразить можно радость, распростершуюся на лицах сих несчастных. Вспрянув от своего места, бодро потрясая свои оковы, казалися, что испытывают свою силу, как бы их свергнуть». Так рождается у путешественника мысль, что возможность общения с народом лежит лишь в плоскости самоотверженной, нужной и полезной ему, – направленной на его освобождение от пут рабства деятельности.
Особой остроты эти искания путешественника достигают в деревне Клин. Близится конец «Путешествия». Встав на опасный в условиях екатерининского режима путь отстаивания вольности, путешественник страстно стремится получить благословение тех, за свободу которых он решил отдать свою жизнь. Это не прихоть, это не дань сентиментальному чувству. Это—практическая потребность души, жаждущей укрепить себя в предстоящем подвиге.
Случай помог этому желанию. Въехав в Клин, путешественник сразу попал в толпу крестьян, собравшихся послушать старого слепого крестьянина. И перед ним открылись новые стороны духовной творческой жизни
т
народа—его искусство. Естественно, воспитанный в дворянском обществе, он сравнивал и песню, и певца, и действие его искусства на слушателей, и самих слушателей, с тем, к чему он привык с детства,—с дворянским искусством, с дворянским обществом. И еще раз он с радостью признает: в области духовной деятельности, в области искусства, народ превосходит «мучителей». Там, в Петербурге и Москве, «пресмыкающееся искусство», там любят «кудрявые напевы заезжих чужестранцев – Габриели, Маркези или Тоди», там слушатели, имеющие «взращенные во благогласии уши»—бесчувственны к искусству, ибо души их запечатаны мучительством, ибо чуждо им сострадание и сочувствие. Здесь, в деревне, на улице «неискусный хотя напев» старика-певца покорял слушателей, покорял правдой, искренностью, «нежностью изречения». Здесь свободное общение певца и слушателей, здесь искусство «проницающее в сердца слушателей», в сердца, открытые чувствительности, скорби, состраданию, мести. Здесь искусство «обновляет» и просветляет души людей, томящихся в рабстве.
Исполняя старинный стих об Алексее—божьем человеке, старик-певец, властвуя над чувствами слушателей, сам не скрывает своего волнения, и стоящие в толпе крестьяне, каждый по-своему, переживают песнь старика. «Жены возрыдали; со уст юности отлетела сопутница ее—улыбка; на лице отрочества явилась робость, неложный знак болезненного, но неизвестного чувствования; даже мужественный возраст, к жестокости толико привыкший, вид восприял важности».
Как в Городне общению с крепостным интеллигентом помогло его образование, так здесь искусство открыло путешественнику путь к народу. Именно в этот момент путешественник с чрезмерным души волнением решился испросить благословения. «Я не хотел,—говорит он,– отъехать, не быв сопровождаем молитвою сего, конечно, приятного небу старца. Желал его благословения на совершение пути и желания моего. Казалося мне, да и всегда сие мечтаю, как будто соблагословение чувствительных душ облегчает стезю в шествии и отъемлет терние сомнительности».
Наблюдая, как к старику подходили крестьяне, подавали ему то денежку и полушку, то кусок или краюху хлеба, и как он каждому «сопровождая благодарность
№
свою поклоном», говорил, «дай бог тебе здоровья», путешественник тоже решает подойти к нему.
«Подошед к нему, я в дрожащую его руку, толикоже дрожащую от боязни, не тщеславия ли ради то делаю, положил ему рубль». И здесь трепетно ждавший благословения путешественник испытывает и великое огорчение и затем наивысшую в своей жизни радость. Нищий певец не принял его щедрого, но бесполезного ему дара, и это огорчило путешественника. «Почто такая милостыня? – сказал слепой... Почто она немогущему ею пользоваться?.. Ах, если бы он был у меня после бывшего здесь пожара, умолк бы хотя на одни сутки вопль алчущих птенцов моего соседа. Но на что он мне теперь? Не вижу, куда его и положить; подаст он, может быть, случай к преступлению... Возьми его назад, добрый господин, и ты и я с твоим рублем можем сделать вора».
Мучительный стыд и угрызения совести охватывают путешественника. Опять его дворянство сказалось в этой тщеславной, гордой милостыне. Опять прошлое встало на пути к народу, опять не смог свершить поступок, равный искреннему намерению. «О истина, колико ты тяжка чувствительному сердцу, когда ты бываешь в укоризну, —восклицает путешественник. —Сие уязвило мое сердце, колико приятнее ему, вещал я сам себе, подаваемая ему полушка! Он чувствует в ней обыкновенное к бедствиям соболезнование человечества, в моем рубле ощущает может быть мою гордость. Он не сопровождает его своим благословением. О! колико мал я сам себе тогда казался, колико завидовал давшим полушку и краюшку хлеба певшему старцу!»
Приняв обратно рубль, путешественник стоял возле певца—русского крестьянина, в прошлом храброго русского солдата, ослепшего на войне, стоял всем чужой, отделенный вековой ненавистью к «мучителям», исполненный муки и горя от невозможности осуществить свое намерение, от желания найти в этих людях опору в своем подвиге. И, набравшись мужества, он вновь обратился к нищему солдату:
– Неужели ты меня столько перед всеми обидишь, старичок,—сказал я ему,—и одно мое отвергнешь подаяние? Неужели моя милостыня есть милостыня грешника?
И тогда старик-певец понял, понял чуткой своей душою,—перед ним не обычный барин. И он ответил на эту проникнутую болью речь сочувствием, сумев деликатно помочь жаждущей признания душе.
– Ты огорчаешь давно уже огорченное сердце естественною казнью,—говорил старик.—Не ведал я, что мог тебя обидеть, не приемля на вред послужить могущего подаяния: прости мне мой грех, но дай мне, коли хочешь мне что дать, дай, что может мне быть полезно... Холодная у нас была весна, у меня болело горло, плат-чишка не было чем повязать шею, бог помиловал, болезнь миновалась... Нет ли старенького у тебя платка? Когда у меня заболит горло, я его повяжу, он мою согреет шею, горло болеть перестанет, я тебя вспоминать буду, если тебе нужно воспоминовение нищего.
Так прост и мудр был ответ старого крестьянина – сделай, что полезно и нужно простым, обездоленным людям, и они будут вспоминать тебя, и они примут дело твое. В волнении путешественник спешит исполнить совет. «Я снял платок с моей шеи, повязал на шею слепого... И расстался с ним».
Так должна была кончиться глава «Клин», но она была продолжена. Именно здесь подлинный идейный конец книги, —путешественник получил благословение народа. И эта тема, жизненно важная для путешественника, для самого Радищева, тема, завершающая формирование революционно-демократического мировоззрения, тема осознания необходимости практических связей с народом, тема поисков путей к народу, к преодолению в будущем исторически сложившейся страшной далекости дворян от народа,—народа, творца революции и освободителя России от уз рабства,—заставила Радищева сломать композиционный принцип построения книги и дописать к этой главе еще несколько самых важных и решающих строк.
Книга Радищева описывала путешествие из Петербурга в Москву, то есть только в одном направлении. Путешественник, доезжая до Всесвятского, попрощался с читателем навсегда. Мы ничего не должны были знать о дальнейшей судьбе путешественника и не знали, если бы Радищев не сделал одного, и притом единственного, отступления во всей своей книге, отступления от раз принятого принципа—описывать путешествие лишь в одном направлении. Но Радищев не мог оставить читателя в неведе-йии—какова же будет дальнейшая судьба путешественника. И тогда к главе «Клин», где решался вопрос о благословении путешественника русскими крестьянами, делает приписку о том, что было с путешественником после пребывания его в Москве. Эта приписка продолжала историю с платком. «Возвращался через Клин, я уже не нашел слепого певца. Оп за три дня моего приезда умер. Но платок мой, сказывала мне та, которая ему приносила пирог по праздникам, надел, заболев, перед смертью, на шею, и с ним положили его во гроб! О! если кто чувствует цену сего платка, тот чувствует и то, что во мне происходило, слушав сие».
Свершилось! Вся эта глава, замечательная по силе художественного выражения, идейных исканий человека, порвавшего с дворянской средой во имя освобождения миллионов крепостных крестьян, утверждала не только историческую и политическую необходимость перехода дворянских революционеров на сторону народа, но и его возможность в будущем. Наивная и прекрасная в своей простоте история с платком символически олицетворяла то благословение трудового народа, которого так жаждал путешественник «на совершение своего пути», благословение, «обличавшее стезю в шествии и отнимавшее терние сомнительности».
Радищев своей книгой указывал путь к ликвидации одиночества, которое естественно возникало у дворянских революционеров, порывавших со своей средой. Он направлял к источнику, припав к которому человек, отважившийся бороться с самодержавием и крепостничеством, мог чернать нужную ему силу. Тем самым «Путе-жествие из Петербурга в Москву» открывало широкие и ясные перспективы победоносного развития русской революции, как она рисовалась воображению Радищева. Это было мудрым предупреждением и заветом для последующих поколений дворянских революционеров.
Поиски нового, революционного решения проблемы общественного переустройства направляют внимание Радищева к вопросам истории. Вдохновленная восстанием русских крепостных, ода «Вольность»—пример нового, отличного от просветителей XVIII века исторического мышления. Радищев прославляет вольность не как некое исконное, естественное состояние человека, к которому он стремится вернуться. Радищева интересует
выяснение тех причин, которые с неумолимой неизбежностью приносят торжество вольности то в одной, то в Другой стране. Он обращается к истории, стремится понять причины падения вольности в Риме, останавливается на английской революции, стремясь понять причины ее возникновения, и, наконец, обращается к войне американцев за независимость. Только после этого Радищев переходит к вопросу о вольности в России. Он проникновенно и горячо мечтает о свободной родине, но анализ причин, вызывающих революционный взрыв, заставляет его притти к выводу, что в России революция произойдет не скоро:
Но не приспе еще година,
Не сверши лися судьбы;
Вдали, вдали еще кончина,
Когда иссякнут все беды.
Изучение истории и современных революционных событий убеждало Радищева, что торжество вольности есть результат насильственного революционного акта.
Не благие порывы одиночек, не проповеди великих мужей и не уговоры законодателей могут изменить ход истории, но стечение политических и экономических обстоятельств, обострение противоречий между рабом и господином вызывает к жизни революционный взрыв. Народ, воодушевленный свободой,—эта могучая и непобедимая, до времени еще не пробужденная в некоторых странах сила и есть движущая пружина истории.
Все это было принципиально ново и коренным образом противоречило идеологии европейского просвещения. О характере исторических воззрений просветителей Плеханов писал: «Мнение правит миром,—говорили французские материалисты, мы—представители мнений, поэтому мы—демиурги истории. Мы герои, за которыми толпе остается следовать». Народ для энциклопедистов, равно как и для Вольтера и Дидро,—толпа, стадо, которому нужен погонщик. Для Радищева же народ—величайшая сила истории, творец новой государственности, новых идей, новой культуры. Радищев понимает историю, движение вперед, как прогрессивное, как развитие, движение прогресса. Радищев верил, что подготовленная и организованная революция при благоприятных в данной стране обстоятельствах обязательно принесет торжество народу, обеспечит победу свободы.
Однако новое в радищевских воззрениях—нс теория прогресса, а теория революции; новое в том, что история для него уже не просто сборник иллюстраций и примеров, каким она была для просветителей. Он пытается установить связь между историческими событиями, найти причины их возникновения в условиях материальной жизни людей.
Интерес к истории и попытки постигнуть законы исторического развития определялись у Радищева стремлением доказать неизбежность революционных переворотов, которые одни только приносят человечеству торжество свободы и справедливости. Отсюда стремление отказаться от общих, отвлеченных рассуждений и приблизиться к реальным фактам исторической действительности. «Путешествие из Петербурга в Москву» прежде всего и ставило задачу выяснения политического, экономического и правового положения русского государства и народа, с тем чтобы доказать на конкретном материале современной русской жизни преступность самодержавия и крепостничества, неминуемое наступление революционного переворота. Именно эта конкретность мышления и позволила ставить вопрос о научном предвидении. На основе изучения русской жизни Радищев делал вывод, что именно «тяжесть порабощения» толкнет крестьянство на восстание, что эта революция принесет народу вольность, установит республику тружеников, сметет с лица земли самодержавие и угнетение.
В «Путешествии» и оде «Вольность» изложил Радищев проникновенную и дорогую мечту о будущем русского народа, выношенную в сердце за долгие годы борьбы. Он вдохновенно нарисовал перед читателем картину будущей жизни свободного народа.
Отгремят годы революции, и народ создаст свое правительство из среды свободных. «Скоро бы из среды их исторгнулися великие мужи для заступления избитого племени». Интересы народа, забота о его благе—вот что будет предметом их внимания в повседневной работе. В этом государстве население будет свободно. Все граждане обязаны будут трудиться. Земля будет роздана во владение народу. В обществе будут действовать новые, принятые народным правительством законы, которые призваны регулировать не только экономические отношения тружеников, но и воспитывать их, преследуя пользу и интерес миллионов.