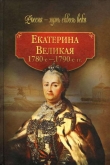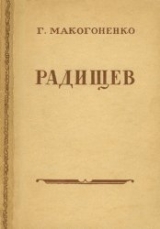
Текст книги "Радищев"
Автор книги: Г. Макогоненко
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 14 страниц)
Восторжествовавший в обществе тружеников великий дух свободы, «зиждительный как бог», преобразует все стороны жизни трудящихся. Труд, бывший при барщине проклятием, становится радостным и творческим. В государстве тружеников, говорит Радищев, «труд—веселье, пот—роса, что жизненностью своею плодит луга, поля, леса». Станет реальной возможностью окончательное освобождение от бедности и нищеты—свободный труд, основа растущего экономического богатства. Если при крепостном праве «земля как мачеха», «рабам дает скупую мзду», то в государстве свободных тружеников
Дух свободы ниву греет,
Бесслезно поле вмиг тучнеет,
Себе всяк сеет, себе жнет.
Кончится прежнее унижение. Труженик сможет жить свободно и в довольстве. Никто не посмеет посягнуть на его труд, на его семью, на его независимость—свое народное правительство будет ему верной защитой. Живя в довольстве, народ будет уделять много внимания просвещению и искусствам, и тогда расцветут науки, художества и «рукоделия, возведенные до высочайшия совершенства степени». В основу общественного образования будет положен принцип всестороннего воспитания разума, чувств и тела, но главное внимание будет уделено воспитанию в каждом свободном труженике чувства любви к отечеству и гражданской добродетели, любви к труду и свободе.
Преданность народным интересам, выражение воли и духа народа, гениальность Радищева позволили ему так смело и уверенно мечтать в условиях крепостнического режима о наступлении этого счастливого будущего. Радищев в то же время на основе изучения реальных условий современной России знал и другое. «Не мечта сие, не взор проницает густую завесу времени, от очей наших будущее скрывающую; я зрю сквозь целое столетие». Возможность подобного рода догадки может быть только у человека, пытающегося исторически мыслить и объяснять явления действительности.
По словам Белинского, именно в XVIII веке, в самом его начале, в петровскую эпоху, Россия вошла в число тех государств, вместе с которыми стала «держать судьбы мира на весах своего могущества».
Последующие десятилетия еще более упрочили это место и положение России в системе государств мира, ни одно крупное событие века, как бы далеко от России ни было географическое место его свершения, не проходило теперь вне прямого или косвенного участия России, вне влияния русской политики. Это в свою очередь не могло не определить особенность развития русской культуры.
Передовые русские деятели, взявшие на себя функцию руководства делом просвещения, относились к культуре мира по-хозяйски. Знакомясь с идейным богатством прошлого и настоящего передовых стран Европы, они умели воздавать должное достигнутым результатам и отвергать, осуждать резко и категорично то, что могло нанести вред русскому освободительному движению, делу борьбы с крепостническо-самодержавным государством.
Безвозвратно кончилась та пора, когда исторический опыт других народов и прежде всего опыт общественнополитической, освободительной борьбы приходил в Россию уже в опосредствованном виде, то есть в виде готовых политических, социологических и философских учений. Наступала новая эра—русский народ выдвинул мыслителя такого масштаба, как Радищев, который самостоятельно изучал, осмыслял и теоретически формулировал этот опыт. При этом формулировалась и обобщалась революционная борьба народов мира всегда и неизменно с позиций практических потребностей русского освободительного движения, с высот достижений и опыта русского исторического процесса. Так русская демократическая культура, русская революционная мысль приобретали всемирно-исторический характер.
Радищев, энциклопедически образованный, самостоятельный и пытливый мыслитель, проявивший необыкновенную политическую чуткость к величайшим событиям века, тесно связанный с умственной и общественной жизнью мира, чему безусловно споспешествовало положение России в международных делах, оказался именно тем человеком, который внес новый вклад, вписал новую страницу в историю передовой философской и политической мысли эпохи просвещения XVIII века, положив начало русскому революционному движению, выступил первым русским революционером.
Факты свидетельствуют, что Радищев подвизался в России в обстановке исключительной политической активности общества, что потоком событий он был выдвинут со своим «Путешествием из Петербурга в Москву» как идейный руководитель и вождь, как выразитель революционных стремлений народа. Его мятежная книга поэтому не только замечательный памятник личного мужества и героизма. Это документ, засвидетельствовавший оформление в русском обществе самостоятельного, передового философского и политического мировоззрения.
XI
В литературной деятельности Радищева обращает на себя внимание одно необычайное обстоятельство. Много и напряженно работая в течение девяти лет, создавая одно произведение за другим, он не печатает их. Публиковать давно законченные сочинения он начинает лишь с 1789 года. Последовательно, одно за другим, выходят «Беседа о том, что есть сын отечества?», «Житие Ф. В. Ушакова», «Письмо другу, жительствующему в Тобольске», «Путешествие из Петербурга в Москву». На первый взгляд это кажется непонятным: человек стремился
к активной деятельности, но, написав произведения, не печатает их. Объяснение таится, несомненно, в этом стремлении к активности. Радищев писал революционные произведения. Ему необходимо было исполнить весь замысел, и данные произведения как раз и воплощали всю сумму радищевских идей, формулировали его политическое учение, его философию, его эстетику, его теорию воспитания. Готовя эти сочинения, он знал: за каждое он может быть подвергнут преследованиям и гонениям, может быть арестован и судим. Поэтому нужно было сначала написать задуманные произведения, а затем найти средства, чтобы напечатать их сразу. Так и было сделано. К 1789 году он заводит свою типографию и печатает в ней революционные книги, готовый каждую минуту к расплате за свою смелость.
Печатая свои сочинения, Радищев шел на подвиг. Он знал: первого русского революционера ждет трудная судьба, —не только преследования и мучения, но и смерть. Самовластие никогда не простит возмутителя. Но он шел на это с открытым сердцем. Он был русским человеком; твердость в мыслях, «правила жизни» делали его неутомимым в исполнении задуманного, помогали «бестрепетно» думать о возможности смерти. Революционные убеждения определили его характер. В борьбе с самодержавием и крепостничеством, в активной деятельности на благо русского порабощенного народа видел он единственный смысл жизни. Собственным примером он увлекал многих, внушая отважное презрение к возможным гонениям, пыткам, заключению в крепость. Он писал: «Не бойся ни осмеяния, ни болезней, ни мучения, ни заточения, ниже самой смерти. Пребудь незыблем в душе твоей, яко камень среди бунтующих, но немощных валов. Ярость мучителей твоих разбродится о твердь твою; если предадут тебя смерти, осмеяны будут, а ты поживешь на памяти благородных душ, до скончания веков». Смело и дерзко в лицо самовластью он говорил: «Сродно хви-лым, робким и подлым душам содрогаться от угрозы власти и радоваться на приветствие».
Успешно создавая свои революционные произведения, Радищев в то же время искал и других путей практического общения с соотечественниками, с теми, кто мог отозваться на его призыв, кто мог стать «сочувственником» и единомышленником.
Начинать работу приходилось в страшно тяжелых условиях. Люди были крайне разобщены. Никаких партий, никаких организованных групп единомыслящих, которые могли бы собираться, обсуждать положение в обществе, в стране, принимать решения, действовать, Россия тех лет не знала. Самодержавный режим не терпел и не допускал объединения людей. Объединенные в союз люди могли почувствовать себя силой. Потому-то так свирепствовала в те годы тайная канцелярия ее величества, возглавляемая палачом и кнутобойцем Шешковским.
Как же должен был Радищев начинать свою практическую деятельность ?
В 1784 году из бывших воспитанников Московского университета, определившихся после окончания курса на службу в столицу, в Петербурге было организовано «Общество друзей словесных наук». Одним из главных организаторов и руководителей был ставленник общества
масонов, Антоновский. Это общество устраивало литературные собрания, объединив любителей художественной и философской литературы. Общество каждый год разрасталось. Кроме бывших студентов, в него стали вступать сослуживцы молодых чиновников, а позже молодые офицеры, главным образом моряки.
Вот в это общество после знакомства с ним и вступил Радищев. Вступил для того, чтобы отвоевать у масонов эту молодежь, отвлечь ее от мистико-религиозных идей, заронить в ее среду вольнолюбивый дух.
Члены общества собирались в определенные дни недели. На собраниях устраивались чтения книг и докладов, написанных кем-нибудь из членов общества. Правда, стараниями масонов и Антоновского литература для этих чтений подбиралась специального масонского характера —религиозно-мистического направления. Но
так как в обществе были люди разных воззрений, то было * много и таких, которые скептически относились к деятельности масонов и их религиозной пропаганде. Внимание Радищева привлекли именно эти члены общества. Рассчитывая на их поддержку, он исподволь повел борьбу с Антоновским и его приверженцами.
Радищев стал посещать собрания и слушать, как друзья Антоновского настойчиво проповедовали благочестие, кротость и послушание. Он слушал, как однотонно и бесстрастно читались статьи на тему: «О первой и единственной обязанности человека к высочайшему существу», «О вечности души человеческой». И перед ним раскрывался замысел масонов, их желание пропагандой идей смирения и кротости «сберечь народ от вольнодумства».
Во время этих посещений Радищев заводил знакомства с членами общества, выяснял их убеждения и настроенность, постепенно приготавливаясь к выступлениям на этих собраниях. В обществе к Радищеву относились с большим уважением.
К началу 1789 года борьба в обществе приняла обостренный характер. Атаки Радищева и его друзей стали частыми и резкими. Радищев задумал подчинить целям революционной пропаганды журнал общества «Беседующий гражданин». Пользуясь тем, что, по уставу общества, статьи в журнале помещались лишь после общего одобрения членов* Радищев мечтал со временем заполнить его
материалом, который будет исходить из круга его новых друзей. А пока Радищев собирался провести через журнал несколько своих революционно-пропагандистских статей.
При обсуждении статьи Радищева под названием «Беседа о том, что есть сын отечества?» окончательно выяснились результаты его деятельности в обществе: явное большинство членов оказалось на стороне статьи, проникнутой «вольностию духа».
В своей «Беседе» Радищев доказывал, что преступно свободного по рождению человека превращать в «тяглый скот». Оттого отечество лишается своих истинных патриотов, своих сынов. Истинный же сын отечества – это свободный человек. Им не может быть помещик, «терзающий ближних своих насилием, гонением и притеснением»; дворянский чиновник, «простирающий объятия свои к захвачению богатства и владений целого отечества своего», «который с хладнокровием готов отъять у злосчастнейших соотечественников своих и последние крохи», живущий для «услаждения вкуса и брюха». Им не может быть и крепостной крестьянин, превращенный из человека в раба. Поэтому, раз крепостное право лишает отечество своих сынов, необходимо уничтожить это зло, вернуть людям свободу, уничтожить причину развращения людей, расправиться с мучителями и поработителями. Это было смелым, открытым, публичным выступлением против русского крепостничества. «Помните,– пророчески возвещал Радищев, —что все чаще и чаще жестокая печаль возжигает свет разума в душах русских земледельцев и заставляет их проклинать бедственное свое состояние и искать оному конца».
Чтение статьи вылилось в триумф Радищева. Молодежь приняла ее, и она была напечатана в декабрьской книжке журнала «Беседующий гражданин» за 1789 год.
Тогда же он оборудует свою маленькую типографию. Вместе с друзьями своими, сослуживцами по таможне, он трудился над печатанием последнего и главного своего детища—«Путешествия из Петербурга в Москву». К маю 1790 года книга была готова. Отпечатали почти шестьсот пятьдесят экземпляров. «Письмо другу»—первенец типографии—было уже пущено в продажу и прошло спокойно. Ранее напечатанное «Житие Ушакова» вызвало переполох в столице, Свидетельство лейпцигского друга
Радищева—Кутузова, с которым он в эту пору уже совсем почти разошелся, показывает, как дворянские круги встретили эту книгу. В «Житие Ушакова»,—пишет он,– автор изъяснялся живо и свободно, со смелостию, на которую во многих землях смотрят, как будто на странную метеору. Книга наделала много шуму. Начали кричать: «Какая дерзость, позволительно ли говорить так!» и проч. и проч. Но как свыше молчали, то и внизу все успокоились. Нашлись и беспристрастные люди, отдававшие справедливость сочинителю». На этих-то «беспристрастных» и рассчитывал Радищев, желая сделать из них «зрителей без очков», презирая всей душой «громко кричавших». Как-то встретят теперь его «Путешествие»? Шум явно будет еще больше—здесь он самой Екатерине «грозил плахою». Очевидно, что ни правительство, ни Екатерина, прочтя ее, не будут молчать. Значит?.. Надо было ждать всего.
Первые двадцать пять экземпляров книги Радищев вручил знакомому книгопродавцу Зотову. Через несколько дней в Гостином дворе в лавке № 14 по суконной линии начало продаваться «Путешествие из Петербурга в Москву». Несколько книг Радищев разослал знакомым и друзьям. Среди других «Путешествие» получил Державин. К концу месяца первая партия книг, переданных Зотову, была распродана. По городу пошел слух, что в Гостином дворе продается какое-то «Путешествие», в котором царям грозят плахою. Зотов прибежал на Грязную, требуя новых экземпляров.
Тем временем книга дошла до Екатерины. Чьи-то услужливые руки положили «Путешествие» на стол императрицы. Прочитав его, Екатерина пришла в величайшую ярость. Ее статс-секретарь Храповицкий записал в своем дневнике: «Говорено было с жаром и чувствительностью о книге «Путешествие из Петербурга в Москву». Открывается подозрение на Радищева. Сказать изволила, что сочинитель бунтовщик, хуже Пугачева». Немедленно был дан приказ сыскать сочинителя. Воронцова, как начальника Радищева, предупредили. Тот незамедлительно оповестил Радищева. Стало ясно—надо готовиться к расплате. Радищев уничтожает все бумаги, сжигает книгу, спокойно ожидая ареста. Беспокоила лишь дума о детях. Их судьба мучила и огорчала. Жена, Анна Васильевна, умерла в 1783 году. Оставшиеся дети воспитывались им самим. Помогала сестра жены, Елизавета Васильевна Рубановская. Что будет с детьми теперь, когда они осиротеют совсем? На кого он оставит их?
26 июня был арестован книгопродавец Зотов. Наступал черед Радищева. 30 июня в девять часов утра к нему прибыл подполковник Горемыкин с ордером на арест. Радищев был передан в руки начальнику тайной ее императорского величества канцелярии Шешковскому, прозванному в обществе за жестокость «кнутобойцем». Прямо из дома Радищева увезли в Петропавловскую крепость.
А тем временем Екатерина продолжала читать и перечитывать ненавистное «Путешествие», испещряя его своими заметками и вопросами. Следствие по делу о сочинителе «пагубной книги» она вела сама. Чем дальше читала она сочинение Радищева, тем яснее становилось, что перед ней неслыханная по своей дерзости, беспримерная не только в России, но и во всем свете книга, в которой проповедовалась и воспевалась крестьянская революция. Подавив пугачевское возмущение, Екатерина надеялась, что навсегда покончила с «бунтовской заразой». Вспыхнувшая затем война в Америке, начавшаяся революция во Франции не очень волновали ее,—она была убеждена, что в России такого быть не может. И вдруг нашелся человек, который в столице ее империи печатает и продает книгу, призывая народ к мятежу. С раздражением Екатерина отмечала, что «автор с редкою смелостию» говорит о царях и грозит им плахой. В конце книги она отметила самую главную мысль: «Свободы не от советов великих отчинников ожидать должно, но от самой тяжести порабощения». С содроганием вспомнив недавнее восстание Пугачева, приписала к этому месту от себя: «То есть надежду полагает на бунт от мужиков».
Все эти пометки и замечания Екатерины послужили основанием сначала для вопросов арестованному Радищеву, а затем для приговора. Следствие шло две недели. От Радищева добивались сведений о сообщниках, подозревая его в организации заговора. Задавались вопросы, почему написал книгу, зачем грозил царю, отчего надежду полагал на бунт от мужиков. Радищев избрал тактику – категорически отрицать наличие сообщников, уверять, что действовал одиноко, • никого не выдавать и всю вину взять на себя.
Иначе обстояло дело с замечаниями Екатерины, на которые должно было отвечать. Отрекаться в авторстве было бессмысленно. Поэтому, отвечая на задаваемые вопросы, он действовал осторожно, тонко, умно, а подчас и иронически, обнаруживая полное присутствие духа. Он ц здесь, в заточении, в крепости, вел борьбу, борьбу за свою жизнь, не желая дешево отдать ее ненавистной власти.
На вопрос, зачем писал книгу, Радищев, притворившись простачком, заявлял: «Хотел прослыть писателем». Екатерина не заметила тонкости этого тактического хода; ведь «Путешествие» было издано анонимно. Спрашивали – откуда взялась мысль сочинить столь возмутительную книгу. Радищев иронически отвечал: решил подражать французскому писателю Рейна л ю и англичанину Стерну. Зло этого ответа таилось в намеке,—ведь это Екатерина популяризировала французских просветителей, это она «перекраивала на свой салтык» Стерна. Ну вот, издевался Радищев, мое преступление и состоит всего лишь в том, что последовал высочайшему примеру. Но когда разгневанные палачи припирали Радищева к стенке и, цитируя его революционные призывы, спрашивали: «Что
разумеете под словами: «свободы ожидать должно от
тяжести порабощения», отвечал: писал потому, что «сожалел о участи крестьянского жребия». А в общем теперь понимает, что поступал дерзновенно. На вопрос, в каком смысле и кем сочинена ода «Вольность», «явно бунтовская, где царям грозится плахою», твердо отвечал: сочинил он, а далее, обходя вопрос о содержании ее (нельзя же было, в самом деле, говорить о том, что хотел возвести Екатерину на плаху), писал: «Теперь чувствую, что ошибался». И так поступал он до конца. На вопросы, от которых было не уйти, он отвечал: теперь понимаю, что ошибался.
Не добившись признания и не сломив духа мятежника, Екатерина повелела судить его, указав, что ожидает от судей «справедливого приговора»,—смертной казни. Угодливые чиновники из Уголовной палаты поспешили исполнить высочайшее повеление. Екатерина решила наказать «возмутителя» со всей жестокостью, чтобы это было примером для других.
Радищев ожидал приговора. Потребовав бумаги, он написал завещание—последнее наставление «Возлюбленным своим», начав его роковым словом «Соверцщлося!»
И опять беспримерная твердость духа в каждом слове этого «Завещания». Он дает наставления, последние распоряжения по дому, последние указания о воспитании детей, заботясь об их судьбе. Но это было «Завещание» деловое. Ему захотелось в последний раз «побеседовать с детьми», открыть «им излучины своего сердца», объяснить свою жизнь, наставить в твердости, передать правила жизни. Сидя в крепости, он начал писать повесть своей жизни, внешне прикрыв ее автобиографизм формальным использованием жития святого Филарета Милостивого.
26 июля 1790 года Сенат утвердил приговор Уголовной палаты. Дело Радищева было передано Екатерине на утверждение. Императрица, торопившая расправу над бунтовщиком, задержала подписание приговора на две недели. Екатерина внимательно присматривалась к тому, что происходило в обществе. Время было грозное—во Франции бушевала революция, в России было неспокойно в связи с неудачной войной со Швецией, оппозиционные круги столичного дворянства довольно открыто высказывали свое возмущение жестоким приговором Радищеву. За книгу, к тому же разрешенную цензурой,—смертная казнь. Это было неслыханно! Не сочувствуя идее автора, они не одобряли решения деспотического монарха. Екатерина, решив не раздражать общественность и в то же время пожелав проявить демонстративный либерализм, издает 4 сентября именной указ Сенату о замене Радищеву смертной казни ссылкой в Илимск. Расчет был прост: помилованный Радищев, сосланный в далекую Сибирь, «на безысходное десятилетнее пребывание», вряд ли остался бы живым. Закованный в кандалы, одетый «в гнусную нагольную шубу», Радищев отправился по этапу. Предстояло пройти 6788 верст.
Столицу Радищев покидал с чувством исполненного долга. Сама императрица в специальном указе так характеризовала деятельность «возмутителя»: «Недавно издана здесь книга под названием «Путешествие из Петербурга в Москву», наполненная самыми вредными умствованиями, разрушающими покой общественный, умаляющими должное ко властям уважение, стремящимися к тому, чтоб произвесть в народе негодование противу начальников и начальства, наконец, оскорбительными выражениями противу сана и власти царской». Это была оценка самодержавия. На пути в Илимск Радищев, исполненный твердости духа, сочинил стихи, которые должны были дать знать его друзьям, каким вышел он из тягчайшего испытания.
Ты хочешь знать: кто я? что я? куда я еду?—
Я тот же, что и был и буду весь мой век:
Не скот, не дерево, не раб, но человек!
Дорогу проложить, где не бывало следу Для борзых смельчаков и в прозе и в стихах, Чувствительным сердцам и истине я в страх В осгрог Илимский еду.
Так осуществил он обещание, данное Ушакову: имея «правила», он бестрепетно ожидал смерти, а теперь, «твердый в мыслях», ехал в ссылку, исполненный желания продолжать свою деятельность. Короткие стихи раскрывали исторический смысл и практическую необходимость его подвига во имя вольности народа.
XII
Замысел Екатерины—дальностию и тяжестию пути в Сибирь убить Радищева—не осуществился. И здесь большую роль сыграла помощь влиятельного вельможи, графа А. Воронцова, глубоко уважавшего и ценившего Радищева. Он добился от Екатерины приказа снять кандалы с Радищева, а затем на всем протяжении пути и во время пребывания в Илимске много и сердечно помогал Радищеву. Благодаря этому жизнь в ссылке оказалась сносной.
В понимании Радищева жить—значило действовать, работать. Вне деятельности он не мог существовать. Живя в ссылке, он ищет и находит способы и пути многообразной деятельности. Прежде всего, связанный с Воронцовым, благодарный за его помощь, он выполняет для него целый ряд важнейших государственных поручений. Он изучает Сибирь, ее промыслы, экономику, быт крестьян, сочиняет для Воронцова два специальных трактата «Сокращенное повествование о приобретении Сибири» и «Письмо о китайском торге». В письмах Воронцову он сообщает множество ценных наблюдений над хозяйственным укладом сибирских крестьян, дает советы по поводу административного управления Сибирью, делится своими намерениями об экспедиции по Северному морскому пути, вдоль берегов Сибири, веруя, что этот путь принесет возрождение краю.
Но этим Радищев не мог удовлетвориться. Как в Петербурге служба была не главным занятием, так и здесь выполнение поручений Воронцова обозначало лишь исполнение долга. Решающее значение имела для Радищева общественная деятельность. И, пребывая в Илимске, насильно изъятый из русского общества, подвергшийся преследованиям и гонениям, он ищет средств для возвращения к прерванной деятельности. Никогда не смирявшийся, он и здесь начинает единоборство с «самовластительным злодеем». В судебном определении Сената специально были приняты меры для пресечения его литературной работы: «Заклепав в кандалы,—писалось там,– сослать в каторжную работу, но не в Кронштадт, куда... преступников отсылать повелено, а в Нерчинск, для того, дабы таковым его удалением отъять у него способ к подобным сему предприятиям». В ответ на это Радищев немедленно, через 12 дней по приезде в Илимск, садится за новую большую свою, не только философскую, но и общественно-политическую работу, которую назвал: «О человеке, о его смертности и бессмертии».
В условиях полной изоляции Радищев вновь возвращается к существенным вопросам русской общественной мысли. Это было продолжением прежней деятельности. Как «Путешествие» помогало передовым деятелям русской культуры изживать просветительские иллюзии, так сочинение «О человеке, о его смертности и бессмертии» подводило итог философским спорам 80-х годов, помогало формированию новой морали, открывавшей перед человеком путь общественно-активной гражданской деятельности на благо угнетенного народа.
Существенным вопросом философии XVIII столетия был вопрос о предпосылках нравственности. Одним мораль представлялась абсолютной, врожденной. Для других она была основана на интересе. В России в 70-х годах одним из первых стал разрабатывать проблемы морали Новиков, выступая с теорией общей пользы. В то же время он считал необходимым дополнить свою этическую, концепцию учением о бессмертии души. О бессмертии Новиков многократно говорит в своих статьях, о бессмертии говорится во многих художественных произведениях его журнала «Утренний свет».
В своем «Отчете публике» «Чего ради предпринял явиться перед ней», что составило главное содержание «Утреннего света», Новиков так охарактеризовал главные «материи» журнала: «Представление великой пользы, происходящей от нравоучения и чувствования бессмертия души?»
Чем вызван этот интерес Новикова к бессмертию души? Больше того: почему, начиная с «Утреннего света», эта проблема станет в центре идейно-философской жизни русского общества в 80-е годы? Наконец, отчего Радищев, начиная с «Дневника одной недели», будет беспрестанно возвращаться к этому вопросу, а сразу же по прибытии в Илимскую ссылку приступит к написанию специального трактата на данную тему?
Ответ на этот вопрос следует искать в особенностях русского общественного движения этого периода. Перед русским просвещением ходом истории была поставлена задача создания такой нравственности, которая помогала бы практическому воспитанию русских людей в духе ненависти к деспотизму, самодержавству, рабовладению, помещичьему своекорыстию и социальному паразитизму. Такова была общая задача, но решалась она у различных деятелей просвещения с различных политических позиций. Новиков воспитывал «человеков», патриотов, людей, одушевленных идеей гражданских добродетелей, бескорыстного служения своим согражданам. Радищев воспитывал революционеров. В этом смысл «Жития Ушакова», такова идейная основа «Путешествия из Петербурга в Москву», об этом он прямо и открыто писал в своем посвящении Кутузову. Таким образом, если различны были цели воспитания, то общей у русского просвещения была задача создания такой этической теории, которая, идейно воспитывая человека, научала бы вмешиваться в жизнь, видеть истинное счастье в общеполезной деятельности, «взирать прямо на окружающие предметы» и в конечном счете повышала бы его общественную активность.
Создание новой этики означало объявление войны господствующей религиозно-христианской морали. В основе религии, как известно, лежат два догмата—признание бытия бога-миротворителя и бессмертия души. Но эта религиозная мораль, с помощью церкви, была подчинена интересам господствующего дворянского класса и монар-
Хии. При этом именно догмат о бессмертии души оказывался могучим оружием в руках власти, при помощи которого народы держались в повиновении. Он духовно разоружал народ, одурачивая, приучал к покорности, к пренебрежению интересами земной жизни.
Идеология просвещения, борясь с феодально-религиозными догматами и системами, державшими в рабстве миллионы людей, повела штурм реакционной доктрины бессмертия души, как загробной жизни. Вот почему проблема бессмертия разрабатывалась и Гольбахом и Гельвецием, Руссо и Вольтером. При этом важно помнить, что, штурмуя и ниспровергая религиозную проповедь бессмертия души, французские просветители стремились идею о бессмертии переосмыслить и в новом виде внести в свое учение о нравственности. Старая идея бессмертия наполнялась у них новым содержанием: вместо покорности на земле во имя блаженства в загробной жизни– активная, деятельная, направленная на общее благо жизнь на земле, составляющая счастье человека и обеспечивающая ему бессмертие в потомстве. Итак, бессмертие, как побудительный стимул нравственности, осталось, но появилось новое определение смысла бессмертия,—не загробная жизнь, а память потомства.
В России с развернутым учением о бессмертии, как двигателе новой нравственности, первым выступил Новиков. Это учение было направлено против официальной религиозной доктрины—в этом глубоко общественный характер разработки проблемы бессмертия, нашедшей свое место на страницах «Утреннего света» и «Московского издания».
Для Новикова учение о бессмертии органически связано с его нравоучением. Существо же нравоучения составляла идея величия человека, идея внесословной его ценности. Поэтому «уверения о великости нашего существа и о великости того, что определено для нас в будущей жизни, естественно побуждает нас ко простиранию проницания нашего в будущее и заставляет нас пещися о том, что после нас последует».
«Чувствование, что душа наша бессмертна,—писал Новиков,—есть надежнейшее правило всех наших благородных, великих и человеческому обществу полезных деяний, без которого правила все человеческие дела были бы малы, низки и подлы. Сие уверение истребляет порок, возвышает и витает добродетель в самых опаснейших обстоятельствах».
В христианстве и в религии вообще бессмертие души понимается как загробное существование. Новиков, деист по своим воззрениям, признающий идею бога-творца, тщательно обходит вопрос о загробном существовании, когда говорит о бессмертии души. Нигде в его сочинениях мы не встретим этого мотива*. Лишь иногда он позволяет себе упомянуть крайне неопределенный термин «небесное блаженство», зато совершенно отчетливо и настойчиво говорит о бессмертии не души, а имени, бессмертии в потомстве. «Сие уверение (бессмертие.—Г. М.) производит то, что мы стараемся делать вечным имя наше и память и что мы не равнодушны во мнении об нас позднейшего потомства».