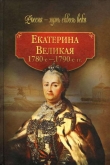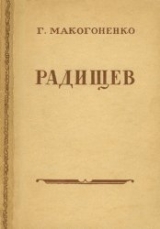
Текст книги "Радищев"
Автор книги: Г. Макогоненко
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 14 страниц)
Как видим, значение сатирической деятельности Новикова определяется прежде всего тем, что на страницах его журнала «Трутень» запечатлелась исторической важности борьба оппозиционной русской литературы с Екатериной, борьба, закончившаяся тем, что самодержица была вынуждена ретироваться, борьба, обеспечившая возможность дальнейшего развития не зависимой от правительства, выражающей коренные нужды народа политической и социальной мысли.
Что же происходило в русской колонии студентов?
По свидетельству Радищева, основные знания он приобрел в домашних самостоятельных занятиях под руководством Ушакова. Ушаков был для Радищева «вождем юности», «учителем по крайней мере в твердости».
Федор Ушаков считал, что ограничиваться науками, преподававшимися в университете, нельзя. Изучая философию, он стремился «иметь понятие и о других частях учености». Главное же, что волновало его, это «наиважнейшие предметы, до человека касающиеся в гражданском состоянии». Для приобретения же «разных знаний он надежнейшим всегда почитал прилежное чтение книг». Так началось чтение сочинений по философии, праву, истории, социологии, политике. Читались книги древних авторов и новых философов, ученых мужей и современных политиков. Так началось знакомство с философией, политикой, литературой французского просвещения, с Руссо и Гельвецием, Мабли и Дидро. Чтение этих книг проходило под руководством Ушакова. Именно в этих чтениях перед Радищевым открылись в Ушакове ясный самобытный ум мыслителя и сочинителя.
. Талантливость Ушакова сказалась прежде всего в отказе от «страдательного» состояния своего разума.
Радищев так отмечает эту замечательную черту: «Вращался всечасно между разными предметами разумения человеческого, невозможно было, чтобы в учении разум Федора Васильевича пребыл всегда, так сказать, страдательным, упражнялся только в исследовании мнений чуждых». '
Ушаков, как подлинно самобытный мыслитель, смело устремился к нроложению новых путей, «вдаваясь в области неизвестные». «В сем-то и состоит различие обыкновенных умов от изящных,—заявляет Радищев.—Одни приемлют все, что до них доходит, и трудятся над чуждым изданием, другие, укрепив природные силы своя учением, устраняются от проложенных стезей и вдаются в неизвестные и непроложенные». Деятельность на благо своего народа, деятельность практическая, исполненная твердости и непоколебимости, выводящая человека из узкого мира лишь своих частных интересов,—вот основное качество и свойство характера Ушакова—мыслителя и гражданина. «Деятельность,—говорит Радищев,—есть знаменующая их (людей, подобно Ушакову.—Г. М.) отличность».
Под руководством Ушакова и начал «учиться мыслить» Радищев. Он читал и Руссо, и Мабли, и Гельвеция, «укреплял природные силы свои учением», учился мыслить, то есть, «соображая их мнения со мнениями своего учителя», старался «отыскать истину в среде различия оных». Огромное значение имели для Радищева и собственные сочинения Ушакова—его «Размышления»: «О праве наказания и о смертной казни», «О любви», «Письмы о первой книге гельвециева сочинения «О разуме».
Последняя книга есть конкретный пример сознательного, критического отношения к изучаемому материалу. Сочинения Гельвеция «О разуме» Ушаков получил от проезжавшего Лейпциг русского офицера Ф.,—видимо, Федора Орлова, брата екатерининского фаворита. Характерно именно это упоминание: русский вельможа, следуя моде русского двора, читал книги французских мыслителей, представляя собой разновидность новомодных «русских вольтерьянцев». По свидетельству Радищева, «Ф. толикое пристрастие имел к сему сочинению, что почитал его выше всех других». И тут же, не скрывая своей иронии, добавляет: «Да других, может быть, и не знал». Так вот, получив эту книгу, Ушаков и Радищев
принялись ее читать «со вниманием», «и в оной мыслить научилися». Мы уже знаем, что значит, по Радищеву, «учиться мыслить» – сопоставлять мнение автора с собственным и в различии отыскивать истину. Примером такого учения и являются ушаковские «Иисьмы». Это сочинение– результат самостоятельного и критического подхода к многим вопросам, затронутым Гельвецием. Видимо, «Письмы» эти предполагалось опубликовать, и, таким образом, они должны были стать известны Гельвецию; во всяком случае Радищев сообщает, что Гельвеций знал об' изучении русскими студентами книги «О разуме»: «Гельвеций,
конечно, равнодушно не принял, узнав, что целое общество юношей в его сочинении мыслить училося». Об этом Гельвецию сообщил Гримм, французский писатель, друг Гельвеция и Дидро, во время своего пребывания в Лейпциге познакомившийся с русскими студентами.
В других сочинениях Ушакова также критически пересматриваются некоторые в высшей степени распространенные теории французских мыслителей. Ушаков прямо заявляет: исполнение сего предприятия «требует напряжения разума и довольного времени; да и тем паче, что не всегда я с автором одного мнения». Это заявление Ушакова знаменательно тем, что оно почти дословно воспроизводит приводившуюся выше формулу Козельского из его «Философических предложений».
Чаще всего Ушаков оспаривал Руссо. Он решительно возражает против центрального тезиса этого философа – человек родится добрым, но условия общественной жизни делают его злым. В ответ на это Ушаков заявляет: «Человек рождается ни добр, ни зол». Отсюда—полное расхождение в теории воспитания человека. Руссо считает, что человека надо воспитывать в изоляции от общества, давая возможность развиться всем от природы заложенным качествам, воспитывать именно человека, а не гражданина. Ушаков, высказываясь против этого, заявляет: «Обстоятельства делают человека». Он требует воспитания не индивидуалистов, которых он называет метко «един-ственниками», а человека-гражданина, который «величайшее услаждение находит в том, чтоб быть отечеству полезным и быть известным свету». Так, пункт за пунктом Ушаков в своих сочинениях «устремлялся от проложенных стезей» и «вдавался в неизведанньГе и непроложенные», учил мыслить своих товарищей и первого своего друга
Радищева прежде всего. Именно поэтому Радищев называет его «вождем своей юности»; исполненный благодарности, открыто называет его своим учителем, печатает и делает достоянием всего общества его сочинения.
Объединяло русскую колонию в Лейпциге с русскими просветителями и тяготение к вопросам русской политической жизни. Козельский активно отстаивает за собою право судить о политических вопросах. «Все говорят, что рассуждать о политических происхождениях одних лишь министров дело, а другие-де люди не имеют к тому способности»,—писал он. Опровергая это ложное утверждение, Козельский выпустил книгу, в которой "«как раз трактует о политике, касающейся до начальствующих особ». Политикой занимались и в русской колонии и когда обсуждали деспотическое правление Бокума, и когда вырабатывали свое понимание политической свободы, и когда, под руководством Ушакова, разрабатывали вопросы о положении человека в гражданском обществе.
Так протекала жизнь Радищева в Лейпциге—в напряженной идейной работе, в активной деятельной подготовке к возвращению на родину, связь с которой год от года крепла и росла. Но накануне окончания срока учения Радищеву суждено было пережить огромное горе: умер его друг и учитель Федор Ушаков, крупный русский мыслитель и философ, умер в самом начале своего поприща, в возрасте двадцати трех лет. Смерть Ушакова потрясла Радищева. Но вместе с тем послужила ему уроком, оказалась той последней каплей «деятельного нравоучения», которым отличалась вся его «лейпцигская» жизнь. Смерть друга не только опечалила Радищева, не только «уязвила сердце», но и многое открыла, доселе неизвестного. Ушаков наставлял Радищева в «твердости». Мужественно умирая, он показал истинный смысл и значение этой твердости. Заболев тяжелой, неизлечимой болезнью, приговоренный к смерти, он ждал ее прихода спокойно. Собравшиеся у постели умирающего его друзья видели, как слова и дела у Ушакова были едины. Умирая, он дал последние наставления, оставил завещание лучшему своему другу и ученику—Радищеву. Незадолго до кончины Ушаков вручил ему все свои бумаги: «Употреби их, говорил он мне,—сообщает Радищев,—как тебе захочется. Прости теперь в последний раз; помни, что я тебя любил, помни, что нужно в жизни иметь правила, дабы быть блаженным и что должно быть тверду в мыслях, дабы умирать бестрепетно».
Радищев лишился друга, но завещание его «неизгладимою чертою ознаменовалося на памяти». Ушаков воспитал из Радищева человека «твердых мыслей», имеющего «правила» исполнения должности гражданина, мыслителя, прокладывающего новые стези в важнейших вопросах общественной жизни, отважного человека, понявшего, что в основании личного поведения лежат убеждения о необходимости утверждения в России вольности, что только они делают человека способным «восстать на губи-тельство и всесилие».
Именно таким в сентябре 1771 года Радищев вместе с двумя другими своими товарищами—Кутузовым и Руба-новским—вернулся на родину. Возвращение в Россию было вместе радостным и суровым. Патриотическое чувство, желание деятельности вызывало «нетерпение видеть себя на месте рождения нашего». Увиденная граница, «Россию от Курляндии отделяющая», вызвала восторг. Радищев указывает, что он и его спутники были готовы «тогда жертвовать и жизнью для пользы отечества».
III
Екатерининская Россия встретила их неласково. Указом от 26 декабря 1768 года перепуганная активностью демократических депутатов императрица распустила Комиссию. Сатирические журналы, начавшие выходить в 1769 году, были закрыты. Екатерина становилась на путь открытой борьбы с русскими деятелями, не желавшими верить творимой ею легенде, что в России наступил «златый век», что царствует там «просвещенный монарх». Очень скоро выяснилось, что прибывшие юристы никому, собственно говоря, не нужны. Они оказались предоставленными сами себе. Лишенный каких-лйбо средств к существованию, Радищев должен был искать службу. Ничего подходящего не было. Пришлось брать то, что попалось под руку: Радищев вместе со своим товарищем Алексеем Кутузовым поступает в Сенат на должность протоколиста. Предстояло жить среди чиновников, которые, по словам Радищева, «не токмо не равны тебе по знаниям, но и душевными
качествами иногда ниже скотов почесться могут; гнушаться их будешь, но ежедневно с ними обращаться должен». Но приходилось не только жить вместе с этими людьми, но и подчиняться им, выполнять их приказания. «Окрест себя,—свидетельствует Радищев,—увидишь
нередко согбенные разумы и души, и самую мерзость. Возненавиден будешь ими, поженут тебя, да оставишь ристание им свободно. А если тогда начальник твой будет таковых же качеств, как и раболепствующий ему, берегись: гибель твоя неизбежна».
Так начиналась жизнь на родине, в бюрократическом самодержавном государстве, где «управляющие умами и волею народов властители», под эгидой екатерининского самодержавия, «соделовывали» все, чтобы в каждом человеке «утушить заквас, воздымающий сердце юности», чтобы заставить человека смириться и покорно нести ярмо тирании и рабства. Но Радищев знал, что «единожды смирившись, человек навеки соделывается калекою». Опыт жизни под началом Бокума приходил на помощь. Только в протесте против угнетения и неправды, только в сопротивлении насилию человек может сохранить себя, свое достоинство, утвердить свою личность, обрести «блаженство». Суровость и жестокость встречи с самодержавной екатерининской Россией поэтому не слишком огорчили Радищева, а скорее радовали. Он твердо знал, что эти условия, созданные мучителями, одних смиряли, «причинив немалую печаль», но зато «во сте других родили отчаяние и исступление».
С первого же дня пребывания в столице Российской империи в сознании Радищева растет и зреет вражда к царскому деспотизму, к крепостническому рабству. Зная, что в этом своем чувстве он не одинок, зная, что десятки людей «твердых мыслей» уже до него начали борьбу с самодержавием, он, не ограничиваясь службой в Сенате, стал искать связей с этими людьми, желая встать в число «борзых смельчаков». Так, естественно, путь Радищева привел к Новикову, и он легко вошел в круг русских деятелей, закладывавших основы русского просвещения в борьбе против политических теорий энциклопедистов и одновременно—против политической практики русского самодержавия.
Уже там, в Лейпциге, Радищев стал, по примеру Козельского, подходить к огромному идейному богат*
ству корифеев просвещения критически и самостоятельно. Эта самостоятельность определилась прежде всего в том, что он сумел оценить в просвещении его самые сильные, а не слабые стороны—его философию, а не политику энциклопедистов. Мы знаем, что в Лейпциге его привлекала атеистическая философия, материализм Гельвеция, демократизм и общественные теории Руссо, моральные принципы и политические взгляды не Монтескье, а Мабли.
Естественно, что великий собиратель литературных сил Николай Новиков был именно тем человеком, который привлек Радищева к работе созданного им «Общества, старающегося о напечатании книг». Первое выступление Радищева в России—это перевод книги Мабли «Размышление о греческой истории», изданный Новиковым в 1773 г.
Перевод книги Мабли, несомненно, был обдуманным шагом со стороны Радищева. Он был сделан с учетом начатой Козельским и Новиковым борьбы против распространения легенды о просвещенном характере русского самодержавства. Как мы уже видели, Екатерина популяризировала в России социально-политическое учение энциклопедистов (Наказ, написанный по книге Монтескье, переводы политических статей из Энциклопедии, издание «Велизария» Мармонтеля и т. д.). Как Козельский в своих «Философических предложениях» этим авторам противопоставляет Гельвеция и Руссо, так и Радищев, продолжая эту линию, политическим концепциям энциклопедистов противопоставляет Мабли и свои собственные политические взгляды. Не случайно его выбор пал именно на-Мабли—наиболее активного противника доктрины просвещенного абсолютизма. Но этим Радищев не ограничился; он снабжает сочинение Мабли своими примечаниями, усиливающими его направленность против энциклопедистов.
Самостоятельное значение имеет примечание к слову «самодержавство» (так Радищев перевел употребленный Мабли термин «деспотизм»). Блестяще разбиравшийся в вопросах теории, Радищев, безусловно, делал это отступление с расчетом. Согласно учению энциклопедистов, деспотия, монархия, самодержавство—разные политические системы. Радищев же позволяет себе поставить знак равенства между крайней формой монархии—деспотией и самодержавством. Но это была только часть дела. Главное состояло в том, чтобы дать русскому обществу исчерпывающее определение политической сущности русского государственного управления—самодер-жавства. Этим евоим примечанием Радищев сразу активно включался в начатую русскими просветителями политическую борьбу.
Острота политического выступления Радищева объясняется прежде всего тем, что он открыто напал на книгу, изданную по велению Екатерины II, книгу, содержащую столь важные и нужные ей основы политических теорий энциклопедистов. Книга эта называлась «О государственном правлении и разных родах оного из Энциклопедии)), принадлежала она переводчику Ивану Туман-скому. Вышла она в конце 1770 года. Совершенно очевидно, что появившийся в 1771 году в Петербурге Радищев знал ее и, когда писал свое примечание к слову «самодер-жавство», имел в виду определение этого понятия, принадлежащее разносчику политического учения энциклопедистов, секретарю «Энциклопедии», де-Жокурту. Чтобы убедиться в этом, стоит прочесть, что же писала но этому вопросу «Энциклопедия»:
«Самодержавство (правление). Можно сказать с Пуфен-дорфом, что самодержавство есть право повелевать решительно в гражданском обществе, которое право члены общества поручили одной или многим особам для сдержа-ния в оном внутреннего порядка и внешнего защищения; а вообще, для приобретения под таким покровительством истинного благоденствия и надежного пользования своей вольностью. Сказал я, во-первых, что самодержавство есть право повелевать решительно в обществе, дабы показать, что существо самодержавства состоит наипаче в двух вещах: первое, во праве повелевать членами общества, строго управлять их деяниями со властию или силою принудительною; второе, что сие право должно иметь такую силу, чтобы все честные люди за должность почитали покоряться оной безо всякого сопротивления; впрочем, если бы таковая власть не была бы верховная, не могла бы содержать в обществе порядка и безопасности, яко намерения для которого учреждена оная».
Нетрудно заметить, что такое определение самодержавия было крайне выгодно, удобно и политически необходимо Екатерине. Поэтому она и пропагандировала это учение. Потому и повелела Тумацскому издать собрание только политических статей из «Энциклопедии», ибо это прикрывало ее деспотический режим авторитетом европейских философов. Так сомкнулись на поприще определения существа русского самодержавства теория и практика французского просвещения. В самом деле в крамольной «Энциклопедии» кавалер де-Жокурт пишет: «Самодержавство и создано для истинного благоденствия и надежного пользования своею вольностью». Екатерина уверяет Вольтера, Дидро и Гримма, что в ее стране– истинная вольность, что под ее скипетром подданные блаженствуют. И Гримм заявляет, что цель самодержавного правления Екатерины—установление вольности. И Дидро, только по приезде в Петербург (в год выхода перевода Радищева), только в общении с Екатериной, как это он сам утверждает, «обрел в себе душу свободного человека в так называемой земле варваров». «Если государь добродетельный, то правление его есть век златый»,—утверждает «Энциклопедия», переводимая по приказу Екатерины. И Дидро, и Вольтер, и Даламбер, и Гримм свидетельствовали «перед лицом всего света»: Екатерина добродетельна, справедлива, мудра, больше того—она «республиканка с душой Брута».
Вся эта вывезенная из Франции идеология усиленно популяризировалась Екатериной в России. Она полагала,– все из того же, свойственного многим прибывшим в Россию немцам, неверия в Россию и ее народ, неуважения к стране, приютившей их,—что не найдется в России людей, способных самостоятельно разобраться в идейном богатстве французского просвещения, что можно легко ввести в заблуждение и заставить склониться и замолчать перед авторитетом общепризнанных духовных вождей Европы. Но в России нашлись люди, восставшие против этой фальсификации. Это были люди, воспитанные в России под руководством и воздействием идей первого поколения русских просветителей, и Ломоносова прежде всего: Яков Козельский, Денис Фонвизин, Николай Новиков и Александр Радищев.
Именно в этом историческое значение и смысл первого общественного радищевского выступления. Он решительнее, чем это делали его предшественники, отметает теорию энциклопедистов и дает резкую характеристику политической сущности режима Екатерины, Рот что писал Радищев;
«Самодержавство есть наипротивнейшее человеческому естеству состояние. Мы не токмо не можем дать над собою неограниченной власти; но ниже закон, извет общия воли, не имеет другого права наказывать преступников, опричь права собственный сохранности. Если мы живем под властию законов, то сие не для того, что мы оное делать долженствуем не отменно, но для того, что мы находим в оном выгоды. Если мы уделим закону часть наших прав и нашея природные власти, то дабы оное употребляемо было в нашу пользу; о сем мы делаем с обществом безмолвный договор. Если он нарушен, то и мы освобождаемся от нашея обязанности. Неправосудне государя дает народу, его судии, то же и более над ним право, какое ему дает закон над преступниками. Государь есть первый гражданин народного общества».
Так по приезде из Лейпцига Радищев в первом же своем общественном выступлении показал, как овладел он идейным наследством «великих мужей», показал, что он понял их, исходя из социально-политических условий русской жизни и потребностей русского общественного движения. Начавшаяся в конце 60-х и начале 70-х годов деятельность русских просветителей в 80-е годы примет качественно новый характер. Это будет определено великим событием русской жизни—крестьянской войной против дворянско-самодержавного режима, возглавленной Пугачевым. До восстания Пугачева эта деятельность в большей своей части будет носить негативный характер: разрушались «алтари», возводимые екатерининскому само-державству. После восстания, продемонстрировавшего революционные силы народа, русское просвещение окажется способным теоретически обобщить его опыт и построить самое передовое в мире самостоятельное политическое мировоззрение XVIII столетия, в основе которого будет лежать радищевская теория народной революции.
IV
Петербургская жизнь Радищева после возвращения из Лейпцига оказалась своеобразным русским университетом, довершившим формирование его мировоззрения. Позднее Радщцеэ цисал: «Природа, люди и вещи суть воспитатели человека». Политические события, практика екатерининского государства, все то богатство живой действительности, людей, обстоятельств, которые, по мысли Радищева, одни воспитывают и образовывают человека, обрушились на молодого свободолюбца. На место юношеского пыла, абстрактной жажды служения отечеству приходило выстраданное убеждение в необходимости политической борьбы с режимом деспотизма и рабства. Суждения и политические теории, под влиянием сотен и тысяч реальных русских дел, фактов и событий, приобретали необходимую «твердость», точность, конкретность. Первый этап этой русской школы падает на 1771—1773 гг. Восстание крепостных крестьян, возглавленное Пугачевым, завершит радищевское воспитание в русском университете.
В 1768 году Комиссия по составлению нового Уложения оказалась не просто распущенной на каникулы, в связи с турецкой войной, как об этом было известно русским студентам в Лейпциге, но разогнана навсегда. Наказ императрицы, успешно пропагандировавшийся в Европе, в России был запрещен. Упоминать о нем или ссылаться на него было нельзя. Поднятый в Комиссии крестьянский вопрос не только не получил никакого разрешения, но волею Екатерины крепостное право усиливалось, количество крепостных увеличивалось, крепостническая эксплоатация неуклонно возрастала. Екатерина, не стесняясь, прямо заявляла в указах о своем намерении силой оружия удерживать существующее положение. Посылая воинские команды на подавление крестьянских бунтов, возникавших в разных наместничествах России, она снабжала их таким приказом: «Стращать крестьян не токмо императорским гневом, но жестокою казнию, а напоследок огнем и мечом и всем тем, что только от вооруженной руки произойти может». Все это делалось потому, что, —разъясняла императрица, —«намерены мы помещиков при их имениях и владениях нерушимо сохранять, а крестьян в должном их повиновении содержать».
Помещики, чувствуя за собой силу самодержавия, не только закабаляли крестьян, не только превращали их в рабов, в «тяглый скот», но и мучили, безнаказанно издевались над ними. Бытовым явлением крепостной России тех лет являлись беспрестанные истязания крестьян, истязания, в сотнях и тысячах случаев оканчивавшиеся смертью несчастных жертв барского гнева. Только из ряда вон выходящие случаи помещичьих преступлений становились предметом внимания правительства. В Сенат поступали следственные дела на них. Эти-то следственные дела, по должности протоколиста, Радищев вместе с другом своим Кутузовым читал, обрабатывал, составлял экстракты для заседений сенаторов. День за днем переписывал Радищев жалобы и челобитные крепостных, знакомился с делами следствия, читал с содроганием «чувствительного сердца» эту живую, писанную слезами и кровью историю русского крестьянина, и везде находил великие бедствия, безысходное горе, несчастье обездоленного, «мертвого в законе», ничем не защищенного от произвола и самодурства, русского хлебопашца, «питателя» России. С горечью и страстью составлял он экстракты, выписывая ясно и точно преступления помещиков, горя желанием справедливой мести за убитого и замученного мужика, жаждая всем сердцем справедливого наказания дворянским владетелям. И чем больше надеялся Радищев на справедливость наказания, на торжество возмездия, тем сильнее были печаль и ярость, когда читал приговоры этим преступникам. Сенат твердо и нерушимо стоял на стороне «своей братии»—дворян. Он никогда не наказывал, а лишь делал вид осуществления справедливого суда. Помещица Морева убила свою крепостную. Сенат сослал ее в монастырь на один год. Дворяне Савины убили крестьянина и были присуждены к церковному покаянию. Помещицу Кашинцеву, которая бесчеловечными истязаниями довела служанку свою до самоубийства, сослали в монастырь на покаяние. И так было всегда. За явное, точно установленное убийство человека преступники, только потому, что были дворянами, приговаривались к покаянию. Механика работы Сената, его приговоры, его циничный классовый суд, его покровительство помещикам—все это было отличной школой для Радищева. Он не .только увидел своими глазами бедствие и бесправие русских крепостных, но и понял глубокую, органическую связь помещика с царем, связь, опирающуюся на власть. Так для Радищева самодержавие и рабство сплетались воедино, вызывая единую ярую ненависть мстителя.
В 1773 году Радищев переводится на службу по специальности в штаб Петербургского главнокомандующего
графа Брюса в качестве военного прокурора (обер-аудитора). Здесь его и застало величайшее событие русской истории XVIII века: крестьянская война под руководством Пугачева. Событие это явилось рубежом не только русской истории. Оно служило сигналом—начиналась великая битва против феодализма. Начавшие ее русские крепостные продемонстрировали перед всем миром, что антинародное помещичье-крепостническое государство должно быть уничтожено и что силой, призванной осуществить это, являются сами угнетенные массы, что единственным путем достижения свободы является вооруженная борьба, восстание. Окончившись трагическим разгромом, эта крестьянская война вместе с тем показала, как велика творческая мощь народа, как неисчерпаемы и богаты духовные силы его, как непреклонна его ненависть к своим угнетателям, как «зиждительно» свободолюбие, одухотворяющее всю его жизнь.
. Так случилось, что в год начала восстания в Петербурге одновременно были глава французского просвещения Дидро и молодой просветитель Радищев. Жизнь как бы испытывала этих людей. Как отнесутся они к этому событию, как поймут его, что извлекут из него?
Дидро, верный своей идее просвещенного абсолютизма, прибыл в Россию, чтобы «осчастливить» русский народ своими советами, долженствующими претвориться в мудром законодательстве просвещенной монархини Екатерины И. Поэтому он пребывал во дворце. Он проявил полное равнодушие к русской литературе и русской общественности. Сведения о России, о ее народе он предпочитал получать от Екатерины, задавая ей вопросы и довольствуясь ее высочайшими ответами. Мечтам о преобразовании России он предавался, оставаясь бесконечно далеким от русской жизни, истории России, ее народа. Потому он просто не заметил восстания. Потому он покорно отбыл из Петербурга, когда перепуганная восстанием Екатерина поспешила выпроводить его из России. По дороге в Париж он задерживается в Гааге, продолжая работать для Екатерины. Его друг Вольтер узнал о восстании Пугачева от самой Екатерины. И он писал ей утешительные письма, уверяя, что просветители в этой схватке будут на ее стороне, глубоко веруя, что она сумеет расправиться с «маркизом Пугачевым»,
Радищев сразу по возвращении из Лейпцига установил связи с передовыми, радикальными русскими писателями и выступил против самодержавия. Когда началось восстание Пугачева, он настойчиво стремится понять причины, породившие его, понять смысл и содержание народного освободительного движения, желая проверить свои убеждения на опыте практической борьбы крепостных масс против рабского ига, ища в нем ответов на вопрос о путях общественного переустройства, о путях создания общества свободных людей, без крепостничества и самодержавной власти. Радищев мечтал о светлом будущем своего отечества и, вырабатывая свои общественные идеалы, опирался на знания, почерпнутые в жизни своей страны, в жизни своего народа.
Резко отличное отношение к этому крупному историческому событию со стороны Дидро и Радищева определило и разность результатов. Дидро остался в плену умозрительной, метафизической, а на деле разоружающей освободительное движение угнетенного народа против крепостного рабства, а потому и враждебной ему теории просвещенного абсолютизма. Радищев извлек урок из мощного движения крепостных масс за свою свободу, движения, потрясшего устои крепостнического государства, и сумел нанести решительный удар политическим теориям энциклопедистов и сформировать свою теорию народной революции—краеугольный камень идеологии русского просвещения.
Служба Радищева в штабе петербургского главнокомандующего облегчала детальное ознакомление со всеми этапами пугачевского движения, со всеми подробностями хода и .организации этого восстания. Уже в сентябре 1773 года Петербург был полон слухов о начавшемся возмущении яицких казаков. За слухами пошли точные сведения—воинские командиры и начальники спешно доносили в Военную коллегию о случившейся «беде», прибывшие курьеры были жадно расспрашиваемы как очевидцы. Новым в этом бунте было объявление самозванца и быстрый рост его популярности в народе, обеспечивший широкое распространение движения. Радикальная русская общественность, первая выступившая против легенды о Екатерине, «матери отечества» и «мудрой монархине», против утверждения, что в России наступил «златый век», неожиданно для себя получила поддержку народа. Объявление самозванца, его растущая популярность были ярким свидетельством не только трезвого отношения широких крепостных масс к практике екатерининского самодержавства, но и неприятия ее правления. Екатерине—дворянскому монарху—они противопоставили Пугачева,—своего, и, как сказано в одном из пугачевских указов,—«народом учрежденного великого государя».
Поздней осенью того же года в столице уже стало ясным: на далеком Яике вспыхнул не рядовой бунт, каких в каждом году был не один десяток, —там началась крестьянская война против дворян-помещиков. Это понимание характера народного движения и его реальной угрозы всему самодержавному режиму было с предельной ясностью выражено в манифестах Екатерины, в мероприятиях правительства. Екатерина была вынуждена вступить в единоборство с Пугачевым. В ответ на его указы она писала свои манифесты, в которых обращалась к населению восставших областей, призывая его отстать от самозванца, перейти на ее сторону. Уговаривая, она грозила, что будет в противном случае считать их также «бунтовщиками и возмутителями». Ответом на этот царский манифест было расширение восстания. С Яика и оренбургских степей оно перекинулось на Урал, Магнитную и Белорецкие заводы, к башкирам, жившим по реке Белой. Менее чем через полгода пожаром возмущения было охвачено Поволжье. Вскоре Казань, Саратов, Пенза пали под ударами пугачевских армий. Направление движения Пугачева было очевидно: он шел на Москву. Обе столицы были переполнены беглецами—тысячи дворянских семей в панике прибыли «под монаршую руку». Тысячи остались на месте, пав жертвами справедливого возмездия.