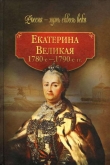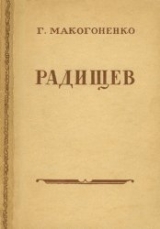
Текст книги "Радищев"
Автор книги: Г. Макогоненко
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 14 страниц)
Вот какой выход предложили путешественнику герои «Крестцов» и «Хотилова»—возложить надежду на русского монарха, чтобы в союзе с ним явиться перед лицом «любящего человечество» и осуществить спасительные реформы, пристыдив «поборников неволи».
Как же отнесся к этому путешественник? Решая вопрос для себя лично—как жить дальше, что делать для спасения отечества, он тем самым помогал найти выход из создавшегося в 80-е годы кризиса общественного движения. Вот почему свою индивидуальную веру в монарха он сопоставляет с верой и убеждениями духовных вождей общества. Крестецкий дворянин и автор «проекта в будущем»—оба крупные мыслители, общественно активные граждане и патриоты. Их воззрения прямо совпадают с убеждениями и практической деятельностью крупнейших русских писателей-просветителей, стоявших в течение двух десятилетий (70-е и 80-е годы) во главе передового русского общества,—Новикова и Фонвизина.
Начиная с «Трутня», Новиков на протяжении двадцати лет неустанно проповедовал идею воспитания как единственного надежного средства обновления отечества. В 80-е годы в «Прибавлениях» к своей газете «Московские ведомости» он печатает цикл педагогических статей «О воспитании и наставлении детей». Идея воспитания общественно активных патриотов и граждан, наделенных «российскими добродетелями», развертывается в его философских статьях, в журналах «Утренний свет» и особенно «Московском издании». Полнее всего просветительские убеждения Новикова о нравственном воспитании изложены во второй части «Живописца»—журнала, многократно переиздававшегося в 70-е и 80-е годы и имевшего редкую в России популярность. Именно с новиковскими воззрениями и соотнесена у Радищева система нравственного воспитания, развиваемая крестецким дворянином.
Творчество Фонвизина было дорого и близко Радищеву. Он отлично знал не только его печатные произведения, но также и ходившие в рукописях. Фонвизинские политические убеждения были крайне противоречивы, отличались редкой непоследовательностью. Писатель блестящего сатирического дарования, он в своих произведениях смело обнажал язвы крепостнического правопорядка, гневно и бесстрашно требуя немедленного изменения существующего положения. И в то же время резкая критика екатерининского режима и действий самой Екатерины сочетается у него с самыми наивными просветительскими иллюзиями, с уверенностью, что только в единении с монархом возможна борьба с поборниками рабства,—скоти-ниными и про становыми.
Фонвизин выступал в роли советчика Екатерины и мужественно брал на себя миссию спасителя отечества. В «Недоросле» он советовал Екатерине вмешаться в отношения помещиков и крепостных, вступить в борьбу с «поборниками рабства». Когда его не послушались, он не отказался от своих намерений. Так появился проект манифеста о крупнейших преобразованиях России, написанный Фонвизиным вместе с Никитой Паниным; этот манифест хотели вручить Павлу, когда он займет престол. Самое большее, в чем мог отступить Фонвизин от своих воззрений, это отказаться от мысли, что его проект исполнит Екатерина,—вот почему это был «проект в будущем», адресованный будущему императору. Этот проект после смерти Никиты Панина Фонвизин передал в руки его брата Петра Панина, а тот, не дождавшись смерти Екатерины, отправил его «просвещенной монархине». Результат—опала Панина и Фонвизина.
История с проектом манифеста, написанным Фонвизиным и Паниным, несомненно была известна Радищеву. И именно этот факт русской общественной мысли, факт, свидетельствовавший о банкротстве дворянского радикализма, и использует Радищев в своей книге. Он заставляет своего героя пройти не через вымышленные испытания, а через испытания реальные, конкретно исторические, заставив его прочесть «проект в будущем», написанный дворянином «великим отчинником», его современником и духовным вождем общества.
Радищев, решая в своей книге кардинальные вопросы русской жизни и прежде всего вопросы русской революции, не мог пройти мимо деятельности духовных руководителей общества. Он весь связан с русской традицией. Начиная свой путь, Радищев ясно и открыто высказал отношение к своим предшественникам. Он изучает творчество Ломоносова и дает объективную оценку великих заслуг и великих заблуждений этого деятеля. Он называет своего учителя—русского философа Ушакова. Оба этих деятеля к этому времени уже умерли. О них можно было говорить открыто. Теперь же, выступая в «Путешествии» с теорией крестьянской революции, как единственного пути к свободе и спасению отечества, он не мог пройти мимо тех, кто до него вот уже два десятилетия мужественно служил делу просвещения, делу свободы. И Фонвизин, и Новиков, выступая с страстной критикой крепостнической России, в то же время несли в общество заблуждения, разоружали русское освободительное движение, проповедуя веру в монарха. История выдвинула новый путь, пугачевское движение ясно его определило—восстание, народная революция. Заблуждения Новикова и Фонвизина подлежали разоблачению. Русское общество должно было освободиться от этих выгодных русскому самодержавию иллюзий. «Путешествие из Петербурга в Москву» поднимало русское просвещение, русскую общественную мысль, освободительное движение на новую, высшую ступень. Поэтому Радищеву нужно было рассчитаться и с тем, что господствовало до него и в русской литературе, и прежде всего с теориями Новикова и Фонвизина. Но оба эти писателя были живы, оба были под опалой за свою мужественную деятельность,– называть их в своей книге было бы предательством. Вот почему не их изобразил Радищев, а людей, равного им типа сознания и убеждений. Вот почему, характеризуя политические воззрения этих людей, ему чуждые, Радищев изображает их носителей как людей мужественных, честных, благородных, отважных.
Радищеву была враждебна всякая надежда на монарха. Об этом свидетельствовало не только все содержание «Путешествия», не только ода «Вольность», где впервые было сказано, что революция—это закон, подкрепляемый опытом истории, но и «Письмо другу», где была высказана прямо противоположная «проекту в будущем» идея: не может царь, восседая на престоле, сделать что-либо для народной вольности.
Как же оценил путешественник советы, преподанные в Крестцах и Хотилове? Он подошел к ним, уже вооруженный опытом своего путешествия. Вот почему с легкостью он поверил их критике, подкрепляющейся его собственными наблюдениями, и недоверчиво отнесся к их итоговым выводам; здесь опять помог опыт путешествия, которого лишены были великие отченники.
Как уже говорилось, в «Житии Ушакова» была сформулирована философская сторона путешествия,—она освобождала человека от метафизических представлений и воззрений, она помогала познать естественные законы жизни, искаженные тираническим законодательством, познать «правила народным правлениям приличные». В самодержавном государстве большая часть людей «уподоблена тяглому скоту», превращена «в движимые мучителем машины», у них отнята свобода. Русский земледелец лишен права именоваться человеком, «истинным сыном отечества» (патриотом), опираясь на силу, помещик беспощадно «оскорбляет» его. Радищев утверждает: если человека «оскорбили», то он, «влекомый чувствованием сохранности своей, принуждается на отражение оскорбления». Отсюда общий вывод: «утесненный народ», «обиженный» русский крепостной должен защищать свою свободу и независимость, сам не ожидая, что кто-нибудь другой вступит за него в борьбу с обидчиком и угнетателем. В этой связи Радищев вновь говорит о мщении. Восставший крепостной, справедливо ненавидя «обидчиков», безжалостно уничтожает их. Если будет действовать этот закон, не будет угнетения. Вот почему так боятся народа и этого закона захватившие власть в свои руки дворяне, вот почему в своей боязни и собственной защиты ради заградились от него своим, так называемым гражданским законом. Понятно, что в этом защищающем интересы дворян гражданском законе, крестьянин «мертв». Таковы убеждения Радищева, их-то он и хочет передать своему герою. Путешествие создает самые подходящие условия для их самостоятельного усвоения героем.
Первый раз с новой для себя проблемой путешественник сталкивается на станции Чудово. Его приятель Ч., рассказав о том, как он чуть не потонул из-за равнодушия к своим обязанностям, проявленного царским начальником Систербека, сообщает о своем намерении сделать этот поступок известным петербургским властям. Побуждение это было так естественно, так справедливо, что путешественник не мог с ним не согласиться. Но приятель неожиданно заявил, что «опомнился», и решил «смириться», и как причину своего смирения он впервые для путешественника называет это слово—месть. «Я убедился вос-поминовением многих примеров, что мое мщение будет бесплодно, что я могу прослыть или бешеным, или злым человеком». Оказывается, добиться наказания виновного, не спустить ему вины его, есть месть. Так, впервые путешественник воспринимает это слово с одобрением, ибо всем своим существом он был согласен с намерением своего приятеля наказать равнодушного и преступного начальника. Странно было иное—отказ приятеля Ч. следовать такому справедливому побуждению.
Вторично о мести путешественник услышал от Кре-стьянкииа. Его рассказ был настоящим откровением для путешественника. Суть рассказа такова: сыновья жестокого помещика, асессора в отставке, пытались обесчестить крестьянскую девушку, невесту деревенского парня. Тот, увидев это, вступился за честь невесты. Тогда асессор велел наказать его за сопротивление господам, а невесту отдал своим сыновьям. Парень не удержался и стал отбивать свою невесту, уводимую в помещичий дом. Подоспевшие крестьяне, не сдерживая более ненависти к мучителям, бросились на них и убили асессора и его сыновей. И вот Крестьянкин, судья, должен был решить дело этих крестьян. Свое отношение к ним он формулирует так: «Невинность убийц для меня, по крайней мере, была математическая ясность. Если идущу мне, нападет на меня злодей и, вознесши над головою моею кинжал, восхочет меня им пронзить; убийцею ли я почтуся, если я предупреж-ду в его злодеянии и бездыханного его к ногам моим повергну». Не останавливаясь на этом, Крестьянкин говорит о законности мщения. Человек родится в мир, равен во всем другому». Но вот его начинают утеснять, оскорблять, мучить. Тот, кто делает это,—его мучитель, есть враг его. «Против врага своего он защиты и мщения ищет в законе. Если закон или не в силах его заступить, или того не хочет, или власть его не может мгновенное в предстоящей беде дать вспомоществование, тогда пользуется гражданин природным правом защищения, сохранности, благосостояния».
Случай, рассказанный Крестьянкиным, потряс путешественника. Он так же, как и Крестьянкин, оправдывает поведение крестьян, убивших своего мучителя. Только опять остается ему непонятным, почему Крестьянкин, оправдывая этот закон в действиях крепостных, сам не хочет следовать ему, отказывается от деятельности, бежит к своим друзьям «оплакивать плачевную судьбу крестьянского состояния».
Закон мщения оказывается известным очень многим. Знает его и крестецкий дворянин, но он верит, что все можно изменить воспитанием, он боится восстания, а потому он и против этого, природного закона. Сам—весь олицетворение «незлобия», он завещает своим детям: «Мщение!.. Душа ваша мерзит его. Вы из природного сего чувствительные твари движения, оставили только обе-регательность своего сложения, поправ желание возвращать уязвления». И опять недоумение и сомнение закрадываются в душу путешественника: отчего этот благородный человек «мерзит» сего природного закона, этого естественного закона всякой «чувствительной твари».
В проекте, изложенном в главе «Хотилов», путешественник, наконец, разъяснил свои недоумения. И монарх, и благородный автор манифеста, оказывается, искренне боятся этого закона. Стращая дворян, автор манифеста говорил: «Блюдитеся», «уже время, вознесши косу, ждет часа удобности», «чем медлительнее и упорнее мы были в разрешении их уз, тем стремительнее они будут во мщении своем». И опять путешественник всей душой за этот закон—освобождение крестьян есть справедливое, человеколюбивое деяние. Именно этого, казалось, хотят и автор «проекта» и крестьяне. Но «гражданин будущих времен» предпочитает воздействовать на «добрые чувства» дворян, рабовладельцев. Крестьяне же, веруя в свой закон, ждут только часа для восстания. Далее, прямо ссылаясь на пугачевское восстание, автор манифеста заявляет: «Прельщенные грубым самозванцем, текут ему вослед и ничего толико не желают, как освободиться от ига властителей»,– заявляет так, потому что боится восстания крестьян.
На этот раз путешественник уже не недоумевает. Он просто не соглашается с воззрениями автора «проекта в будущем». Что именно так думал путешественник, ясно из следующей за «Хотиловым» главы «Вышний Волочек». Находясь во власти впечатлений от только что прочитанного манифеста, он вспоминает одного помещика, который «корысти ради» забывает человечество и устанавливает в своем имении чудовищный режим рабства. Рассказывая о жестокостях этого помещика, о безмерных страданиях крепостных, путешественник впервые сам судит его, впервые сам выносит обвинительный, но не моральный, а политический приговор. И приговор этот решительно противоречит советам встречаемых им людей—те отвергали мщение, бежали его в страхе, а он сам призывает к мщению. Обращаясь к честным дворянам, людям типа крестецкого дворянина, он восклицал: «И вы хотите называться мягкосердыми, и вы носите имена попечителей о благе общем. Вместо вашего поощрения к таковому насилию, которое вы источником государственного богатства почитаете, прострите на сего общественного злодея ваше человеколюбивое мщение. Сокрушите орудие его земледелия, сожгите его риги, овины, житницы и развейте пепел по нивам, на них же совершалося его мучительство, ознаменуйте его яко общественного татя». Таков был ответ, найденный путешественником. Тем самым кончался второй этап идейного и морального обновления путешественника. Путь, предложенный крестецким дворянином и автором «проекта в будущем»,—путь, свойственный людям типа Новикова или Фонвизина,– был отвергнут. Начинался третий этап—формирование революционных убеждений. Путешественник твердо встал на обретенный им новый путь—путь революции.
Путешественник едет дальше. Он уже научился «взирать прямо» на действительность. Как пелена с глаз, пала вера в царя, в возможность исправить путем монаршего вмешательства хотя бы «мелкие и частные неустройства». Он едет свободный, с обновленной душой, с просветленным разумом. И все окружающее предстает ему в новом свете. Он видит теперь далеко, далеко. Каждое новое впечатление, новая встреча делает его мудрее, отважнее в неуклонно созревающем решении отдать свою жизнь делу освобождения крестьян.
Он все активнее в своих поступках, он уже сам становится силой, способствующей просветлению других, еще заблуждающихся, еще живущих иллюзиями. В деревне Медное путешественник наталкивается на варварскую, но буднично обычную в крепостнической России картину—продажу людей с торгов. Гнев и ярость охватывают путешественника при виде этой ужасной сцены. Помещик, «зверь лютый, чудовище, изверг», продает кормилицу свою, «вторую мать», продает семидесятипяти-летнего старика, который, в бытность свою солдатом, спас жизнь его отца, а затем был дядькой и наставником его самого, продает внучку их, девзонку, которую насилием и обманом он сделал своей любовницей, продает ее не одну, а с ребенком, своим сыном,—продает всех в розницу, разделяя родных людей. Возмущенный, яро ненавидящий дворян, «зверей лютых», путешественник бежит вон из дома, где продавались несчастные, бежит с намерением вступиться за них: «Постойте,—кричит он им,– я буду доноситель». На лестнице встречает своего друга;
– Что тебе сделалось? Ты плачешь?—спрашивает.
– Возвратись,—сказал я ему,—не будь свидетелем срамного позорища».
И здесь уже роли переменились—путешественнику приходится рассеивать в своем друге заблуждение, свойственное ему самому еще совсем недавно. «Не могу сему
я верить,—сказал мне мой друг,—невозможно, чтобы там, где мыслить и верить дозволяется всякому, кто как хочет, столь постыдное существовало обыкновение». «Не дивись,—сказал я ему,—установление свободы в исповедании обидит одних попов и чернецов, да и те скорее пожелают приобрести себе овцу, нежели овцу во христово стадо. Но свобода сельских жителей обидит, как то говорят, право собственности. А все те, кто бы мог свободе поборст-вовать, все великие отченники, и свободы не от их советов ожидать должно, но от самой тяжести порабощения». Так в последний раз рассчитывается путешественник с идеей возможного мирного урегулирования отношений между помещиком и крепостным, с надеждой на то, что «великие отченники», помещики вкупе с «казанской помещицей» Екатериной II, сами добровольно отменят крепостное право. Он, наконец, находит реальную и могучую силу, единственно способную осуществить великое дело освобождения. Этой силой оказывается народ, томящийся ныне под игом рабства, но сумеющий разорвать оковы, когда придет час расправы с мучителями.
Именно в эту пору осознания исторического будущего России происходит самая важная встреча путешественника: он встречает первого русского революционера– Радищева. Следуя своему принципу быть всегда точным и верным реальным историческим фактам и событиям, Радищев и в этом случае не отступает от него. Действие в книге происходит в России в конце 80-х годов, в пору царствования Екатерины II и господства временщика Потемкина. События, описываемые здесь, соответствуют реальным событиям политической истории России тех лет. Факты, характеризующие положение крепостных, факты произвола дворянства документально верны, как верно само путешествие по всем отлично известной дороге, соединяющей две столицы. Как точны факты и события экономического и политического бытия русских людей, так же для Радищева важно сохранить точность и объективность в изображении идейной жизни русского общества. Герой-совремегшик воспитан реальными идеологическими факторами. Вот почему, создавая художественно-обобщенные, типические образы, он всякий раз опирался на конкретные факты, используя реальные судьбы известных ему людей. Так появились в книге субъективно-честные люди из дворян, надорвавшиеся в своей индивидуальной борьбе
с злоупотреблениями и убежавшие прочь от деятельности. И не случайно герой главы «Чудово», обозначенный буквой Ч., был Челищев, лейпцигский приятель Радищева. Так появились масоны, предлагавшие свой путь, путь того же бегства, путь индивидуалистический и антиобщественный. При этом нельзя забывать, что масоном стал в 80-е годы ближайший друг Радищева писатель Алексей Кутузов. Так оказалось необходимым вывести в книге мыслителей и деятелей типа Новикова и Фонвизина. Неизбежно было появление в книге самого Радищева, первого русского революционера, чья деятельность уже становилась объективным фактором русской истории.
Вот почему в Твери путешественник встречает автора первого революционного произведения в России, оды «Вольность», то есть Радищева. «Новомодный стихотворец», рассказывая путешественнику о своем намерении напечатать революционную оду, не ограничивается исповедным признанием, но, как истый революционер, читает встреченному им человеку свою оду, толкуя ее содержание, убежденно стремится обратить в свою веру человека, уже готового, в силу опыта путешествия, принять его учение.
В оде «Вольность», как мы уже знаем, Радищевым впервые изложена теория народной революции. Сюжет «Путешествия», подчинявший себе весь вводимый материал, не позволял вносить оду целиком. В композиционном строении «Путешествия» значение имела именно встреча с автором, с живым человеком, который излагает свое революционное убеждение, раскрывает концепцию рождения будущей свободной России. Подтверждая свою правоту поэтическим словом, он увеличивал воздействие своих революционных идей. Вот главные черты нарисованной им перед путешественником картины: «Человек во всем от рождения свободен». Поэтому вольность «есть дар бесценный», но «мучители»-дворяне вместе с царем отнимают у большинства людей этот дар, порабощают их, называя это все «изветом божества». Так было всегда, так происходит и в России, обширной области, где стоит «тусклый трон рабства». Суеверия—религиозное и политическое, подкрепляя друг друга,
Союзыо общество гнетут.
Одно сковать рассудок тщится,
Другое волю стерть стремится—
На пользу общую рекут.
Ш
Рассудок же называет этот политический режим обманом и рабством. В действительности, царь «великий злодей» и мучитель, «на огромном троне, властно севши, в народе зрит лишь подлу тварь». До сих пор все, видя это, оставались хладнокровными. Но наступает новая пора, и хотя вокруг престола «все стоят, преклонивши колена»,– пусть трепещет тиран—«се мститель грядет, прорицая вольность». «От тяжести порабощения» народ восстает.
Возникнет рать повсюду бранна.
Надежда всех вооружит,
В крови мучителя венчанна Омыть свой стыд пусть всяк спешит.
Меч остр, я зрю, везде сверкает,
В различных видах смерть летает Над гордою главой царя.
Ликуйте, склепанны народы;
Се право мщенное природы На плаху возвело царя.
Начался великий и самый справедливый суд, суд народа над преступником и злодеем—русским монархом. Приговор народа суров и мудр:«Злодей злодеев всех лютейший... Ты все совокупил злодеяния, и жало свое в меня устремил... Умри, умри же ты сто крат». Далее революция разливается, как море, по всей стране. «И се глас вольности раздается во все концы...
На вече весь течет народ;
Престол чугунный разрушает,
Самсон, как древле, сотрясает,
Исполненный коварств чертог.
Законом строит твердь природы.
Велик, велик ты, дух свободы,
Зиждителен, как сам есть бог!
«В следующих одиннадцати строфах,—заканчивает рас~ сказ автор «Вольности»,—заключается описание царства свободы, и действия ее, то есть сохранность, спокойствие, благоденствие, величие...»
Путешественник жадно слушал «прорицание о будущем жребии отечества». Отдельные мысли, наблюдения, выводы—следствие собственного опыта путешествия—под влиянием стихов этого «прорицателя вольности» складываются в систему революционных убеждений. Он начинает чувствовать себя мстителем. Мстителем он приезжает на станцию Городня.
Начиная с Городни путешественник общается только с крестьянами, находится только в их среде, мужественно ищет средств и путей к установлению связей с ними, на началах взаимного уважения и доверия. Так в книгу вторгается народ, русский крепостной крестьянин, становясь ее героем, занимая центральное место в повествовании.
Именно в этих главах путешественник, принявший теорию революции «новомодного стихотворца»—автора оды «Вольность»,—выступает союзником и единомышленником Радищева. Поэтому вопрос о народе, как о той политической силе, которой предстоит обновить Россию, как социальной базе для мстителей и «прорицателей вольности», равно важен и для путешественника и для Радищева. Вот почему Радищев изобразил народ в своем «Путешествии» так, как он ранее еще никогда не изображался ни в русской, ни в мировой литературе.
До Радищева в русской литературе наиболее радикальное и исторически верное изображение крепостных мы встречаем у Новикова в его журнале «Трутень» (1769). Решительно встав на защиту «питателя», Новиков документально точно воспроизводит дикую нищету этого вечного труженика, его чудовищное бесправие, полную зависимость от произвола жестокого и равнодушного к человеческим страданиям барина. Созданный им образ впавшего в отчаяние от бедности, помещичьих повинностей, смерти близких людей крепостного Филатки потрясает читателя. Вот как предстает Филатка в своей челобитне барину Григорию Сидоровичу: «Бьет челом и плачется сирота твой Филатка. По указу твоему господскому, я, сирота твой, на сходе высечен, и клети мои проданы за бесценок... Ребята мои большие и лошади померли, и мне хлеба достать не на чем и не с кем, пришло пойти по миру, буде ты, государь, не сжалишься над моим сиротством... Помилуй, государь наш Григорий Сидорович! Кому же нам плакаться, как не тебе? Ты у нас вместо отца...»
Нетрудно заметить, что беспримерный в литературе образ плачущего Филатки написан писателем гуманным, ненавистником рабства, всем сердцем сочувствующим положению обездоленного крестьянина, который для него равный ему человек. Но именно в свете этой гуманности политическая оценка явления подменялась у Новикова моральной. Следствием этой моральной оценки крепостничества и явился образ плачущего Филатки, обращающегося с просьбой к барину, ищущий защиту у своего же господина, который представляется ему, несмотря на всю жестокость, «отцом». Но те же моральные оценки позволили Новикову увидеть в крестьянах и прекрасные, истинно человеческие качества, давно утраченные дворянами—сочувствие к человеческому горю, сострадание, взаимопомощь, трудолюбие. Так, в следующей крестьянской «отписке» рассказывается, что барин Григорий Си-дорович, получив челобитную плачущего Филатки, не разжалобился, не пожалел его, не помог ни ему, ни его малым ребятам. И тогда односельчане, мужики, такие же нищие, как и Филатка, собравшись, купили ему корову, «чтоб робята не померли».
Именно новиковские очерки о крестьянстве служили для Радищева отправной точкой. Он усиливал то, что только намечалось у Новикова и что было так плодотворно , —утверждение высокого морального достоинства крестьянина, заключенного в его труде. Но к изображению крестьян в «Путешествии» Радищев подошел с противоположных новиковским, революционных позиций. Вот почему изображение народа в «Путешествии» было переворотом, составило целую эпоху в литературе.
Политически характеризуя самодержавие и крепостничество, Радищев указывает путь изменения существующего несправедливого социального строя. Путь этот– революция, творимая крепостными крестьянами. Эта позиция и определила новую природу радищевской эстетики, новое содержание как индивидуального образа крестьянина, так и собирательного образа русского народа.
Новиков негодует против положения Филаток, чтобы вызвать жалость и сочувствие у дворян к судьбе несчастного «питателя». Радищев протестует против крепостничества, чтобы вызвать ярость томящихся в оковах, чтоб ускорить час их справедливого мщения. Новиков надеется, что ему удастся уговорить дворян, удастся перевоспитать их и добиться возможности урегулировать отношение дворян и крестьян на началах разумных и человеческих. Радищев, по оценке Екатерины II, «полагает надежду на бунт от мужиков». Для Новикова крестьяне—объект приложения человеческого сочувствия и участия. Для Радищева народ—субъект истории, определяющий ее ход. Вот почему обобщенным образом новиковских крестьян является плачущий Филатка. Вот почему характерным образом крестьян у Радищева является образ бурлака: «Бурлак, идущий в кабак, повеся голову, и возвращающийся, обагренный кровью от оплеух,—многое может решить доселе гадательное в истории Российской».
Этот неожиданный, смелый образ великолепно передает радищевскую неукротимую веру в светлое будущее России, в творческую мощь народа. В лицо «дворянскому корпусу», двору, самодержцу, бросает Радищев вызов: да, я с этим бурлаком, да, я с народом, который еще не разбужен, который принижен чудовищным рабством, но которому принадлежит будущее. Удивительна при этом эстетическая дерзость Радищева: он пишет положительный образ, вкладывает в него самые заветные свои идеалы, не боясь обвинений староверов, эстетов и помещичьих идеологов в непоэтичности, «низкости» того, кто вдохновлял его, кому верил он, во имя кого жил.
Образ бурлака открывает галлерею крестьян радищевского «Путешествия». В Любани происходит встреча с крестьянином. Судьба этого крепостного, как мы уже знаем, не из легких. Он принадлежит жестокому и скаредному барину, который заставляет своих мужиков работать шесть дней на барщине, оставляя свободным всего лишь один день, и то воскресенье. И вот как разговаривает этот крестьянин с путешественником: «Велика ли у тебя семья?—Три сына и три дочки. Первенькому-то десятый годок.—Как же ты успеваешь доставать хлеб, коли только праздник имеешь свободным?—Не одни праздники, и ночь наша. Не ленись наш брат, то с голоду не умрет. Видишь ли, одна лошадь отдыхает; а как эта устанет, возьмусь за другую; дело-то и споро».
Уже здесь Радищев подчеркивает—как ни чудовищно положение крепостного, но его труд, даже безмерно тяжелый, спасает его и от голодной смерти йот нравственной гибели. Несмотря на свою бедность, он полон достоинства. Радищевский крестьянин знает, что он кормилец не только своей семьи, что он содержит не только шестерых своих детей, но и всю Россию. У него в ответ на жестокость помещика—своя тактика: работать на себя лучше, чем на барина. Он дерзко и открыто говорит об этом путешественнику: «Да хотя растянись на барской работе, то спасибо не скажут. Барин подушных не занлатит». Он человек думающий, он делится с путешественником своими мыслями по поводу нового, заведенного помещиками обычая,—отдавать деревню в наем: «Ныне еще поверье заводится—отдавать деревни, как то называется, на аренду. А мы называем это—отдавать головой. Голой наемник дерет с мужиков кожу... Самая дьявольская выдумка отдавать крестьян своих чужому в работу».
Как видим, крестьянин из Любани не плачется, а судит своего жестокого барина. В нем нет ни капли смирения и унижения. И когда путешественник начнет ему толковать о том, что «мучить людей законы запрещают», он с досадой оборвет бесполезный разговор с барином, не знающим жизни и болтающим ему о законах, будто бы его защищающих. При этом он заявляет довольно бесцеремонно: «Мучить? Правда; но небось, барин, не захочешь в мою кожу».
Еще более характерна встреча путешественника с крепостной девушкой Анютой в деревне Едрово. Анюта– сирота, отец у нее умер, она живет с матерью и сестрой. Опять перед нами образ несчастной крестьянки. Для Новикова это был бы случай проявления человеколюбия, жалости и сочувствия к ее судьбе. У Радищева мы сталкиваемся с обратной картиной: Ашота вызывает у путешественника, да и у Радищева, не жалость, не сочувствие, а восхищение. Он любуется ею, завидует ее физическому и нравственному здоровью, цельности ее характера, ее истинно человеческим достоинствам.
Несмотря на бедность, на сиротство, на рабское положение, она независима, горда, полна достоинства. И здесь, как и у крестьянина из Любани, основа ее жизненного поведения—труд. Трудится она, ее мать, сестра. Трудом они кормятся, труд помогает исполнять повинность. По деревне о ней слава—«какая мастерица плясать! Всех за пояс заткнет, хоть бы кого... А как пойдет в поле жать– загляденье». Путешественник встречает ее тоже за работой. Она возвращается с речки, где стирала белье. На коромыслах у нее тяжелая ноша. «Поровнявшись с ней, начал я с нею разговор.