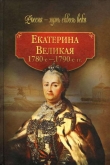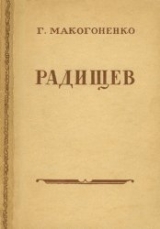
Текст книги "Радищев"
Автор книги: Г. Макогоненко
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 14 страниц)
Наблюдая преследования энциклопедистов во Франции, она, ловко используя положение, изъявляет готовность предоставить возможности для продолжения крамольного издания «Энциклопедии» у себя, в России. Узнав об одолевавшей Дидро нужде, она не пропускает случая продемонстрировать свою щедрость и находит благовидный предлог, чтобы пожертвовать такую крупную сумму, которая уже свидетельствовала бы о поддержке не только философа, но и его великого труда.
С понятным волнением следила «республика философов» за этими действиями. В самом деле, веря в принцип просвещенной монархии, все эти люди отлично знали, что реальная жизнь, фактическая история не балует человечество подобными случаями. Поэтому Дидро, выражая общее настроение, писал: «Философ знает: сменится пятьдесят королей, прежде чем он дождется такого, который воспользуется его трудом». И вдруг эта обманувшая их щедрость Екатерины, это смирение, это настойчивое требование, чтобы ею руководили, чтобы ей помогали, чтобы ей давали советы!
Вольтер спешит поделиться этой радостью с Дидро: «Ну, вот, прославленный философ, что скажете вы о русской императрице? В какое время живем мы! Франция преследует философию, скифы ей покровительствуют...» Он же торжественно сообщает Екатерине о признании ее «республикой философов»: «Всякая черта вашей руки есть памятник славы вашей. Дидерот, Даламбер и я созидаем вам алтари». Через два месяца это заявление подтверждается с новой силой. «Ученые мужи будут еще при жизни вашей боготворить вас». Еще через месяц: «Полагая себя в числе имеющих рассудок, умру, признавая себя в душе моей подданным вашего императорского величества, благодетельницы рода человеческого».
Следом за Вольтером Екатерину приветствовали Даламбер и Дидро.
Так ответили просветители на первые действия Екатерины. С годами этот энтузиазм не проходил. Данное Вольтером слово создавать общими усилиями «алтарь» Екатерине было сдержано с пылом, заслуживавшим лучшего применения.
Идя навстречу дворянской оппозиции и побаиваясь мужицкого бунта, Екатерина затевает созыв Комиссии по составлению нового Уложения. Комиссия была создана в 1767 году. Подготовка к ней началась за несколько лет, и главным в этой подготовке было создание европейского авторитета «мудрому» начинанию монарха. Началось все с письменного уведомления философов. Затем, на протяжении нескольких лет, они держались в курсе всех подготовительных дел. Для определения задач и содержания работы законодательной Комиссии она, Екатерина, пишет Наказ. Пропитанный весь духом просветительской философии, демагогически использующий дорогую сердцу философов фразеологию, он к тому же наполовину был просто списан с книг их единомышленников,—Монтескье в первую очередь. И тот факт, что Екатерина, не стесняясь, вписывала в свой Наказ целые страницы из книги Монтескье «Дух законов», был особенно важен, особенно знаменателен и для Вольтера, и для Дидро, и для Даламбера: это, как им казалось, значило, что русская императрица открыто признавала свое желание практически осуществлять в форме законодательства заветнейшие идеалы философов.
Как только Вольтер, Дидро и Даламбер узнали о начале работ Комиссии, они начали неустанно давать советы Екатерине, свято веруя, что именно их совета и ожидала русская императрица.
Больше того, они сами хотят прибыть в Петербург, чтобы принять личное участие в составлении законодательства для России.
Оппозиционная русская общественность, имевшая тенденцию противопоставлять себя правительству, по мысли Екатерины, при помощи доктрины просвещенного абсолютизма, могла быть приручена, приведена к повиновению, приучена (при содействии европейских авторитетов) видеть в царице действительного духовного «вождя нацйи», того законодателя, чьей рукой водит сама мудрость.
Вот в этой атмосфере «тартюфовской», по словам Пушкина, политики и жил Радищев в петербургские годы. И опять в связи с большими политическими событиями круто изменилась его судьба.
По велению Екатерины, лучшие из пажей должны были спешно отправляться в Лейпцигский университет для получения юридического образования, с тем чтобы по возвращении немедленно включиться в огромное предприятие—составление новых законов, упорядочение ста-
рых сводов, наблюдение за их исполнением. Радищев оказался среди этих лучших—образованных, серьезных, увлеченных идеей служения отечеству юношей.
В сентябре 1766 года Радищев вместе с другими пажами отбыл из Петербурга.
II
В Лейпциге Радищев пробыл 5 лет—с 1766 по 1771. Из Петербурга уехал восторженный юноша. В Россию вернулся гражданин и мыслитель. Сам Радищев считал эту пору жизни важнейшим этапом в формировании своего характера и своих убеждений. Именно поэтому он счел необходимым рассказать своим согражданам, что и как воспитывало его. Свой замысел он исполнил в книге «Житие Федора Васильевича Ушакова». Это сочинение служит для нас основополагающим документом в определении истоков мировоззрения Радищева. Приступая к этой поре жизни Радищева, мы, выражаясь его словами, покидаем область «гадательного» и вступаем «на путь истины».
В Лейпциг Радищев вместе с другими молодыми людьми был отправлен для обучения на юридическом факультете университета. Предстояло в соответствии с инструкцией, написанной Екатериной, «обучаться латинскому, немецкому, французскому и, если возможно, славянскому языкам... моральной философии, истории, и наипаче праву естественному и всенародному, и несколько и Римской империи праву». Истомленные «наставлениями» неуча Морамберта, бывшие пажи жадно принялись за науку. Радищев занимался не только по юридическому факультету, но, действуя «по собственному произволению», изучал литературу, естественные науки, посещал лекции на медицинском факультете. Университет мог дать некоторые знания, и их отлично усваивал Радищев, но университет не мог воспитать юношество. Дух рутины, схоластики, оторванность от жизни, религиозное ханжество и апологетика монархического строя– вот что характерно было для немецкой университетской науки и университетских профессоров того времени. Лишь лекции молодого профессора Платнера, читавшего философию, да старика поэта Геллерта, учившего морали, вызывали сочувствие Радищева и его товарищей. Дух самостоятельности и критицизма характеризует отноше: ние русских студентов к университету. Так, после знакомства с первыми лекциями схоласта и консерватора профессора Беме, Радищев вместе с другими товарищами категорически отказался слушать этот курс. Характерно при этом их смелое заявление, что они этим лекциям предпочитают книгу радикального французского мыслителя Мабли.
По оценке Радищева, университет дал ему лишь некоторую сумму фактических знаний, помог овладеть в совершенстве несколькими иностранными языками. Но, заявлял он, «хотя разум и обрел много понятий», это еще не главное. Нужно прежде всего «устроить их в порядок».
Что же воспитывает человека? Что «соделывает» из чувствительного человека гражданина? Что определяет его «чувствования», его убеждения? В своей книге «Житие Ушакова» Радищев заявляет: человека воспитывает жизнь, обстоятельства делают гражданина. Именно «воспитание жизнью» и было самым главным для Радищева в период его пребывания в Лейпциге.
Что же это была за жизнь? Отправляя в Лейпциг двенадцать юношей, Екатерина написала инструкцию обучения, определив правила их жизни и поведения, назначив управителей. Все двенадцать студентов были отданы под единодержавную власть гофмейстера майора Бокума. Для опеки над «духом» был дан иеромонах отец Павел. Так восторженные юноши превратились в подчиненных своего жадного до денег, глупого, самодовольного и невежественного начальника. Сразу и вдруг они лишились всех прав. Теперь они обязаны были жить в специально отведенном для них доме, по-двое в маленьких грязных сырых комнатах, жить под вечным надзором, обязаны носить казенное обмундирование, при этом носить долго, даже когда оно становилось ветхим, обязаны слушать проповеди глупого иеромонаха Павла, человека крайне смешливого, начинавшего хохотать во время богослужения, если кто-нибудь из студентов показывал ему палец.
Но каждый день такой новой жизни преподавал юношам, бывшим пажам, «деятельное нравоучение». Они видели, как поступки Бокума становились из месяца в месяц, из года в год все наглее, все циничнее, все откровеннее в своей корысти. Они видели, как их обкрадывали, и возмущались, что их кормили тухлой пищей. Они понимали, что им не дают положенных им новых мундиров и шинелей, так как деньги идут в карман Бокума; они мерзли по зимам, болели, так как Бокум предпочитал лучше брать деньги себе, чем отапливать комнаты студентов. Они на каждом шагу, ежедневно были оскорбляемы именно за попытки выступить со справедливыми требованиями или просьбами.
Обстоятельства делают человека, говорит Радищев. Обстоятельства тиранического управления Бокума вызвали негодование, которое изо дня в день стало расти, превращаясь в протест. Ничто, по словам Радищева, «толико не сопрягает людей, как несчастие. Сия истина подкрепляется и нашим примером. Худые с нами поступки нашего гофмейстера сделали нас единомысленными». Изучение книг о естественном праве, знакомство с формами государственного управления подкреплялось у русских студентов опытом жизни в своей колонии под началом Бокума. Становилось ясным, что их «мучитель» поступал с ними так не по причине дурного своего характера, а в силу данной ему власти, сделавшей его во всем подобным «правителям народов», «самовластным государям». Но кто же наделил его такой властью? Чьим наместником был Бокум в русской колонии студентов?—Несомненно, русской императрицы Екатерины II. Низведенные на положение безгласных подданных, Радищев и его друзья на собственном примере познали, что значит на деле необузданный произвол владык. Уехав из России, они были настигнуты самодержавием. Вот именно эта жизнь под пятой самовластного начальника и воспитывала в Радищеве дух протеста против тирании и деспотизма.
Чем сильнее и наглее были притеснения Бокума, тем неодолимее росло чувство негодования, тем тверже становилась воля. «Человек много может сносить неприятностей, удручений и оскорблений,—пишет Радищев об этой поре жизни.—Доказательством сему служат все едино-начальства. Глад, жажда, скорбь, темница, узы и самая смерть мало его трогают. Не доводи его токмо до крайности». Радищев, вместе с другими студентами доведенный до крайности, поднялся на бунт. Душой этого заговора был его старший товарищ Федор Ушаков. Он первым, раньше других, восстал на «всесилие» Бокума, смело противореча ему и требуя к себе и к товарищам справедливости. Ненавистник рабства, свободолюбец и гражданин-человек большого самобытного ума и таланта, твердой воли и непреклонного мужества, он ходом событий был поставлен во главе русской колонии, сделавшись по праву ее руководителем. Бунт студентов против Бокума дал результаты. И хотя Бокум сначала пытался, используя власть, жестоко расправиться с бунтовщиками, предав их военному суду, посадив предварительно в карцер под стражу, но, действуя «неутомимо», студенты добились вмешательства посла Белосельского, который встал на их сторону. Выигрыш был не только в том, что улучшились условия материального существования. Победа учила: насилию, неправде, самодержавному гнету надо противиться. Только в сопротивлении, в мятеже, человек, живущий под игом деспотической власти, может сохранить себя как личность, отстоять свою свободу и достоинство. Вот почему для Радищева бунт против Бокума «одна из знаменитейших эпох жизни».
Как видим, живя в Лейпциге, Радищев и его друзья испытывали на себе политику русского самодержавства. Но родина оборачивалась в Лейпциге не только полицейским режимом Бокума. Россия оппозиционная по отношению к самодержавию—Россия Козельского и Новикова неотступно следовала за ними, беспрестанно стучалась в их жилье, проникая через установленные Екатериной преграды. Уехав из Петербурга, когда решен был созыв Комиссии по составлению нового Уложения, Радищев и Ушаков с нетерпением ждали начала ее работы. И вот 31 июля 1767 года в Москве открылись заседания Комиссии. Газеты «Московские ведомости» и «Санкт-Петербургские ведомости» были заполнены подробными отчетами о заседаниях Большого собрания, о выступлении депутатов, о возникавших страстных спорах по кардинальным вопросам русской жизни и крестьянскому прежде всего. Несомненно, важнейшим моментом работы Комиссии было присутствие в ней 112 депутатов от крестьян.
Все они привезли с собой наказы избирателей, которые наполнены были скорбным перечнем нужд и забот. И, главное, они приехали сюда с намерением заняться составлением таких законов, которые бы покончили дело с «отягощением» и утвердили начала справедливости для всех сословий. Об этом боевом духе демократически настроенных депутатов, совершенно не приходивших «в некоторый род восторга» от мудрости самодержицы, отлично свидетельствует сын маршала Комиссии Бибиков: «Некоторые из них (депутаты.—Г. М.), увлеченные вольнодумием, ухищрялись предписывать законы верховной власти, другие предлагали уничтожить рабство».
Первые же заседания определили лидеров разных социальных группировок, с которыми соглашались представляемые ими группы депутатов, выражая свое согласие подачей мнений или, как тогда говорили, письменных «голосов» в защиту или против выдвинутой оратором точки зрения.
Демократический лагерь выдвинул целую группу политических деятелей, доселе никому неведомых, прекрасных ораторов, умевших настойчиво и принципиально защищать свои мысли и подавать «примечания». Этими деятелями были: крестьянин Чупров, казак Олейников, пахотные солдаты Жеребцов и Селиванов, однодворец Маслов и ряд других. К этому демократическому лагерю присоединялись: дворянин Григорий Коробьин, фило
соф-просветитель Яков Козельский, депутат города Дерпта ученый Урсипус.
Во время прений стало ясно, что опрометчиво собранная Комиссия превратилась в своего рода съезд, в идейный центр русской демократической мысли, своими работами свидетельствовавший перед всем светом, что есть в России не зависимая от правительства, противостоящая сословной дворянской идеологии, демократическая общественность.
Демократически настроенные депутаты были предупреждены: «своевольством» не заниматься, об освобождении крестьян речей не заводить, а более и лучше всего «проявлять верность и любовь к государю». Становилось ясным, что о каких-либо радикальных реформах нечего было и думать. Но вместе с тем Комиссия представляла неслыханно богатые легальные возможности постановки важнейших общественно-политических проблем. Вот почему, используя эти легальные возможности, представители демократического крыла Кохмиссии и выдвинули крестьянскую проблему, хотя при обсуждении ее, скованные все той же легальностью, ставили вопрос не об освобождении, а лишь об улучшении положения крестьян.
Видимо, учитывая это обстоятельство, Григорий Коробьин и поставил перед Большим собранием вопрос о необходимости улучшения положения крестьян, требуя вмешательства власти в отношения крепостных и помещиков, ограничения прав дворянина на труд и собственность земледельца. Необходимость этой защиты прав крепостного Коробьин доказывал тем, что взывал к чувствам депутатов, рисовал бедствия «питателя» в руках жестоких дворян, постоянно призывал на помощь человеколюбие. Обстановка складывалась так, что когда вопрос ставился не о ликвидации крепостного права, а лишь о расширении прав крепостных, об улучшении их быта, моральная мотивировка оказывалась наисильнейшей. Опасность такой постановки вопроса сразу понял умнейший из дворянских идеологов Щербатов. Немедленно выступив против громогласного заявления Коробьина, он предупреждает депутатов о таящейся опасности даже одного обсуждения этих щекотливых и рискованных тем. Он заявил, что считает крайне опасным заявление Коробьина потому, что нельзя, не должно заниматься обсуждением бедственного положения крепостных, «дабы, пленяясь оказуемым им человеколюбием и красноречием, сие какого бы вреда не произвело».
По крестьянскому вопросу выступило двадцать депутатов. Весь май месяц 1767 года шли крайне обостренные споры, порой переходившие в скандалы. Из двадцати выступавших восемь депутатов поддерживали Коробьина– Козельский, Жеребцов, Чупров, Маслов и другие. Дневная записка собрания депутатов свидетельствует, что никто из помещичьих защитников не в состоянии был противопоставить хоть сколько-нибудь вразумительные доводы в защиту своей точки зрения: оставить положение крестьян без изменения. Переполошившиеся помещичьи идеологи лишь исступленно бранились и грозились по адресу передовых депутатов за то, что те осмелились поставить этот вопрос на обсуждение.
О работах Комиссии, как о крупном событии русской политической жизни, Радищев и его товарищи узнавали не только из русских газет, но и от многочисленных соотечественников, беспрестанно посещавших Лейпциг. Чем ближе становился срок возвращения на родину, тем энергичнее Радищев изыскивал способы ознакомиться с тем, что происходит в России, желая всей душой как можно скорее начать активное служение на благо отечества. Прямым свидетельством этих тесных связей Радищева с Россией и русской жизнью является его первая литературная работа, сделанная в Лейпциге, работа, показывающая, что первейший интерес вызывали у него именно политические события.
Во время пребывания Радищева в Лейпциге в 1768 году началась русско-турецкая война. Через Лейпциг, на пути в Италию и Албанию, где пребывали тогда русские войска и где находился штаб армии Орлова, проезжало множество офицеров, в частности штабных. Около 1770 года в штабе гр. А. Г. Орлова родилсй политический документ, написанный по заданию Орлова греко-албанским политическим деятелем Антоном Гика, который находился при русских войсках в Архипелаге. Политическая эта брошюра называлась «Желание греков к Европе христианской». Написана она была от имени греков, страдающих под турецким игом и взывающих о помощи. Этот важнейший политический документ был срочно отправлен для опубликования в Петербург. Именно он и был дан Радищеву проезжавшим в Петербург штабным офицером для срочного перевода на русский язык. В предисловии к манифесту Радищев прямо заявляет: «Мы получили из Архипелага через Италию некоторую пиесу, которая по обстоятельствам своим за весьма важную и любопытства достойную почесться может». Факт поручения перевода важнейшей политической статьи Радищеву—свидетельство его общественной активности, его интереса к русским политическим делам, его прочных связей с Россией. Больше того, это свидетельство и того, как отлично знали Радищева многие русские, проезжавшие через Лейпциг. Его ясный ум, самостоятельность, его образ мыслей привлекали внимание многих людей. Не случайно, что через двадцать лет Карамзин, посетивший Лейпциг, услышал от профессора Платнера отзыв именно о Радищеве, который запомнился ему на всю жизнь.
История с переводом брошюры Антона Гики показывает в то же время, как отлично Радищеву были известны русские повременные издания. В том же предисловии он заявляет совершенно категорически: «Мы тем охотнее приняли на себя перевод оной, что по всем обстоятельствам думать должно, что нет еще оной в переводе ни в одном периодическом сочинении, кроме сих листов». Именно эта уверенность и заставила его приняться за перевод. Работу свою он начал в июле 1771 года. Полностью осуществить свое намерение он не успел—перевод, дошедший до нас, обрывается на половине. Причиной, прервавшей дальнейшую работу, явилось опубликование брошюры Гики в «Санкт-Петербургских ведомостях» от 16 июля того же года. Получив августовскую почту и прочитав «Желание греков», Радищев прекратил свою работу над переводом.
Совершенно несомненно также знакомство Радищева и Ушакова с важнейшими произведениями передовой русской мысли той поры. Есть ряд данных, позволяющих утверждать, что им была известна книга русского философа Якова Козельского «Философические предложения», а также журнал Новикова «Трутень», вынесший коренные вопросы русской жизни, поднятые еще демократическими депутатами в Комиссии на всеобщее обсуждение.
Главное же, что обращает на себя внимание, это общность идейной жизни, общность процессов, происходящих в России, где складывалась идеология русского просвещения, и в лейпцигской колонии русских студентов, где вырабатывал основы своего мировоззрения будущий писатель-революционер. Общность эта состояла в том, что под влиянием потребностей и нужд русского освободительного движения передовые деятели и просветители Козельский и Новиков прежде всего начали критику политической концепции французских энциклопедистов, которая, как уже говорилось выше, легла в основание демагогической политики Екатерины II, взявшей на себя роль просвещенного монарха. В колонии русских студентов, по свидетельству Радищева, Ушаков, идейный руководитель молодых русских свободолюбцев, также начал «учить мыслить» своих товарищей, учить критически относиться к идеям, идущим из Франции, учить оценивать их по заслугам и достоинствам, по тому, как они вооружали и подготавливали человека к исполнению должности гражданина. Именно эта общность—ярчайшее свидетельство глубоких органических связей Радищева с русской жизнью, с передовой русской литературой в период пребывания в Лейпциге.
Что же происходило в России?
Выход в свет Наказа для Комиссии побудил Козельского, депутата Комиссии, приступить к написанию своей книги «Философические предложения». В дни работы Комиссии, в дни, когда все освещалось именем Монтескье, Козельский выступил с «Предложениями», в которых высказал свою, особую точку зрения. В этой своей книге Козельский, блестяще знакомый с философской, социальной, экономической литературой французского просвещения, в противовес екатерининскому Наказу, ориентирующемуся на Монтескье, в случае, когда апеллирует к каким-либо авторитетам из числа французских идеологов, ссылается на Руссо. Но значение книги Козельского прежде всего в том, что она является первым развернутым выступлением русского просветителя с критикой ряда социально-политических доктрин энциклопедистов. С первой же страницы Козельский предупреждает читателя: в этой книге я познакомлю вас с важнейшими достижениями европейской передовой освободительной философии; но не все в этих воззрениях приемлемо для России, не со всем можно согласиться. Поэтому во множестве существенных вопросов Козельский не соглашается со своими французскими предшественниками: или вступает с ними в полемику, или дает новое толкование и объяснение сходных явлений.
Козельский понимал, что предпринимает смелое дело, но политические обстоятельства России и гражданская совесть требовали, раз это было необходимо, выступать и против прославленных авторитетов: «И как в таком случае мнения мои могут показаться отважными, то прежде порицания их прошу рассудить то, что мы часто самыми важными изобретениями одолжены бываем отважным покушениям». В числе многих других возражений Козельский выступает против одной из важнейших просветительских доктрин: освобождение крестьян возможно лишь после просвещения их, когда они «научатся понимать драгоценность свободы». Об этом писала «Энциклопедия», это было мнение Вольтера, эта точка зрения была сформулирована и в получившем премию на конкурсе Вольного экономического общества ответе Беарде де Лабе: «Заставьте людей познать цену свободы; теперь же вследствие своей грубости и невежества крестьяне, быть может,
и сами предпочтут рабство». Соответственно этой просветительской точке зрения Екатерина в Наказе и писала: «Не должно вдруг и через узаконение общее делать великого числа освобожденных». Вот против этого тезиса и выступил Козельский: «Многие люди беспрестанно
говорят, что облегчение делать невыполированному народу в его трудностях предосудительно; я думаю, что некоторые из них говорят сие по незнанию, что выполировать народ иначе нельзя, как через облегчение его трудностей, а другие—по неумеренному самолюбию, что почитают в неумеренном господстве над людьми лучшую для себя пользу».
Так логика исторических событий, потребности общественного движения определили своеобразие складывающегося русского просвещения. Борьба с политическими теориями французского просвещения оказалась одновременно и борьбой против практики русского самодержавия. Выступая против энциклопедистов, депутат Козельский выступил против Наказа Екатерины.
Книга Козельского вышла в 1768 году, в момент работы Комиссии, теоретически вооружая демократических депутатов в их борьбе против демагогической политики Екатерины II. После роспуска Комиссии, в мае 1769 года, на общественное поприще выступил новый деятель, бывший служащий Комиссии, «держатель дневной записки», молодой русский писатель и просветитель Николай Новиков. Лишенный права высказывать свое мнение во время депутатских прений, он решил выступить с защитой русского угнетенного хлебопашца, «питателя», решил подать свой «голос» по важнейшему в условиях крепостнической России крестьянскому вопросу.
Создавая журнал с целью вынести на широкое общественное обсуждение вопросы, поднятые и не решенные Комиссией, Новиков тем самым выступал против намерений Екатерины потушить возникший было пожар. Эта антиправительственная программа подкреплялась и смелыми заявлениями о неблагополучии в государстве просвещенной монархини: напечатанные в «Трутне» десятки статей утверждали, что в судах, воеводствах сидят взяточники и воры, а в деревне хозяйничают распоясавшиеся помещики. Уже все это отчетливо характеризовало воззрения Новикова, далекого от иллюзий насчет характера русского самодержавства. Поэтому, когда Екатерина, разгневанная «жужжанием» «Трутня», прикрикнула на него со страниц «Всякой всячины», Новиков принял вызов и вступил на путь разоблачения так усердно и любовно создаваемой императрицей и ее французскими друзьями легенды о «просвещенной», «мудрой», «человеколюбивой», «справедливой монархине».
Издание Екатериной журнала «Всякая всячина», выступление ее в качестве писателя было исполнением все того же плана демонстрации просвещенного характера ее правления. Екатерина старалась как можно прилежнее исполнить весь комплекс дел и поступков идеального государя. Вот она законодатель—пишет Наказ, собирает Комиссию, внимательно слушает избранников нации, желая на основе выясненных таким образом нужд написать новые законы и осчастливить своих подданных. Буквально это она и писала Гримму, рисуя себя в качестве идеального монарха: «Мое собрание депутатов имело успех потому, что я сказала: вот мои принципы, изложите ваши жалобы—где вам жмут сапоги? Давайте лечить: у меня нет системы, я стремлюсь к общему благу; оно составляет мое благо, ну, работайте, создавайте проекты, вырабатывайте свои мнения. И они начали приходить, перетряхивать материалы, говорить, мечтать, спорить, и ваша покорная слуга слушала, совершенно безразличная ко всему, что не было общей пользой, всеобщим благом». Читая эту идиллическую картину работ Комиссии, специально сочиненную для французских друзей, нельзя не отдать должного Екатерине: она умела мастерски творить легенду о себе. Вот теперь она издает журнал, выступая в нем писателем-сатириком,* желая словом своим исправлять подданных, приглашая писателей присоединиться к ней, разделить ее труды.
Новиков и принялся за разоблачение этой лжи; он задался целью сорвать маску просвещенного монарха с Екатерины-писателя, показать обществу подлинное лицо монарха-деспота, занимающегося литературой.
В Комиссии спорили, полемизировали друг с другом депутаты враждебных лагерей—демократы и дворяне. На страницах «Трутня» разгорелась беспримерная в России политическая полемика между частным лицом, демонстративно отказавшимся от службы государыне, писателем, занявшимся общественной деятельностью, и всесильным самодержцем, играющим роль просвещенного
монарха. Используя последнее обстоятельство, он притворился, что ему неизвестно, кто истинный автор статей в журнале «Всякая всячина», что ему неизвестно участие русской императрицы в ее собственном журнале, и повел решительную и беспощадную борьбу с ним. Действуя умно и талантливо, он системой намеков создал образ этого коронованного автора политических статей в правительственном журнале. Этот автор—«пожилая дама» нерусского происхождения, плохо владеющая русской речью, притворяющаяся мягкосердечным и либерально настроенным писателем, а в действительности являющаяся «неограниченным самолюбцем», претендующая быть «всемирным возглашателем истины», «наставником молодых», принимающая только похвалу ее таланту, не знающая удержу в своем самодержавном гневе и оттого беспрестанно угрожающая своим противникам «кнутами да виселицами». В сатирическом образе, созданном Новиковым, все сразу узнали Екатерину. Мужество писателя, решившего показать обществу истинное лицо Екатерины-самодержицы, отважное разоблачение легенды о просвещенном характере русского абсолютизма, так любовно создаваемой самой Екатериной, привлекли всеобщее внимание, вызвали сочувствие многих. Журнал Новикова стал пользоваться огромной популярностью. Потребовалось увеличить его тираж. Выпущенное в том же 1769 году второе издание немедленно разошлось. Все попытки Екатерины средствами полемики уговорить Новикова кончились неудачей. Пришлось признать себя побежденной и отказаться от роли монарха-писателя, прекратить свою литературную деятельность, закрыть свой журнал «Всякая всячина» с тем, чтобы полицейскими мерами прекратить деятельность Новикова. В самом начале 1770 года его «Трутень» был закрыт.
В России было немало людей, которые не только следили за полемикой, но и сочувствовали Новикову. Свидетельством этого служат и растущие тиражи «Трутня», наряду с падением тиражей «Всякой всячины», и моральное поражение Екатерины в этой борьбе, и гласно высказанное признание нужности деятельности Новикова со страниц журнала «Смесь». В XX листе этого журнала, сразу после писем Правдолюбива и грозных ответов на них «Всякой всячины», было помещено письмо под названием «Господину издателю «Трутня»: «Прочитав вашего издания листы, начал я иметь к вам почтение». «Вы выводите пороки без околичностей, осмеиваете грубость нравов испорченных». «Г. издатель, не смотрите на клевещущих на вас, презирайте их, они достойны вашего презрения, и не смотря продолжайте свой труд так, как вы начали. Выводите порочных, ибо пороки, вообще осмеиваемые, не исправят порочных настоящего времени. Вы тем самым не раздражите истинных сынов отечества, ибо они сплетают вам за сие похвалы»; помните, «что вы прямой друг истинного человечества».