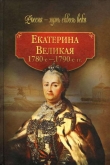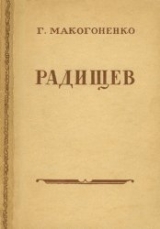
Текст книги "Радищев"
Автор книги: Г. Макогоненко
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 14 страниц)
Крестьянин трудится «и производит самонужнейшую вещь—хлеб», который надобен всей России. Они, крестьяне, такие же бедные, как и автор письма, несчастный разорившийся, впавший в страшную бедность Филатка, когда узнают о его горе, сообща помогают ему, умея найти форму активного сочувствия его горю. Помещик же Григорий Сидорович—не человек, а тиран, деспот, бесчувственное эгоистическое животное, неспособное поэтому понимать чужое горе и сочувствовать ему.
Дворянин только тогда достигает высокой степени человека, заявляет Издатель «Трутня», когда он станет отличаться добродетелью, когда будет «стараться о благосостоянии государства больше, нежели о себе самом». И главное: «Чтобы, восходя на степень знатности», не забывал, «что те бедные, от коих он отличен, остались еще такими же бедными и что они требуют его помощи»,– то есть чтобы он не замыкался в себе, а умел жить общей жизнью, сочувствуя другим, и угнетенным прежде всего. Именно эта черта—сочувствие не вообще людям, а сочувствие крестьянам, находящимся в рабстве, по Новикову,– и есть главная мера ценности человеческой личности, мера русская, даваемая с позиций задач общественного движения. Вот почему Новиков не помещает статьи Эмина в своем журнале, где тот называет Издателя «Трутня» прямым другом истинного человечества. Всем содержанием своего журнала Новиков заявляет: нет, Издатель «Трутня» не вообще друг человечества, а друг тех, кто работает, защитник угнетенных, сочувствующий русскому хлебопашцу Филатке «со товарищи». Вот почему приславший в журнал письмо Правдин свидетельствовал: «Из ваших сочинений приметил я, что вы к состоянию крестьян чувствительны».
Так Новиков в 1769 году, за два года до приезда Радищева в Петербург, развил в новых условиях философию русского понимания человека, как патриота и гражданина. Мерою ценности личности устанавливалось не богатство его чувств, не самодовольное уединение, но активная общественная деятельность на благо отечества, что в данных исторических условиях прежде всего обозначало деятельность на благо находящегося в рабстве народа. В 1772 году в «Живописце» Новиков еще полнее разовьет мысль о том, что только в общежитии, в общественной, нужной согражданам деятельности, человек может осуществить себя как личность, во всем своем богатстве национального характера. Позднее, в 1778 году, в новом своем журнале «Утренний свет» он напечатает статью, которая обрушится прямо на догмы модных французских, немецких и английских сентименталистов, проповедовавших уединение человека, утверждавших, что человеку несвойственна общественная жизнь, что он может обрести счастье вне общества, вне активного сочувствия тем, кто страждет вокруг. «Общежитие прекрасно»,—читаем мы там. «Что бы было в обитании целого света, если бы должно было обитать его единому? Сирая вселенная есть понятие, огорчающее человека. Столь мило существовать вместе!» «Я сожалею о том счастливом, который отрицает себе утешения несчастливых, более ласкающие сердце, нежели все мертвые сокровища, который не радуется в общении с людьми».
Так дело, начатое Ломоносовым, было продолжено и углублено Новиковым. Русский народ, творец всемирно-исторических побед в петровскую эпоху, поставил в порядок дня русской жизни вопрос о своей свободе, о ликвидации крепостничества, о русской революции. Отражением этого, отражением еще слабым, непоследовательным, была литературно-общественная деятельность Новикова, его философия активного человека-гражда-нина, его эстетика, породившая произведения, отвечавшие потребностям русского общественного движения, и вслед за ломоносовским «Разговором с Анакреоном» полемизировавшие с догмами англо-французского сентиментализма.
«Трутень» вышел в 1769 году двумя изданиями, «Живописец» в 1772 году также дважды переиздавался. В 1775 году появилось так называемое третье издание «Живописца», по сути новый журнал, состоящий из лучших, радикальнейших новиковских произведений, взятых из «Трутня» и «Живописца», соединенных в одной книге. Это издание пользовалось особым успехом и в 1781 году вышло в четвертый раз. Это была самая популярная книга и самая радикальная, затрагивавшая наиважнейшие вопросы социального бытия России. Это была книга русская из русских, всеми своими корнями уходящая в национальную почву, в национальную традицию. Она служила для Радищева хорошим плацдармом для дальнейшего движения. Не случайно поэтому сразу по приезде в Петербург молодой Радищев устанавливает личную связь с Новиковым и с его помощью начинает свою литературную деятельность. В овладении уже достигнутых русской литературой успехов и эстетики Новикова прежде всего отлично помог Радищеву его первый общественный опыт, и с особой силой—события крестьянской войны, завершившие воспитание и формирование его революционных убеждений.
Вернувшись в Россию, Радищев приступает к изучению всей предшествовавшей литературы. В центре его внимания оказывается Ломоносов. Не ограничиваясь книгой, он знакомится с народным творчеством—сказками, сатирическими стихами, былинами и прежде всего песней. Уже по дороге в Петербург, когда он возвращался из Лейпцига, как только миновали «межу, Россию от Курляндии отделяющую», русская песня обступила Радищева. Пели ямщики, пели женщины у детских колыбелей, пели девушки, водя хороводы, пели бродившие по селениям нищие, слепцы, бобыли. Много и после этого приходилось ездить Радищеву по России, и это живое общение с народом помогло понять неведомое ему дотоле духовное богатство. Так, в песнях открыл он «скорбь душевную», «образование души нашего народа».
Отлично знавший западноевропейскую литературу, читая ее в подлинниках, Радищев имел возможность в сравнении уяснить себе все своеобразие плодотворной работы русских писателей, всю неповторимую самобытность создаваемых ими произведений. «Разговор с Анакреоном» Ломоносова, представляющий собою первый развернутый манифест русской литературы, формулировавшей основы национальной эстетики в открытой борьбе с враждебными ей нормами европейского искусства, «Телемахида» Тредьяковского, «Сатиры» Кантемира, «Трутень» Новикова убедительно свидетельствовали об этой самобытности. Судить творчество русских писателей по канонам искусства, господствовавшего во Франции, Англии и Германии, было невозможно. Лишь творчество Сумарокова и его школы отчетливо соотносилось с образцами общеевропейского классицизма. Но то была открыто дворянская, классовая литература, и она была чужда Радищеву и своими «монаршистскими» идеями, и проповедью «доблести дворян», и своей рационалистической, нормативной поэтикой.
Деятельность Кантемира открывала плодотворную эпоху в развитии русской литературы. По словам Белинского, «сатирическое направление со времени Кантемира сделалось живою струею всей русской литературы»10. Оно было «благодетельно» и «важно». На этой-то почве и могла появиться и пышно расцвести сатирическая журналистика 1769 года и писательская деятельность Новикова в журналах «Трутень» и «Живописец». Руководствуясь живой потребностью русской жизни, Новиков смело отрешается от канонов классицизма и нового, идущего с Запада искусства—сентиментализма, и создает свою эстетику «действительной живописи».
Новиков-писатель требовал, чтоб объектом искусства был действительный, исполненный мучительных контрастов и противоречий мир. В этом мире, обусловленный данным социальным бытием, живет человек. Изображение должно объяснить его характер, порожденный данными социальными условиями. Требуя от литературы активного вмешательства в жизнь, Новиков именно поэтому оружию сатиры верил больше всего.
В дальнейшем «действительная живопись» получает новый расцвет в творчестве Фонвизина, и особенно в его комедии «Недоросль». В этом произведении, написанном как бы в нормах классицизма, главным оказывается то, что разрушает классицизм,—реальная, конкретная, точно изображенная помещичья Россия, люди, поведение которых обусловлено их социальным бытием, в самодержавном государстве Екатерины И. Так перед Радищевым отчетливо предстала самобытная линия развития русской литературы—сатирическое направление, определяемое
Циально-политическими условиями жизни писателей крепостнического государства. Именно критика рабства и деспотизма рождала принципы реального, конкретного, достоверного изображения действительности.
Но критическое начало счастливо дополнялось утверждением. Русской литературе не был свойственен скептицизм и пессимизм. Рядом с отрицателем Кантемиром стоит Ломоносов с его утверждением великого будущего России, с его верой в творческие силы народа. На первом этапе развития эти два начала еще разъединены. У Новикова они сливаются.
Закладывая основы для будущего расцвета критического реализма, Новиков своей художественной практикой показал, что обличение должно неизменно сопровождаться утверждением. Вскрывать язвы социального бытия России, описывать «рабство и бедность», мучительство и тиранство всевозможных Трифон Панкратьевичей и Григорий Сидоровичей, рисовать правдивые картины «разоренных деревень», страдающих в них Филаток с «малыми ребятами» писателя обязывал долг гражданина. Но чувство, заставляющее «снимать личину», есть чувство патриотическое, оно продиктовано любовью к своему угнетенному отечеству, к своим порабощенным «еди-ноземцам». Вынуждаемый «бедоносными» устоями жизни на сатиру, на критику, на обличение, художник «с великим содроганием чувствительного сердца начинает описывать некоторые села, деревни и помещиков их». Это чувство боли за Россию и ее народ, этот патриотизм и определил положительное, утверждающее начало в художественном творчестве Новикова.
Лучшим образчиком органического единства начал сатирического и утверждающего являются «Отписки крестьянские», напечатанные в 1769 году в «Трутне». Одна из важнейших задач этих «Отписок»—противопоставить два мира: мир Филаток и мир помещиков Григориев Сидоровичей. Противопоставление это реализовано на конкретном примере—на решении судьбы Филатки. Впавший в отчаяние, начисто разоренный, больной сам, отягощенный «малыми ребятами» и большой семьей, он обращается за помощью, «бьет'челом и плачется» Григорию Сидоровичу, прося его помочь в этом крайнем случае. Григорий Сидорович, как истый помещик, не только не внял этому слезному плачу, но и повелел обездоленного
Филатку и старосту Андрюшку публично на сходе перепороть за то, что осмелились писать ему челобитную, за то, что обременили его своим «плачем».
Но строго и осудительно проведя читателя через все картины крепостнического ада, Новиков выводит его вдруг на чистый воздух, дает ему возможность припасть к чистой и живительной струе неувядаемой и торжествующей в любых условиях человечности—читатель попадает в неведомый ему крестьянский мир. Только у них, тружени-ков-хлебопашцев, можно найти утешение. Читатель узнает: крестьянский мир, мир бедных и разоренных
Филаток, есть великая сила и аккумулятор нравственной энергии—именно потому, что они—труженики, потому, что заняты трудом, нужным всему отечеству, потому, что они «питатели» и производят «самонужнейшую вещь»– хлеб. В ответ на бессердечное решение Григория Сидо-ровича «мир» помогает Филатке—он платит за него подати, он оставляет Филатке корову, потому что хочет поднять его на ноги, потому что в нем есть уважение и любовь к человеку, потому что ему свойственна жалость. Читатель «Трутня» и «Живописца» получал произведение, полное антикрепостнического пафоса, гневного обличения и глубокой патриотической любви к своему «бедствующему» отечеству, к народу, сохранившему, несмотря на рабство, подлинно человеческую нравственность. Русская критическая литература начинала свое развитие с органического сочетания тех двух начал, которые, по мнению Белинского, и составили в будущем существо русского реализма: «патриотическое, беспощадное одергивание покрова с действительности» и «кровная любовь к плодовитому зерну русской жизни»11.
Эта тема нашла новое развитие в фольклоре, вторгавшемся в русскую литературу с небывалой до того силой в 60-х годах. Народ рассказывал о себе сам, заставляя многих дворянских писателей задуматься «над образованием души» его, над его судьбой, над его положением. Особенно много сделали для распространения сказок, песен, пословиц такие два антидворянских писателя, как Михаил Попов и Михаил Чулков.
Весь этот опыт русской литературы по-новому был освещен для Радищева восстанием Пугачева, которое было для него высшим актом народного творчества. Став глашатаем народной революции, он политике подчинил свою литературную деятельность. Критика рабовладельческих порядков определяла и до Радищева сатирическое направление. Радищев же встает на путь отрицания самого помещичье-самодержавного государства. Вот почему небывалую дотоле силу приобрела сатира Радищева. Вот почему в книгах его предстала потрясшая читателя реальная картина самодержавной России, этого «чудища, обло, озорно, огромно, стозевно и лаяй», изображенная большим писателем с почти документальной достоверностью. Но те же революционные убеждения позволили Радищеву по-новому развернуть положительную программу. Народ и его революционная энергия, преобразующая мир деспотизма и угнетения, жестокости и неволи; народ, как строитель будущей республики свободных тружеников, как создатель новой, глубоко человеческой культуры; свободная, преобразованная Россия– таково конкретное содержание этой положительной программы.
Естественным оказалось для Радищева использование фольклора, который усиливал его и политическую и художническую зоркость, сближал с теми, от кого он ждал спасения России.
Создавая эстетику героической литературы, требуя от нее служения делу освобождения русских крепостных от рабства, Радищев и теоретически и практически обосновывал развитие русского реализма. По-хозяйски используя опыт своих предшественников, он закладывал мощное основание такой литературы, на почве которой будет построен гением Пушкина реализм, как новая эпоха в искусстве.
И здесь должна быть отмечена еще одна заслуга Радищева: он уберег русскую литературу от бурного наступления нового, антифеодального, но глубоко буржуазного в своем существе литературного направления—сентиментализма.
Продолжая национальную традицию, Радищев, создавая произведения, посвященные насущным вопросам русской общественной политической жизни и прежде всего делу русской революции, воевал с модным течением нового буржуазного искусства—сентиментализмом и, в частности, с Руссо. Историческая зоркость Радищева, предопределившая необходимость защиты русской литературы от чуждых ей влияний, поразительна. В 90-е годы, в пору жестокой расправы над передовыми русскими писателями—Радищевым, Новиковым, Фонвизиным и Крыловым—восторжествует это новомодное влияние, создав целое направление так называемого дворянского сентиментализма, возглавленного Карамзиным. Но труд Радищева не пропал даром: Пушкин в своей борьбе со школой Карамзина – Жуковского с благодарностью обратится к творчеству Радищева, станет опираться на его опыт в создании эстетики русского критического реализма.
Восьмидесятые годы, годы интенсивной творческой работы Радищева, явились периодом мощного развития русской демократической культуры. «В каждой национальной культуре,—учит Ленин,—есть, хотя бы не развитые, элементы демократической и социалистической культуры, ибо, в каждой нации есть трудящаяся и эксплуатируемая масса, условия жизни которой неизбежно порождают идеологию демократическую и социалистическую»12. Элементы демократической культуры, предшествовавшей Радищеву, в многогранной его деятельности (писатель, политик, философ, экономист, поэт, государствовед, историк) получили свое новое мощное развитие. Творческое наследие Радищева, все проникнутое страстной защитой интересов народа, воспитывавшее ненависть к самодержавию и дворянам-крепостникам, подчиненное одной цели—революционному обновлению страдающей в рабстве Родины,—противостояло враждебной ему дворянской и буржуазной культуре.
«Но в каждой нации есть также культура буржуазная (а в большинстве еще черносотенная и клерикальная)—притом не в виде только «элементов», а в виде господствующей культуры»13. Вот почему на каждом произведении Радищева лежит печать полемичности, вот почему они проникнуты духом нетерпимости ко всему строю крепостников и собственников. Радищев открыто воевал с тем, что мешало делу освобождения крестьян, что было чуждо народу, мужественно отрицая господствующую культуру. Дворянство и самодержавие, а позже буржуазия отлично понимали это и потому с таким ожесточением бо-родись с ним, с его книгами, даже с памятью о нем—ибо законно видели в нем своего непримиримого врага.
Первым произведением, написанным Радищевым после долгого перерыва, явилось «Слово о Ломоносове», над которым он начал работать в 1780 году. «Слово»—важнейший этап в творчестве Радищева. Оно всем строем своим, манерой, стилем органически связано с «Дневником одной недели» и в то же время открыто обнажает смысл идейного разрыва с этим первым произведением, рождение новой эстетики.
Радищев, словно нарочно, сближает эти два своих произведения для того, чтобы ярче было видно то новое, что в корне отличает их друг от друга. В «Дневнике» есть глава «Четверток», рассказывающая о посещении героем кладбища. В известных Радищеву образцах европейского сентиментализма кладбищенская тема—важнейшая. В многочисленных произведениях кладбище рассматривается как место вечного успокоения, смерть трактуется как избавительница от страданий, которые несет человеку враждебная действительность. «Уединенный» человек сентиментализма, думая о смерти, раскрывал все неповторимое богатство своей индивидуальности. Он терзал себя и наслаждался мукой и в этой «мучительной радости» обретал высшую жизнь. И Радищев заставил своего «несчастного» посетить кладбище. «На месте сем, где царствует вечное молчание, где разум затей больше не имеет, ни душа желаний, поучимся заранее взирать на скончание дней наших равнодушно... Приучим заранее зрение наше к тленности и разрушению, воззрим на смерть,—несчастный хлад объемлет мои члены, взоры тупеют. Се конец страданию». Так, будто послушный ученик, вел себя герой «Дневника». Но дальше вторгался Радищев, протестующий против условных и нелепых для живого человека чувств и страданий. «Мне умирать?»– восклицает возмущенный герой и тут же останавливает себя в своем протесте против навязанной догмы—нс ты ли хотел приучать себя заблаговременно к кончине? Но следующая фраза героя свидетельствует о полном разрыве его с противными человеческой природе переживаниями: «Мне умирать? Мне, когда тысячи побуждений существуют, чтобы желать жизни!.. Мне желать смерти? Нет, обманчивое чувствие, ты лжешь, я жить хочу, я счастлив!»
Вот из этого Здорового, активного жизнелюбия, взбунтовавшегося против догм индивидуалистической философии, и вырастало «Слово о Ломоносове». Начало его как бы возвращает нас к уже известной картине—герой бродит за городом и заходит на кладбище, «Ворота были отверзты. Я вошел... На сем месте вечного молчания, где наитвердейшее чело поморщится несомненно, помыслив, что тут долженствует быть конец всех блестящих подвигов». Кладбищенская тема начисто разрушалась изнутри,—не «конец страданию», не внимание к субъективному, болезненному состоянию, а «конец всех блестящих подвигов», то есть философское рассуждение героя над объективными судьбами других людей.
Вместо стихии субъективного созерцания, «приучения себя к смерти», внимание героя привлекает объективный мир. Он замечает пышность памятников, и это вызывает его гневное, сатирическое слово о гнусности человеческого тщеславия, цветущего и торжествующего не только при жизни, но и после смерти: «на месте незыблемого спокойствия и равнодушия непоколебимого могло ли бы, казалося, совместно быть кичение, тщеславие и надменность. Но гробницы великолепные? Суть знаки несомненные человеческия гордыни».
Так совершается в пределах традиционной кладбищенской темы коренной переворот в эстетике: вместо стихии «субъективности», равнодушия к окружающему миру, к реальности бытия, к другим людям—интерес и доверие к объективной действительности, к судьбам и бытию других людей. В «Дневнике» мы были погружены в больную мятущуюся душу человека, ничего не зная ни о нем, ни о его окружении. В «Слове» мы видим реального человека, бродящего по Невскому кладбищу, осматривающего памятники, возмущающегося надменностью и гордыней, останавливающегося, наконец, перед памятником великому русскому поэту и задумывающегося о его судьбе, о его вечной славе. Мы знаем, что герой пришел на кладбище после прогулки в роще, что «солнце липе свое уже сокрыло, но легкая завеса ночи едва, едва ли на синем своде была чувствительна».
Закономерной поэтому оказывается и новая тема– не самораскрытие героя, а попытка построения объективной биографии другого человека, раскрытие его духовного мира, его «чувствований». Но еще важнее сам выбор героя—им оказывается не просто другой человек, но исторический деятель, «великий муж, исторгнутый из среды народные», первый из совершивших подвиг во благо отечества, русский не только по рождению, но по духу, по делам своим. Отказавшись от формулы «человек велик своим чувством», Радищев ищет иную, русскую меру ценности человека, и, обращаясь к русской жизни, к событиям всемирно-историческим, он находит героя, жизнь которого позволяет открыть то важнейшее, что определяет личность, ее индивидуальность, ее достоинства и духовное богатство—заслугу обществу. Ломоносов «подстрекаем науки алчбою», «собирает познание вещей», изучает языки, математику, логику, химию, физику, словесность, входит в «храм любомудрия»—все для того, чтобы оказать «услугу отечеству». Он преобразует русское стихотворство, «преподает правила российского слова, вознамереваясь «руководствовать согражданам своим». Слово, по Ломоносову, дано человеку «для сообщения своих мыслей», оттого сам поэт создает грамматику, риторику, облегчая общение между русскими людьми, распространение знаний, открывая возможность общественного «действия на своих современников». В этом последнем действии первую роль играют его «творения», возросшие на обновленном им языке. Творения Ломоносова повествуют о том, «что он был», открывают намерение «сообщить согражданам своим жар, душу его исполнявший». Но чем больше находит Радищев в Ломоносове-поэте достоинств патриота, тем яснее становится ему и недостаточность, неполнота этого патриотизма. Радищев, уже окончивший русский «университет», считает нужным указать на исторически объясняемые слабость, ограниченность Ломоносова-человека. Он был великим патриотом и гражданином, но Радищев скорбит, что он «льстил похвалою в стихах Елизавете», что «не восстал он на губительство и всесилие», что не обратил слова своего в защиту русского хлебопашца.
В 1782 году Радищев пишет «Письмо другу, жительствующему в Тобольске», тесно примыкающее к «Слову о Ломоносове». Принципы, выработанные в «Слове», торжествуют в «Письме». Внимание Радищева привлекает реальный исторический факт—открытие памятника Петру I работы Фальконета. Он описывает документально точно все происходившее на Сенатской площади в этот день. Поэтому уже само начало вводит нас в атмосферу этой исторической достоверности: «Сочинено 8 августа 1782 года. Вчера происходило здесь с великолепием посвящение монумента Петру I». «Вчера»—соответствует действительности—письмо писалось 8-го, а памятник открыт был 7 августа.
Новое произведение написано человеком, не мыслящим существования вне общежития, высоко ценящим живое общение с людьми и особенно «беседование» с другом. Присутствуя при открытии монумента, взволнованный событием, он задумался над судьбой этого удивительного царя, над тем, что сделал он для России, над принципами монархического правления вообще и немедленно спешит поделиться с этими своими думами, приглашает «на беседование» того, с кем «юношеские провел дни свои». Как и в «Слове», героем «Письма» является не автор его, а другой человек, и опять исторический русский деятель– Петр I. В облике «властного самодержца» Радищев увидел могучую личность великого русского «плотника», воодушевленного заботой об отечестве, основателя «града на Неве», обновившего Россию», сообщившего «стремление» своему отечеству—«столь обширной громаде, которая яко первенственное вещество была без действия». Именно патриотическое чувство делало Петра замечательной личностью, именно эти деяния на благо отечества позволили Радищеву «вознести ему хвалу» и видеть в нем «мужа необыкновенного, название великого заслужившего правильно».
Но еще более, чем у Ломоносова, Радищев видит ограниченность патриотизма Петра, ограниченность его личности. Ломоносов не способствовал духу вольности, Петр ничего не мог сделать для освобождения народа, ибо он был царем, самодержцем: «Нет и до скончания мира примера может быть не будет, чтобы царь упустил добровольно что-либо из своея власти, седяй на престоле». Ломоносов «не восстал на губительство и всесилие», не защитил пребывавший в рабстве народ, и в этом, по Радищеву, его вина. Петр, будучи царем, «истребил последние признаки дикой вольности своего отечества» и оттого вторым монументом, незримо возвышающимся рядом с фальконетовским, была «ненависть к нему его современников».
Здесь же Радищев открыто говорит о том, что может воспитать и создать истинного человека. «И я скажу, что мог бы Петр славнея быть, возносяся сам и вознося отечество свое, утверждая вольность частную». Радищев точно формулирует свою меру ценности личности, свое определение патриотизма: деятельность, направленная на утверждение «вольности частной», борьба за освобождение крестьян от рабства, за свободу’ сограждан. Это и есть наивысшее патриотическое служение, более всего «возносящее» отечество, а равно возносящее человека к наивысшему самораскрытию своей индивидуальности, своего духовного богатства. Так впервые в произведениях Радищева осуществляется слияние патриотизма и революционности. Это поднимало его творчество на новую ступень. Такое понимание патриотизма идейно вооружало русскую литературу.
После «Письма к другу», начиная с оды «Вольность», героем новых произведений Радищева станет патриот-гражданин или, как его назовет сам автор, «прорицатель вольности», утверждающий свое человеческое достоинство в политической борьбе против русского самодержав-ства и крепостничества. В оде «Вольность» лирический герой автобиографичен. После «Слова о Ломоносове», после «Письма к другу», где героем был исторически реальный деятель, Радищев как бы возвращается на позиции «Дневника одной недели» с ее стихией автобиографичности и исповедности. Но это только кажущееся возвращение,—Радищев обратился к проблеме автобиографичности, обогащенный опытом русской литературы, обратился с позиций человека, ставшего на путь «борзых смельчаков»,—путь революционной деятельности, и оттого сумевший исторически взглянуть на самого себя. Русская история, которой много занимался Радищев именно в 80-е годы, говорила ему: в пантеоне русских деятелей было много великих мужей, лучшие из них—патриоты, сыны отечества, оставившие неизгладимый след в жизни России и ее народа,—такие, например, как Петр, Ломоносов. Ныне общество выдвинуло на первый план крестьянский вопрос, вооруженная крестьянская война поставила на долгие годы в качестве первоочередной задачи ликвидацию крепостничества и самодержавия. В этих условиях нужны и новые деятели, нужны «прорицатели вольности», нужны революционеры. Он, Радищев,—первый это осознавший и мужественно начавший борьбу,—тем самым объективно становится историческим деятелем. Лирическая стихия оды «Вольность» воссоздавала духовный облик первого русского революционера, она раскрывала нравственное богатство не личности вообще, а русского человека 80-х годов XVIII века, осознавшего необходимость подготовки народной .революции в России, опиравшегося в своих выводах на объективный ход общественного развития, на творческий опыт восставшего от «тяжести порабощения» русского крепостного крестьянства. Радищев, человек, лирически раскрывший себя в оде, выступает как объективное явление русской истории, русского революционного движения.
Небывалым предстало «тайное тайных» души лирического героя оды. Ненавистник рабства, свободолюбец, он жил единой жизнью с окружающим миром, его мечты прорывали «завесу времени, будущее от нас отделяющую». Он печалился—и это была скорбь патриота, видевшего «в отечестве своем драгом» ненавистное самодержавие и рабство. Он мечтал—и это была мечта о революции в России, о «дне избраннейшем всех дней».
Радищев показал, как весь духовный мир его лирического героя конкретен и оттого обусловлен национально-социальными обстоятельствами политического бытия России. В этом отношении особый смысл имеет строфа, в которой Радищев формулирует свое понимание целей и смысла человеческого существования, определенных условиями России, верным сыном которой он оставался. После описания победы революции в Америке Радищев взоры свои обращает к своей родине и решительно заявляет, что как ни дорога ему свобода, но он никогда не уедет из своего отечества, не прельстится заокеанскими благами, а останется у себя в России, останется для того, чтобы добывать истинную свободу для своих соотечественников. Он пишет:
Но, нет! где рок судил родиться,
Да будет там и дням предел,
Да хладный прах мой осенится Величеством, что днесь я пел;
Да юноша, взалкалый славы,
Пришед на гроб мой обветшалый,
Дабы со чувствием вещал:
«Под игом власти, сей рожденный,
Нося оковы позлащенны,
Нам вольность первый прорицал.
«Обаятелен мир внутренний,—писал в одном из своих писем Белинский,—но без осуществления во вне он есть мир пустоты, миражей, мечтаний». Это открыл для себя Радищев. Его внутренний мир—мир «прорицателя вольности» и русского революционера—жаждал осуществления вовне, этим внешним миром была для него Россия. Вот отчего так обаятелен и прекрасен мир этого чело^ века.
IX
После оды «Вольность» в годы 1784—1789 Радищев пишет два своих центральных произведения: «Житие Ф. В.Ушакова» и «Путешествие из Петербурга в Москву», внутренне связанных идейной общностью.
«Житие Ушакова»—это обобщение прошлого опыта, сделанное с позиций уже сложившегося революционного самосознания.
В «Дневнике одной недели» Радищев полемизировал и пытался показать психологическую несостоятельность одного из тезисов Руссо, сформулированного в романе «Эмиль или о воспитании». «Житие Ушакова»—книга, выросшая в атмосфере резкого и всеобщего критического пересмотра идей радикального французского мыслителя, пересмотра с позиций национальных задач русской революции.