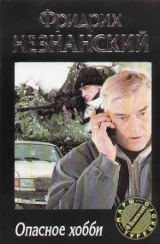
Текст книги "Опасное хобби"
Автор книги: Фридрих Незнанский
Жанр:
Прочие детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 33 (всего у книги 35 страниц)
Грачев обернулся, взглянул на круглые электрические часы, укрепленные над фасадом клиники, и, вздохнув, констатировал:
– Извините, время давно вышло. Пора на процедуры, хотя все это… как мертвому припарка. Пойду, однако. Перфильеву доброго здоровья от меня. И спасибо, что о хороших днях напомнили. Рад, если сумел помочь… А грека нашего, выходит… Ну что ж, значит, каждому свое. Бог – он все видит. Прощайте…
Уже медленно уходя в корпус, Грачев, словно почувствовав спиной напряженный вгляд Турецкого, вдруг обернулся и поманил его пальцем:
– Если только это возможно… Когда станете рисунки возвращать в Эрмитаж, намекните Ивану, может, он, если будет нетрудно, фото сделает с тех рисунков, я бы хоть разок поглядел на них перед смертью… Если успею, конечно. – Он широко улыбнулся и ушел.
53
Поскольку шел уже седьмой час, а народ в учреждениях, как известно, никогда не нарушал законодательства о труде, Турецкий счел бесполезным возвращаться в Эрмитаж, под мощное крыло Вероники Моисеевны, и отправился на Васильевский остров, в общежитие, адрес которого дал ему Маркашин.
Не без труда найдя его и обговорив свои проблемы с комендантшей, пожилой, интеллигентного вида и обращения женщиной, Турецкий уже в девять вечера смог раздеться и завалиться в койку. Пахло свежей побелкой, за окном была тишина– окна выходили во двор старого петербургского дома. И этот двор-колодец, серый и мрачноватый, напоминал какие-то ускользающие картинки из Достоевского. Решив раз и навсегда отоспаться, Саша закрыл глаза, а открыв их уже утром, понял, что приказ свой выполнил с лихвой. Если верить часам, шел десятый час утра. Ничего себе!
Вероника Моисеевна обиженно надувала ярко накрашенные, пухлые губки и вообще всем своим видом демонстрировала, что ее совершенно незаслуженно обидели.
Почтительно чмокнув ей ручку, Турецкий объяснил, что допоздна вынужден был задержаться в прокуратуре. Ну а потом… поскольку выбора уже не оставалось, пришлось переночевать в общежитии аспирантов. Просто для приличия добавил, что заглянул, правда, в парочку гостиниц, но ведь сейчас самый сезон: мест, конечно, не было. Пришлось воспользоваться любезностью зама прокурора города. И, кстати, его транспортом. Последнее как бы примирило обманщика следователя с обиженной им до мозга костей дамой, в кои-то веки предложившей ему свои услуги.
Турецкий полностью осознавал свою вину, что подтвердил красноречивым и проникновенным взглядом, под которым дама слегка заерзала на стуле. Мир был восстановлен.
До середины дня в ожидании прибытия заместителя директора по кадровым и прочим вопросам Саша слонялся по залам Эрмитажа, отдавая предпочтение импрессионистам, коих у нас, оказывается, было представлено немало. Там же, в зале Матисса, и нашла его Вероника Моисеевна, сообщив, что Андрей Григорьевич прибыли и готовы принять московского следователя.
Разговор шел с глазу на глаз. У Андрея Григорьевича, наверняка отставного генерала, было ничего не выражающее, какое-то безучастное лицо, не освещаемое, в отличие от той же Вероники, никакими эмоциями. Он внимательнейшим образом ознакомился с документами Турецкого, его полномочиями, побарабанил пальцами по полированной крышке пустого стола и… разрешил заняться архивом 1950 года.
Два следующих дня Турецкий не откликался на тщетные призывы страждущей Вероники Моисеевны. Уезжал из музея поздно и в общежитии валился на койку и закрывал глаза. И точно так же открывал их рано утром. Ужинал и завтракал он неподалеку от общежития, в маленьком частном кафе на Пятой линии, где готовили вкусно и сравнительно недорого. Днем, когда сотрудники архива отправлялись обедать, заходил к Перфильеву попить чайку. Он рассказал Ивану Ивановичу о посещении Кости Грачева, и старик долго покачивал головой, переживая.
Тяжелое и неблагодарное это дело – рыться в архиве в поисках неизвестно чего. Каких-нибудь следов, которых вполне могло и не быть, ибо оставлять после себя следы не любила никакая сила, облеченная еще и безграничной властью в государстве. То, что ей надо было знать, она знала, а другим – и не требовалось. И того, кто вольно или невольно проникал в ее коридоры, да, не дай Бог, еще смелость – или наглость? – имел что-либо вякнуть по этому поводу, наказывали быстро и безжалостно.
Во время одного из чаепитий Иван Иванович назвал Турецкому – который, по его словам, уже глубоко погрузился в архивную пучину, взявшись не только за год пятидесятый, но и за четыре предыдущих, когда в фонды музея стали прибывать эшелоны с трофейными грузами, – десяток фамилий людей, которые бесследно исчезли в эти годы. Собственно, следы-то найти, пожалуй, можно, да их, возможно, и нашли те, кому нужны были сведения о канувших в лагерную Лету своих родственниках.
Но Турецкий понимал, что это дело уже не его, а тех новых историков, которые когда-нибудь захотят рассказать полную правду, без утайки, о честных людях, приверженных высокому искусству и положивших за него свои жизни.
В нескольких документах упоминалась фамилия Константиниди Г. Г., которому было предоставлено право сопровождения «особо ценного груза» для передачи его в спецхраны музеев Москвы, Загорска и ряду других подмосковных городов. Вот оно, то самое, понял наконец Турецкий. Что это за «особо ценные грузы», объяснил ему все тот же Перфильев.
– Да к себе же вывозили, – мрачно бубнил он. – Небось читали в газетах, как при обыске в доме этого самоубийцы Щелокова были обнаружены картины, которые годами в розыске числились? Чему ж тут удивляться? А наши уважаемые министры, которых, извините, обслуживали все эти искусствоведы в штатском, эти что? Откуда у них у всех бешеные деньги на дачи и прочее? Что, зарплата большая?
– А им бесплатно строили, – махнул рукой Турецкий.
– Не скажите, молодой человек. А брильянты? А целые коллекции? Не-ет, все не так просто, как вы себе представляете. Я почти уверен, что в их интересах действовала целая шайка… Или целая система, если хотите. Не подумайте, что я любитель анекдотов, но вот расскажу такой случай. Сам тому свидетелем не был, но слышал от человека, которому доверяю вполне. Перед тем как отдать Дрезденскую картинную галерею, наши художники получили задание снять копии с некоторых полотен. А имен такого рода по-своему весьма талантливых живописцев я мог бы назвать десятки. Так вот один из них, завершая уже свою работу в Москве, в залах Музея изобразительных искусств, извините, мне удобнее по старинке, то бишь в цветаевском музее на Волхонке, услышал за своей спиной шаги. Приближался один из самых-самых в нашем правительстве. Остановился за спиной художника, копировавшего картину, и вдруг говорит в раздумье: «Право, не знаю, что и делать. Копия-то, пожалуй, более впечатляет, нежели оригинал. А что вы скажете?» И обращается, ну там, Александр, скажем, Иванович? А тот, не будь дурак, и отвечает: «Ежели, говорит, думать о пользе отечественного искусства, отдавайте им оригинал!» А! Каково! – Слабая улыбка озарила хмурое лицо искусствоведа. – Но должен вам заметить, что впоследствии поступали как раз наоборот. То есть не в том смысле, что дарили, нет. Но отличные копии оставляли в архивах, а оригиналы, вероятно, и не за малые деньги, продавали или присваивали себе. Вот так-с, молодой человек. Когда-нибудь дойдут у вас руки, вот бы и занялись сим нехорошим делом.
– Рук на все не хватает, Иван Иванович, – вздохнул Турецкий.
– Вот то-то и оно, – погрозил неизвестно кому пальцем Перфильев.
Наконец Турецкому крупно, как он выразился, повезло. Он обнаружил копию письма директора Государственного Эрмитажа Иосифа Абгаровича Орбели никому не известному в музее Ивану Симоновичу Никифорову в далекий от Питера город Миасс, что в Челябинской области. Письмо, отпечатанное на именном бланке, было кратким, но вполне достойным академика.
«Многоуважаемый Иван Симонович! От имени нашего коллектива и своего лично я приношу Вам глубочайшую благодарность за ваш бесценный вклад в сокровищницу мирового искусства. Ваша безвозмездная передача шедевров, созданных карандашом и пером великих мастеров Возрождения, лишний раз подчеркивает то обстоятельство, что глубокое уважение к культуре стало основой бытия советского человека, постоянно осознающего свою непреходящую ответственность за сохранение и дальнейшее развитие мировой культуры и искусства.
Надеюсь также, что Вам удастся передать слова нашей благодарности и вашему другу, Константину Сергеевичу Грачеву, спасшему от гибели и забвения эти замечательные произведения мирового значения.
С глубоким уважением, академик И. А. Орбели».
Ну и куда же ушла эта папочка, получившая свой инвентарный номер, печать Эрмитажа и место на полке для хранения? Каким образом оказалась она в тайнике туалетного столика дочери Константиниди – Ларисы Георгиевны? Где тот глаз, который должен был неусыпно следить за этими «произведениями мирового значения»?
Ответить на этот вопрос мог бы лишь один человек, которому до 1950 года, то есть до полной отставки из органов, было предоставлено право, как утверждают найденные документы, «сопровождение особо ценного груза». Но увы. Сказать что-либо по этому поводу Георгий Георгиевич Константиниди уже не может. А дочь его, Лариса Георгиевна, сделает вид, что ничего не знает…
Примчалась вся светящаяся Вероника Моисеевна и сообщила, что Александра Борисовича срочно вызывает Москва по какому-то весьма важному делу.
Турецкий в сопровождении этого великолепного, страстно дышащего за спиной гренадера промаршировал по многим лестницам бывшей императорской резиденции в кабинет заместителя «по связям». Небрежно присев на край стола, Турецкий набрал московский номер Меркулова.
Костя спросил, как дела. Турецкий выразительно посмотрел в глаза Вероники Моисеевны, замершей в ожидании, и та, показав взметнувшимися пышными руками, что все-все поняла, степенно выплыла из своего кабинета.
– Ты там, что ли, не один? – догадался Костя.
– Теперь уже один. Что случилось?
– Нашел что-нибудь нужное?
– Да.
– Тогда чего сидишь там? Прошу заметить, тут и так дел невпроворот и почивать в архивах – роскошь для нас непозволительная. Если есть возможность, возвращайся.
– Что-нибудь экстра?..
– Вот именно. Но совсем из другой оперы. Придется тебе все дела оставить на коллег и срочно вылететь на Урал. Убийство губернатора. Поэтому если можешь…
– Конечно, смогу, Костя. Хотя здесь, конечно, еще копать и копать. Но для этой цели надо возбудить расследование по новому делу. И начинать с серьезнейшей искусствоведческой экспертизы, а затем нам самим крепко и надолго засучивать рукава. Есть еще вариант – передать материалы следствия Федеральной службе безопасности. Поскольку, как я теперь понимаю, некоторых государственных и партийных деятелей придется серьезно побеспокоить в их гробах. Пойдем ли мы с тобой на эту безумно муторную затею, решать не мне. Но – готов подчиниться любому здравому решению.
Костя долго молчал, потом сказал как-то устало:
– Ладно, забирай имеющиеся материалы. Завтра с утра жду с докладом.
Низко поклонившись Веронике Моисеевне, Турецкий отправился к Андрею Григорьевичу и передал ему список документов, с которых попросил снять на ксероксе копии. Причем немедленно, поскольку неотложные дела требуют уже утром быть в Генеральной прокуратуре. Замдиректора понял всю глубину ответственности, раз этого требует сам заместитель генерального прокурора. Поинтересовался лишь вскользь, каковы могут быть последствия. Это и естественно, о чем же еще мог он думать? Не коснется ли где его лично? Но, узнав, что все документы помечены датами с 1947-го по 1950-й год, успокоился. Такая седая старина к нему лично не могла иметь отношения.
Конечно, следовало бы копнуть и глубже, и ближе к нашим дням, но на это у Турецкого уже не хватало времени.
Документы были ксерокопированы, ксерокопии сложены и подшиты в картонную папочку. Турецкий заглянул к Перфильеву попрощаться. Старик выразил сожаление, что вот, мол, единый раз, когда начали было делом заниматься, да и на то времени не хватает. Турецкий объяснил, что именно это дело требует не поверхностного ознакомления, а глубокого, серьезного анализа с привлечением больших сил – и следовательских, и искусствоведческих. Ну а в том, что фонды безжалостно разворовывались – в государственных ли интересах, в личных, – нет сомнения. Надо немного подождать. А потом взяться всерьез и надолго. Такая ревизия может продлиться не одну неделю, возможно, месяцы, если не годы.
И еще об одном одолжении попросил Турецкий Перфильева. Он передал ему одну из копий письма академика Орбели, подробно рассказал, как отыскать Константина Грачева, и поведал о желании смертельно больного старика в последний раз взглянуть на фотографии спасенных им рисунков. А когда они вернутся в Питер, еще не известно, так, может, найдется возможность отдать ему хотя бы благодарственное письмо Орбели. Перфильев пообещал сделать это сам…
– Значит, встретимся не скоро… – вздохнул Перфильев и улыбнулся открыто и немного застенчиво, может быть, впервые за прошедшие три дня. – Жаль. Полагаю, не доживу. Но мне было искренне приятно пообщаться с вами, молодой человек…
Вероника Моисеевна заметно расстроилась. Ведь именно на сегодняшний вечер она выстроила для себя определенные планы, в которых верхняя позиция предназначалась Турецкому. И вот вдруг такой промах.
Турецкий поспешил уверить страстно задышавшую кариатиду, что ничего, кроме глубочайшего уважения и личной симпатии, к ней не испытывает, и если б не срочный вызов на работу, он бы несомненно составил ей компанию в любом указанном ею направлении. Обилие слов слегка приглушило готовую разгореться обиду. На миг даже мелькнула уж совершенно шальная мысль: посвятить остаток дня страждущей женщине и показать ей, что москвичи умеют быть благодарными.
Почувствовав чисто по-женски, что в сложившейся ситуации имеют место быть сомнения, Вероника двинулась на гостя, демонстрируя полнейшую своЧо готовность подчиниться его нахальству. Но Турецкий не был нахалом, хотя, если честно признаться, такого количества раскаленного женского тела за один раз ему никогда еще иметь не приходилось. Поэтому он поспешно ретировался, в качестве слабого утешения оставив огорченной Веронике твердое обещание при первой же возможности… Пусть теперь девушка спит и видит себя в объятьях старшего следователя по особо важным делам. Действительно, а кому ей еще отдаться в многомиллионном городе?
Потом Турецкий заскочил к Маркашину, и тот мгновенно организовал билет в обратном направлении.
Между делом петербургский коллега поинтересовался, что Турецкий успел нарыть. Саша с видимым удовольствием ответил, что для закрытия дела вполне достаточно, чем весьма успокоил осторожную душу заместителя прокурора «северной Пальмиры». Маркашин вызвал для Турецкого «разгонную» машину, чтобы та отвезла его в общежитие за сумкой, а затем на вокзал. С тем они и расстались, весьма довольные друг другом.
Дожидаясь на вокзале объявления на свой поезд, Турецкий, конечно, больше с юмором, чем всерьез, посожалел, что вечер прошел столь бездарно. И что он вполне мог успеть хоть в малой степени утешить несомненно очень глубокие чувства распаленной Вероники. Представив на миг ее и себя вместе, он решил, что любовь должна была бы вершиться только на полу, ибо ни одна мыслимая кровать их страсти просто не выдержала бы.
С этими не совсем приличными мыслями он и покинул город на Неве.
54
Доклад Меркулову был недолог. Посмотрев привезенные Турецким ксерокопии, Костя осуждающе, правда, непонятно в чей адрес, покачал головой и сказал, что и эту часть дела скоро можно будет считать завершенной. Что же касается рассказа Перфильева и обнаруженных в архивах Эрмитажа следов, то это совсем другое дело, которое требует особого внимания. О чем он лично и доложит днями генеральному прокурору. А какое примут решение, пока одному Богу известно.
Турецкому же сегодня следовало вылетать на Урал. Дело об убийстве президентского представителя было взято на особый контроль.
Следователи из бригады Турецкого в последний раз собрались в кабинете шефа, чтобы обсудить план окончания следствия и передачи его в суд. В общем, все уже было достаточно ясно, следствие было в принципе завершено. Оставалось ознакомить обвиняемых и адвокатов с материалами дела перед отправкой его в суд. Какие, в самом деле, можно было предъявлять обвинения министрам и прочим владыкам, давно упокоенным в аллеях Новодевичьего кладбища?..
Порадовал Кругликов. Он доложил, что Мыльников со товарищи провернул операцию сравнительно быстро. И по указанному списку было почти сразу названо несколько произведений, тот же Мане, Дега с его шляпками и ряд других, которые считались попросту утерянными. Как с колесами в известной пьесе по Василию Шукшину: колеса-то есть, но на самом деле их никогда не было, черт знает что… И по всем этим вопросам Виталию Александровичу Баю уже в ближайшие дни придется давать четкие показания.
Основного виновного, к сожалению, уже не допросишь. Его похоронили вчера на Троекуровском кладбище. Грязнов был на похоронах. А теперь со дня на день собирался вылететь в Венгрию, поскольку по сведениям, поступившим Мыльникову от его венгерских коллег, находящийся в Будапеште, аргентинский, правда, гражданин Вадим Борисович Богданов развил пока не очень понятную, но с явным уголовным креном валютную деятельность. Грязнов ждал лишь команды.
Но сегодня Слава провожал Турецкого в аэропорт Домодедово.
По дороге рассказал, как проходили похороны Константиниди. Народу было немного, и все не были знакомы ни ему, ни, похоже, Ларисе Георгиевне. Некоторые потом подходили и скорбно пожимали ей руку, выражая свои глубокие соболезнования. Говорили, что с покойным их связывали долгие годы служения искусству. Интересовались судьбой оставшихся полотен, предлагали свои услуги и помощь в устройстве их дальнейшей судьбы. Другие, молча постояв у осыпающейся могилы, так же молча ушли, словно удостоверившись, что со старым коллекционером больше не придется иметь дел. Странные, в общем, похороны.
Лариса попросила Грязнова отвезти ее домой, она была без машины, приехала на кладбище с Полиной Петровной на катафалке. Слава, и сам почувствовав облегчение, охотно отвез их с Полиной в Староконюшенный. Там Лариса пригласила его помянуть старика. Машину можно оставить до утра. В конце концов, это для Грязнова старик был человеком, склонным к нарушению законов, а для дочери-то отец. Выпили, не чокаясь, по рюмке водки, потом приехал очередной охранник, и Грязнов со спокойным сердцем покинул квартиру Константиниди.
Турецкий же поделился со Славой результатами своих поисков в Эрмитаже, и оба они пришли к единому мнению, что дело тухлое, поскольку концы его находятся в недрах бывшего КГБ. Захочет Федеральная служба безопасности поднимать пыльные тома или сочтет это лишним в настоящее время, решать уже не Турецкому с Грязновым. Но несомненно одно: кражей, перепродажей картин, подменой подлинников на копии занималась наша родная, отечественная государственная мафия, выпестованная в глубинах беззакония власти и абсолютной для нее вседозволенности. Какое место занимал в этой иерархии Константиниди, пока можно было только догадываться. На пахана, может, он и не тянул, но что близок был к престолу, и весьма, было несомненно.
Найденные у Константиниди полотна Кругликов проверит по каталогам Интерпола, и тогда решится их окончательная судьба. Но, скорее всего, Ларисе Георгиевне они будут уже не очень и нужны. Заметила же она однажды, что за все отцовские миллионы счастья все равно не купить.
Чтобы хоть немного развеселить друга, Турецкий рассказал, с каким трудом ему удалось избежать посягательств на свою невинность со стороны ответственного работника Эрмитажа. Посмеялись, и Грязнов, вдруг посерьезнев, сказал, что Каринка предложила им с Нинкой, как только закончится это поганое дело, съездить в круиз. На теплоходе, в каком-нибудь люксе, по всему Средиземноморью…
– Да, – философски заметил Турецкий, – мне это, увы, недоступно. А вам-то чего? Я бы на вашем месте охотно принял такое предложение.
– В люксе, она говорила, чуть ли не три комнаты, – со слабой надеждой заметил Грязнов.
– Славка! – погрозил пальцем Турецкий. – Я уже получил замечание от начальства. Оно ж у нас все видит, а душевного неравновесия замечать попросту не желает. Счастливого вам пути. А я не знаю, когда и вернусь-то теперь в Москву.
Он оказался очень недалек от истины. Потому что уральское убийство, хотя было и дерзким, но лишено видимых концов, за которые можно было тут же уцепиться. То есть исполнено в высшей степени профессионально…








