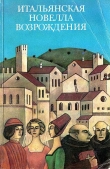Текст книги "Итальянская новелла Возрождения"
Автор книги: Франко Саккетти
Соавторы: Маттео Банделло,Антонфранческо Граццини,Мазуччо Гуардати,Джиральди Чинтио,Аньоло Фиренцуола,Поджо Браччолини
Жанры:
Классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 50 страниц)
Новелла VII[146]146
Эти шесть новелл образуют первый день «Бесед о любви», единственный «день», написанный Фиренцуолой полностью. Остальные четыре новеллы представляют собою отрывки из других, не завершенных автором «дней».
[Закрыть]
Сестра Аппелладжа, удаляясь в свою келью в то время, когда другие молились, находит особое средство против искушения плоти; а так как оно не понравилось настоятельнице, ее за это изгоняют из монастыря
В Перуджии был, да и поныне существует один монастырь, очень большой и полный благородных перуджинских дам, которые, не зная об этом моем рецепте[147]147
Об этом рецепте, по-видимому, должна была рассказывать предшествующая новелла.
[Закрыть], весьма удалились от устава своего отца св. Бенедикта: действительно, большая часть сестер, а может быть и все, с согласия настоятельницы, только и заботились о том, чтобы получить те удовольствия, которых их лишили либо скудость приданого, либо скупость отцов, либо пристрастие матерей, либо ненависть мачех, либо иные подобные обстоятельства. И дошли они до того, что, казалось, легче можно было найти скромность в любом другом месте, чем в этом монастыре, так что епископ, под влиянием скорее того недовольства, о котором ему все чаще и чаще заявляли местные жители, чем какой-либо собственной его особой заботы и радивости, был вынужден изыскать какое-либо средство против столь гнусного образа жизни. Посему он приказал часть их прогнать, особливо тех, кто, закореневши во зле, мало был способен вернуться на путь истины; другую часть он удержал, а несколько человек более испытанной жизни – как мирянок, так и монахинь из других монастырей – принял заново. В числе их оказалась почтенная старушка, которая пробыла, распространяя вокруг себя великое благоухание святости, свыше сорока лет в монастыре Монте Луччи и которую он и поставил во главе всех и назначил настоятельницей. Последняя, вводя новые правила и заставляя блюсти старые, примерами и добрыми увещаниями добилась того, что привела эту обитель к должному послушанию.
В числе прочих распоряжений настоятельница эта постановила, чтобы между ноной и вечерней, с ударом колокола, который она нарочно для того приказывала звонить, каждая монахиня ежедневно была обязана отправляться в церковь, или в свою келью, или куда ей казалось удобнее, и там, по крайней мере полчаса простаивая на молитве просить господа бога освободить ее от всякого злого искушения, в которое она могла бы быть введена своею плотью. И она считала, что та, кого она видела наиболее усердствующей в этом деле, более чем кто-либо стремится к лучшей жизни, ибо думала (и мысль эта была неплоха), что, если устранить этот соблазн, все остальное пойдет как нельзя лучше.
Но так как все насильственное недолговечно и нетрудно дурной воде вернуться в свое старое русло, случилось так, что в числе прежних, оставшихся в монастыре, была некая сестра Аппелладжа, которая, будучи молодой и красивой, не смогла долго удовлетворять колоколами и молитвами свой уже разбудораженный аппетит. Поэтому, так как она еще до всяких реформ была влюблена в некоего перуджинского юношу, знатного и очень богатого и пользовавшегося великой милостью Джован Паоло Бальоне, а тот в нее, они так сумели устроить, что очень часто оставались вдвоем в келье монашки, поверите ли – целых три или четыре дня подряд, и так осторожно, что было почти невозможно кому-либо из сестер это заметить. А так как она не могла находиться целыми днями запертой с ним в своей каморке, как бы ей этого ни хотелось, и для того, чтобы это не обнаружилось, и потому, что ей приходилось по монастырским делам проводить время с сестрами в других помещениях обители, она, как только услышит благословенный колокол, бежала под предлогом молитвы в свою келью, как в царство небесное, так что настоятельница, ни разу ничего не заметившая, видя ее усердие в исполнении этого послушания, имела о ней наилучшее мнение.
Но однажды случилось, что одна из прежних монахинь отправилась в огород набрать немного салату, чтобы послать его одной своей родственнице, как вдруг зазвонил искусительный колокол, и добрая монахиня, боясь, как бы посыльный не ушел без нее, пренебрегла молитвой и стала скорее наполнять свою корзиночку, о чем тотчас же донесли настоятельнице, которая, вызвав ее, задала ей такую трепку, что не приведи бог. И в числе прочих вещей, которые она ей наговорила, особенно обидело ее предложение поучиться у Аппелладжи, которая, мол, никогда не была занята делом настолько важным, чтобы не бросить его, лишь только она заслышит, что ударили в этот колокол. Когда же та, знавшая монастырских курочек, может быть, лучше, чем сама настоятельница, услыхала, что ее попрекают сестрой Аппелладжей, она не вытерпела и, разгневавшись, сказала про себя:
«Во что бы то ни стало необходимо мне посмотреть, откуда берется столько усердия и столько благочестия. Здесь дело нечисто. Я не я буду, если до чего-нибудь не докопаюсь, коли только возьмусь как следует. Одним словом, я решила посмотреть, что она делает в келье. Погоди, погоди только до завтрашнего дня; я не я буду, если не дам посмеяться всему монастырю!»
И так приговаривая, она, вся кипя от злобы, стала дожидаться, когда назавтра настанет час колокола искушения. Когда же он настал, Лишь только злая монахиня увидела, что сестра Аппелладжа бросилась в свою келью, чтобы избежать искушения, она, тихо-тихо приблизившись к двери и прорезав острием ножа отверстие в щели, которая изнутри была заделана бумагой, убедилась, что мудрая девушка нашла истинный способ избегнуть искушения. Поэтому, вне себя от радости, она, не производя никакого шума, явилась к настоятельнице, рассказала ей все как было и повела ее поглядеть на происходящее.
Я не берусь выразить вам горе и смятение, охватившее бедную настоятельницу, когда она услыхала о столь гнусном деле; и вправду, показалось ей, что пропали и время и труды, потраченные ею на столь многочисленные реформы. И поэтому, рассвирепев, она направилась к келье сестры Аппелладжи и, насильно заставив отпереть дверь, вошла, увидев собственными глазами то, чего она пред этим, может быть, и не представляла даже в мыслях, и чуть не упала наземь от ужаса. Но затем, обратившись к монашке, она «спустилась на нее с самой отменной бранью, какую когда-либо слышали подобные женщины, застигнутые в таком положении.
– Так вот она, причина твоей набожности, гадкая женщина, дочь сатаны? Так вот почему ты так поспешно бегала запираться в свою келью, потаскуха, блудодейка, срамница! Так вот какие плоды принесли назидания, которые тебе давались, проповеди, которые тебе читались, все мои реформы? Так, значит, для того я покинула Монте Луччи, чтобы видеть столько сраму, чтобы через два месяца собственными глазами увидать то, о чем я там не могла и помыслить в течение сорока лет? Упаси меня боже, чтобы я еще согласилась здесь оставаться и чтобы мне хватило духу пребывать в месте, где враг господень имеет столько силы и столько смелости!
И, сказав девице эти и подобные им слова, она, будучи очень хорошо знакома с тем, кого она с ней застала, и зная, что он не из тех, кто боится царапины, ничего другого не пожелала сказать ему, кроме того, чтобы он подумал, сколько юношей на ее веку кончили плохо, решившись нанести столь тяжкое оскорбление господу богу, и пусть он будет уверен, что оскорбил того, кто имеет слишком большие возможности за себя отомстить. Потом, снова обратившись к сестре, она прибавила:
– А для этой потаскухи я уж сумею найти отмщение, подобающее такому греху.
Но Аппелладжа, которой успели надоесть все эти разносы, не стала дольше терпеть и, обратившись к ней с таким лицом, будто из них добрая и хорошая она, сказала:
– Мадонна, вы поднимаете великий шум без всякой надобности, а по-моему, вы кругом не правы. Скажите-ка мне на милость, для чего вы приказали, чтобы каждый день с ударом колокола совершалась одиночная молитва, как не для того, чтобы каждая из нас избегала искушения плоти? Так какой же способ или какой путь сумели бы вы найти, который так же хорошо и так же верно уберег бы нас от соблазнов, как тот, который я избрала в настоящее время? Все ваши «Отче наш» и «Богородицы», мне кажется, их только увеличивают, а не уменьшают, если же я иногда после обеда и поступаю таким образом, я после этого ложусь вечером в кровать настолько облегченной и освобожденной от такого рода мечтаний, как ни одна из здешних монахинь. Одним словом, либо вы разрешаете мне избегать искушений по моему способу, либо вы меня отпускаете, чтоб я могла уйти туда, где мне лучше, ибо, что касается меня, я не намерена каждый день надрывать уши господу богу с тем, чтобы проводить ночь в еще больших соблазнах, чем прежде.
Настоятельница, услыхав столь дерзкий ответ, рассудила, что ей выгодней и для монастыря полезней отпустить ее, чем удерживать себе же на позор, и, внявши просьбам и приказаниям юноши, который по возрасту своему больше привык приказывать, чем просить, она уже не могла дождаться, когда освободится от ее присутствия, и дала ей волю уходить, куда ей только вздумается. А Аппелладжа в тот вечер отправилась ночевать к юноше в дом, где впоследствии она многие и многие месяцы избегала искушения плоти без всякого колокола.
Новелла VIII
Из двух друзей один влюбляется во вдову, которая похищает у него все, что он имеет, а затем выгоняет его. При помощи своего друга он вновь приобретает ее расположение, но в то время как она утешается с новым любовником, он убивает обоих, а будучи приговорен к смерти, спасается благодаря другу
Тому уж много лет жили во Флоренции двое юношей высокого рода и великого достатка. Одного звали Лапо Торнакуинчи, другого Никколо дельи Альбици. С малых лет их связывала дружба столь тесная, что, казалось, они не могут жить иначе как вместе. И после того как они в столь тесном союзе провели свыше десяти лет, отец Никколо умер, оставив имущества больше чем на тридцать тысяч дукатов, а так как в те дни случилось, что Лапо для каких-то его дел понадобилась сотня дукатов, Никколо, не дожидаясь его просьбы, не только ему помог, но и показал на деле и на словах, что тот может распоряжаться его имуществом, как ой сам. Поистине признаки благородной и добродетельной души, подававшие всяческие надежды, если бы чрезмерно вольная юность, естественно склоняющаяся ко злу, богатство, приобретенное без труда, и не слишком похвальное общество не увлекли его на дурную дорогу.
И точно, следуя по стопам тех, кто вечером ложатся в постель бедняками, а утром встают богачами и давно уже обретаются в нужде, он был окружен толпой юношей столь постыдного образа жизни, что они сняли бы сияние с любого из великих святых. И, сопровождая его то на ужины, то на обеды и зазывая его когда на один праздник, когда на другой, водя то к той распутной женщине, то к этой, они заставляли его тратить столько денег, что жалко было на него смотреть.
Заметив это, друг его, который был юношей весьма положительным и весьма сдержанным, огорчаясь этим до глубины сердца, целыми днями от него не отступал, напоминая ему о его добре, порицая за проступки и, наконец, оказывая ему все те добрые услуги, к которым его обязывала тесная дружба, их связывавшая. Однако все это ни к чему не приводило, потому что новые друзья со своими не скромными удовольствиями и дурными советами достигали гораздо большего, чем Лапо со своими добрыми увещеваниями. Они же, заметив намерения Лапо, столько стали говорить о нем злого Никколо и так стали осуждать его, что Никколо начал сторониться своего друга и, наконец, избегать его, показывая, что хочет жить по-своему. Заметив это, Лапо с досадой от него отошел и, не имея возможности поступить иначе, предоставил ему жить по-своему. Поэтому с бедным юношей, упорствовавшим в том образе жизни, которого он не должен был вести, и приключилось то, о чем он даже не думал.
Как раз в это время была во Флоренции молодая вдова, красивая, привлекательная и приятнейшего обхождения, которая еще при муже привыкла больше считаться с богатством, чем с честью, и, невзирая ни на свое происхождение, ни на мужнино (а то и другое было весьма благородно), легко отдавала свою любовь тем юношам, которые были не только хороши собой, но и богаты кошельком. И вот, оставаясь вдовой, она тайком подрезала крылья не одному из них, представляясь, однако, тем, кто не особенно близко ее знал, некоей новой святой Бригиттой. Как только до сведения ее дошло положение Никколо и жизнь, которую он ведет, она тотчас же стала возлагать на него величайшие надежды и, нашедши способ завязать с ним знакомство, молча намекнула, что в него влюблена. Затем, мало-помалу давая ход этому делу и делая вид, будто не может скрываться, она стала осаждать его письмами и посланиями.
Нечего и говорить, что Никколо, которому друзья его внушали, что он некий новый Джербино[148]148
Красавец, герой одной из новелл «Декамерона» (день четвертый, новелла IV).
[Закрыть], этим перед ними чванился, и счастлив был из них тот, кто мог сказать свое слово в ее пользу, восхваляя ему эту новую любовь и превознося его возлюбленную до небес. Такой ценой они от него не раз получали богатейшие и жирные ужины. И так они его взвинтили, что он чувствовал себя хорошо лишь тогда, когда был с ней или о ней беседовал с этими своими собутыльниками.
Она же, притворившись, будто изнывает, добилась того, что оказалась с ним наедине ради того дела, что она уже проделывала со многими другими. А будучи, как уже говорилось, красивой и обходительной и владея искусством сводить с ума мужчин лучше, чем любая распутная женщина, двадцать лет ходившая по рукам, она то самыми ласковыми словами, то самыми жестокими, то притворяясь, что больше не может жить от любви к нему, то возбуждая в нем ревность к новому любовнику, то заставляя брать ее в жены и тут же на это не соглашаясь, то выгоняя его, то снова вызывая, то изображая, что она от него забеременела, довела бедняжку до того, что он сам уже не знал, где он, и все остальное вылетело у него из головы: дела были запущены, новые друзья забыты вместе со старыми. А она, как только заметила, что птица больше не нуждалась в приручении, оставя все другие заботы, занималась только тем, что подстригала ей крылья, чтобы она не могла улететь. И в короткое время так их подрезала, что это не только огорчило Лапо, который был ему истинным другом, но до глубины сердца опечалило и тех прежних друзей, которые заманивали его в эти сети, ибо они считали, что все то, что молодая женщина у него похищала, вынималось из собственных их кошельков. И они имели к тому тысячи оснований, ибо злая женщина своим коварством и кознями довела Никколо до предела, и не то чтобы дать им обед или ужин – у него не осталось достаточно денег, чтобы прожить самому.
А когда он увидел себя доведенным до этого предела, он догадался, насколько было бы лучше, если бы он склонил свой слух на суровые увещания доброго друга, а не на сладкую лесть своих новых приспешников. К тому же он узнал, сколь жалкий конец имеет любовь к тем женщинам, которые не от любовного пыла, а от жадности к деньгам предоставляют другим свое тело. И точно, Лукреция (так, насколько я помню, звали вдову), видя, что у него не хватает средств и что он доведен до крайности, положила конец и своей притворной любви и так стала вести себя, что он легко мог заметить, как слабо теперь грело ее пламя. Но превыше всякой меры задело его то, что он обнаружил новые любовные шашни своей милой, которая, проведав, что некий Симоне Давици остался богатейшим человеком после смерти своего отца Нери, начала им увлекаться и сходила с ума, совершенно забыв о Никколо.
Поистине мудрая, ловкая и счастливая женщина! Ведь она так хорошо сумела приучить свои глаза и вышколить свое сердце, что чужую красоту замечала лишь постольку, поскольку видела в ней блеск золота или серебра, и чуяла любовь лишь постольку, поскольку слышала звон денег. Никколо же, видя, что дела его с каждым днем принимают все худший и худший оборот и что с ним так странно обращается та, которую он любил больше собственной жизни, и так как в нем от странностей этих не только не уменьшалась, но с каждым днем увеличивалась любовь или, лучше сказать, неистовство, и он жаждал быть с ней, как и прежде, и не находил для этого средства, полный гнева и досады, сетуя один-одинешенек и на себя и на нее, он не знал, что делать, и положение его было самое жалкое. Прежние друзья, которые пришли с богатством, с богатством и ушли; родственники не хотели его видеть; соседи поднимали его на смех; чужие говорили: поделом ему; кредиторы его преследовали; Лукреция его больше не узнавала. После того как он много раз сам с собой размышлял над всеми этими обстоятельствами, они повергли его в такое отчаяние, что он стал думать о последнем и крайнем пути: не положить ли ему конец всем этим мукам какой-нибудь неслыханной смертью. И, может быть, он и привел бы свою мысль в исполнение, если бы, вспомнив о дружбе, которая между ним и Лапо была такой тесной, и будучи твердо уверен, что в нем не должна была угаснуть память о такой любви, он не подумал, что хорошо было бы, отбросив всякие другие соображения, отправиться к Лапо и, поведав ему свои несчастья, попросить у него прощения бога ради. Итак, без лишних слов, он, отправившись к нему, поступил так, как решил. Лапо, который, правда, теперь уж ничего не мог сделать и отдал, как говорится, три хлеба за пару[149]149
То есть махнул на все рукой.
[Закрыть], не переставал, однако, о нем сожалеть. Убедившись по его словам, что друг в еще большей беде, чем он думал, он испытал от этого величайшее огорчение и, понимая, что тот нуждается в помощи, а не в совете, ласково сказал ему:
– Дорогой мой Никколо, я не хочу поступать как те, которые, после того как увещевали своего друга, но не добились никакой пользы, имеют обыкновение попрекать его своими советами, ибо мне кажется, что такие люди не стремятся ни к чему иному, как только к восхвалению самих себя и к порицанию тех, кто не захотел внять их предупреждениям. Ты знаешь, что, когда я увидел, как ты вступаешь на тот путь, который привел тебя туда, где не хотелось бы мне тебя видеть, я, убеждая тебя словами, исполнил по отношению к тебе обязанность доброго друга. Теперь же, когда обстоятельства таковы, что слов уже не достаточно, я не хочу на деле изменять этой же обязанности. Мало того, считая, что я заблуждался вместе с тобой, я хочу разделить с тобой и наказание, ибо весьма сладостным будет для меня наказанием, когда я увижу, что мне представляется случай показать другу свою решимость. А насколько эта обязанность была похвальна и достойна одобрения всегда и во всяком месте, о том с величайшей ясностью свидетельствует малое число людей, ее исполнивших. А так как мне любо оказаться в их числе, я перейду с тобой к действиям. Итак, идем со мной.
И, не говоря больше ни слова, взяв его за руку, он повел его в свою спальню и, открыв шкатулку, в которой держал свои деньги, он дал ему их в таком количестве, что тот отлично мог понять, насколько друг его любит. Затем он стал утешать его нежнейшими словами, чтобы тот не унывал, давая понять ему, что, когда Никколо истратит эти деньги, он не преминет помочь ему всякий раз, как друг в этом будет нуждаться. И после того как Лапо сделал ему такой щедрый подарок и так обнадежил его на будущее, он начал в мягких выражениях слегка задевать его прошлую жизнь и ловко порицать в его глазах поведение той женщины. Эти слова его были сказаны с таким весом, что они, хотя сразу и не рассеяли у его друга мысли о ней, тем не менее поселили в его сердце некое отвращение к самому себе и зажгли в нем великий стыд, так что он любил ее уже против собственной воли и уже искал случая потушить в себе это неистовство.
Однако добрая женщина, вскоре узнавшая, как сильно Поправились его дела, полагая, что все это ей на пользу, и не желая его терять, вторично начала осаждать его письмами и посланиями, так что он был вынужден снова пасть в ее объятия. Она же, давая ему понять, что он красив как никогда, и что она его любит как никогда, и что все происшедшее между ними случилось не по ее вине, а по вине родственников и невесть какой домашней служанки, и что охватившая его чрезмерная любовь к ней, часто заставляющая и здоровое зрение видеть то, чего нет, посеяла в нем ревность к тому, чего не было и не могло быть на самом деле, – так ловко сумела связать его по рукам и ногам, что выудила у него добрую часть полученных им денег.
И она выудила бы их все, не случись, по воле ее злого рока, что в одну прекрасную ночь, когда он был в ее доме и уснул после любовных забав, она, еще не спавшая, догадалась по условным знакам, что новый любовник подошел к дому. Тогда, влекомая своей превратной судьбой, которая призывала ее к расплате за ее поступки, и думая, что Никколо, как говорится, привязал осла к крепкому колышку, дна решила дойти до двери, чтобы малость поразвлечься с новым возлюбленным. Поэтому, поднявшись и накинув небрежно какое-то свое платьице, она тихо-тихо подошла к потайной двери своего дома и, отперев ее, без особых затруднений впустила любовника. И, слово – за слово, за словом – дело, они так понадеялись на сон Никколо, что пробыли гораздо дольше, чем то им было нужно.
А Никколо между тем проснулся и, не найдя Лукреции возле себя, позвав ее несколько раз и не получив ответа, решил, что дело неладно. Поэтому, быстро вскочив на ноги, одевшись в темноте, как мог, и препоясавшись мечом, он тихонько направился туда, где были они, и, прежде чем кто-либо из них это заметил, он оказался у них в головах. Увидав, как они растянулись на мешках с мукой, он внезапно был охвачен таким гневом и такой яростью, что, не думая о том, что делает, выхватил меч и так здорово полоснул по обоим, что почти начисто отсек голову Симоне и жестоко ранил женщину в руку. И, приходя все в большее неистовство и умножая удары, он не остановился, пока не увидал, что они оба лежат мертвые. Все домашние сбежались на этот шум и подняли великий плач над влюбленной молодой женщиной, у каждого нашлось, что сказать. Но Никколо, который еще не сознавал своего заблуждения, выбежав из дому и думая, что совершил славное дело, объятый яростью, с окровавленным мечом в руке, понесся к дому Лапо, желая вместе с ним порадоваться тому, что случилось; как вдруг наткнулся на стражников барджелло[150]150
Так назывался начальник городской стражи.
[Закрыть], которые, увидев, что он бежит в таком виде, и думая – а ведь это так и было, – что он совершил какое-нибудь преступление, схватили его и тотчас же отвели в тюрьму, где он охотно и без всяких пыток во всем сознался. И посему он, как убийца, был приговорен к смерти.
Но верный друг, полагая, что теперь настало время доказать великую силу дружбы, столько сделал при помощи родственников, друзей, судейских кляуз и денег, что спас ему жизнь, заменив смертный приговор вечной ссылкой в Барлетту в Апулии. Но и этого ему было мало; сделавшись добровольным изгнанником, оставив сладостную и любимую родину, Лапо отправился жить вместе с ним в суровой и чужой стране, где поддерживал его своими средствами во всем, в чем только тот ни нуждался, и, снова призвав заблудший «дух к заброшенным им словесным наукам и к множеству других похвальных занятий, он добился того, что ими обоими в высшей степени стали дорожить властительные особы этих краев, особливо же король; они со временем столько хлопотали перед флорентийской, синьорией, что Никколо смог проживать в Неаполе в свое удовольствие, где, покуда он был жив, оба друга пребывали в большом довольстве. Когда же он умер, его, по распоряжению Лапо, перевезли во Флоренцию и похоронили в Сан-Пьер Маджоре в роскошной усыпальнице и с торжественным обрядом, подле прочих его родичей, причем Лапо приказал, чтобы и его там похоронили после его смерти, так чтобы и смерть не разлучила этих тел, души которых не смогли разлучить столько жестоких невзгод.