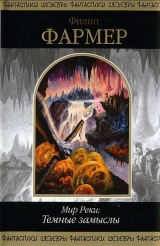
Текст книги "Мир Реки: Темные замыслы"
Автор книги: Филип Хосе Фармер
Жанр:
Научная фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 71 страниц)
Он тогда глаза выпучил и ухмыльнулся еще шире и взял меня за руку: меня за руку– это после всего, что он мне сделал, – и воскликнул так, словно мы с ним – ни дать ни взять братишки, встретившиеся после долгой разлуки: «Да это Пит Фрайгейт. А это я! Я! Боже, Пит Фрайгейт!»
А я ведь почти обрадовался, что его увидел, – потому же, почему, как он сказал, он был рад меня видеть. Но потом я себе говорю: «Да это же подлый издатель, который надул тебя на четыре тысячи баксов, когда ты только-только начинал вставать на ноги как писатель, и погубил твою карьеру на многие годы. Это скользкий подлюга, который надул тебя и еще как минимум четверых на крупные суммы, а затем объявил, что обанкротился, и был таков. А потом получил по наследству кучу денег от дядюшки и зажил припеваючи, чем доказал, что за преступления расплачиваются. Это тот человек, которого ты не забыл, и не только из-за того, что он вытворил с тобой и другими, а еще из-за того, что потом ты столкнулся еще со многими издателями-подлецами».
Бёртон усмехнулся и сказал:
– Я как-то обмолвился, что священникам, политикам и издателям никогда не пройти во врата рая. Но я ошибся – то есть ошибся, если это рай.
– Ну да, я помню, – кивнул Фрайгейт. – Я никогда не забывал, что эта фраза принадлежит вам. В общем, я сдержал естественную радость при виде знакомого лица и сказал: «Шаркко…»
– У него такое имечко, а вы ему поверили? [24]24
От англ.«shark» – акула.
[Закрыть]– удивилась Алиса.
– Он мне сказал, что это чешская фамилия и что она значит: «тот, кому можно доверять». Но это были враки, как и все остальное, что он мне болтал. Но я решил, что нам с Монатом стоит отступить. Отступим, а потом прогоним их, когда вы вернетесь от питающего камня. Хитрый план. Но когда я узнал Шаркко, я просто обезумел! Я ухмыльнулся и говорю ему: «Ну, до чего же радостно тебя видеть, сколько лет, сколько зим! А особенно здесь, где нет ни полицейских, ни суда!»
А потом как врежу ему по носу! Он брякнулся на спину, кровь из носа потекла. Мы с Монатом накинулись на остальных, я сбил одного, а другой шмякнул мне по щеке цилиндром. У меня башка закружилась, но Монат не растерялся – одного сразил наконечником копья, еще одному ребра переломал: он щупленький, но быстрый, и соображает в самообороне – да и в атаке! Тут Шаркко поднялся, и я его другим кулаком ударил, правда, удар пришелся в нижнюю челюсть – скользящий вышел. Кулаку моему больше досталось, чем его челюсти. Он развернулся – и бежать, я за ним. Остальные тоже дали деру, а Монат грозил им своим копьем. Я побежал за Шаркко, загнал его на соседний холм, поймал на полпути до подножия и задал ему хорошую трепку! Он полз от меня на карачках, умоляя о пощаде, а я дал ему пинка под зад, и он покатился – всю дорогу с холма пропахал!
Фрайгейт все еще дрожал от возбуждения, но был явно доволен собой.
– Я боялся, что струшу, – объяснил он. – В конце концов, все это было так давно и совсем в другом мире, и, может быть, мы оказались здесь для того, чтобы простить наших врагов – и кое-кого из друзей – и чтобы простили нас. Но с другой стороны – так я подумал, – может быть, мы попали сюда и для того, чтобы маленько расквитаться за то, что нам пришлось пережить на Земле? Что скажете, Лев? Как бы вам понравилась возможность сунуть в огонь Гитлера? Медленно поджарить, а?
– Не думаю, что ушлого издателя можно сравнивать с Гитлером, – возразил Руах. – Нет, я не хотел бы поджарить его. Я хотел бы заморить его голодом до смерти или кормить его так, чтобы он был едва живой. Но я не стал бы этого делать. Что толку? Разве это заставило бы его переменить мнение обо всем, разве он стал бы тогда считать евреев людьми? Нет, я не стал бы ничего с ним делать, попади он мне в руки, разве что только убил бы его, чтобы он не сумел причинить зла другим. Но я не уверен в том, что он, убитый, умрет. Не здесь.
– Вы истинный христианин, – усмехнулся Фрайгейт.
– А я-то думал, что вы мне друг! – воскликнул Руах.
Глава 12Вот уже второй раз Бёртон услышал имя Гитлера. Он хотел узнать об этом человеке все, но сейчас все решили отложить разговоры на потом и закончить сооружение крыш хижин. Все погрузились в работу. Кто-то нарезал ножничками, найденными в контейнерах, стебли травы, кто-то взобрался на высокие железные деревья и срывал большие треугольные зеленые с алой оторочкой листья. Бёртон подумал о том, что неплохо бы поискать в округе профессионального кровельщика и обучиться у него правильным способам сооружения кровель. Поспать пока можно на кучах травы, застелив более мягкими листьями железных деревьев. А укрыться можно этими же листьями.
– Слава Богу или кому-то еще, что тут нет насекомых, – сказал Бёртон.
Он поднял чашку, в которой еще оставалась пара унций лучшего виски, какое он когда-либо пробовал.
– Выпьем за этого кого-то. Если бы он воскресил нас только для того, чтобы мы стали жить на точной копии Земли, нам пришлось бы делить ложе с десятком тысяч видов кусающих, царапающих, кровососущих, колющих, жалящих злодеев.
Они выпили, а потом посидели у костра, покуривая и разговаривая. Тени сгущались, небо утрачивало синеву, и на нем расцвели громадные звезды и распустились гигантские полотна, в сумерках выглядевшие еле заметными призраками. Да, небеса здесь на самом деле испускали сияние славы.
– Совсем как иллюстрация Сайма, – сказал Фрайгейт. Бёртон не знал, кто такой Сайм. Половина разговоров с теми, кто не жил в девятнадцатом столетии, состояла из того, что они объясняли то, о чем упоминали, а он в свою очередь объяснял то, о чем упоминал сам.
Бёртон встал, перешел на другую сторону костра и присел рядом с Алисой. Она только что вернулась, уложив девочку, Гвенафру, спать в хижине.
Бёртон протянул Алисе палочку жевательной резинки и сказал:
– Я только что сжевал половинку. Не хотите вторую? Она безразлично посмотрела на него и ответила:
– Нет, благодарю вас.
– У нас восемь хижин, – сказал Бёртон. – Кто с кем делит хижину, понятно, за исключением Вилфреды, вас и меня.
– Думаю, тут и сомневаться нечего, – ответила Алиса.
– Значит, вы собираетесь спать с Гвенафрой?
Она даже головы не повернула. Бёртон несколько секунд посидел рядом с ней и ушел на другую сторону костра, сев рядом с Вилфредой.
– Ну, валяйте, сэр Ричард, – процедила та сквозь зубы. – Черт бы меня побрал, не терплю, когда меня держат про запас. Могли бы взять да и спросить ее, хочет ли она с тобой спать, когда никто не видел и не слышал. У меня тоже есть какая-никакая гордость.
С минуту Бёртон молчал. Сначала ему захотелось сказать ей какую-нибудь колкость. Но она была права. Он обходился с ней слишком снисходительно. Даже если она была когда-то шлюхой, она все равно заслуживала человеческого отношения. Особенно же потому, что на проституцию ее толкнул голод, хотя Бёртон в этом и сомневался. Слишком многие проститутки пытались оправдать свое занятие, слишком многие сочиняли небылицы насчет того, как и почему пошли на панель. Правда, ее гнев на Смитсона и то, как она себя с ним повела, говорили об ее искренности.
Бёртон встал и сказал:
– Я не хотел сделать вам больно.
– Ты ее любишь? – спросила Вилфреда, глядя на него снизу вверх.
– Я только одной женщине говорил, что люблю ее, – ответил Бёртон.
– Своей жене?
– Нет. Девушке, которая умерла прежде, чем я смог на ней жениться.
– И долго ты был женат?
– Двадцать девять лет, хотя это и не твое дело.
– Черт бы меня побрал! И за все это время ты ни разу жене не сказал, что любишь ее?
– В этом не было необходимости, – отрезал Бёртон и отошел от костра.
Он выбрал хижину, которую заняли Казз и Монат. Казз уже храпел. Монат оперся на локоть и курил сигаретку с марихуаной. Монат предпочитал их обычным сигаретам, потому что по вкусу они больше походили на табак, что рос на его родине. Правда, марихуана на него совсем не действовала, а вот табак, наоборот, вызывал кратковременные, но яркие видения.
Бёртон решил не дожевывать остаток жевательной резинки, которую для себя окрестил мечтательной. Он закурил сигарету, понимая, что марихуана может сделать его ярость и недовольство собой еще глубже. Он порасспрашивал Моната о его родной планете, Гууркхе. Ему было очень интересно слушать, но наркотик из жевательной резинки подвел его, и он уплыл куда-то, а голос Моната звучал все тише и тише.
«…А теперь закройте глаза, мальчики», – велел Гилкрист с грубым шотландским акцентом.
Ричард посмотрел на Эдварда. Эдвард усмехнулся и прикрыл глаза ладонями, подсматривая при этом в щелочки между пальцами.
Ричард тоже заслонил глаза руками. Хотя и он, и брат стояли на ящиках, им все равно приходилось тянуться, чтобы заглянуть через головы стоявших впереди взрослых.
Голова женщины лежала на помосте. Длинные каштановые волосы падали ей на лицо. Ему хотелось увидеть выражение ее лица – как она смотрела на корзину, ожидавшую ее, или, вернее, ее голову.
– А ну не подглядывать, мальчики! – предупредил Гилкрист.
Загремели барабаны, послышался вскрик, и лезвие упало, а потом взревела толпа, раздались стоны и вопли, и голова женщины отвалилась. Из шеи хлестала кровь, и казалось, будет хлестать без конца. Кровь брызгала, попадала в толпу, и хотя Бёртон стоял там, где от помоста его отделяло не меньше пятидесяти ярдов, кровь брызнула ему на руки, потекла сквозь пальцы, попала на лицо, залила глаза, ослепила, и пальцы его стали липкими и солеными. Он закричал…
– Проснись, Дик! – повторял Монат. Он тряс Бёртона за плечо. – Проснись! Ты, наверное, увидел страшный сон!
Бёртон, всхлипывая и дрожа, сел. Потер руки, ощупал лицо. И руки, и лицо были мокрые. Но от пота, а не от крови.
– Мне снился сон, – сказал он. – Мне было шесть лет, я был в городке Тур. Во Франции, где мы тогда жили. Мой гувернер Джон Гилкрист повел меня и моего брата Эдварда посмотреть на казнь женщины, которая отравила свою семью. Гилкрист сказал, что это зрелище.
Я волновался и подглядывал сквозь пальцы, хотя он велел нам не смотреть до последних мгновений, когда должно было упасть лезвие гильотины. Но я подсматривал, я должен был подсматривать. Помню, меня немного подташнивало, но только это действие на меня и оказывало ужасное зрелище. Пожалуй, я отстранился от него – будто смотрел на происходящее сквозь толстое стекло, словно все это не по-настоящему. Или я сам ненастоящий. Поэтому я не очень боялся.
Монат закурил новую сигаретку с марихуаной. Света при этом хватило для того, чтобы Бёртон разглядел, как он качает головой.
– Какая дикость! – проговорил Монат. – Ты хочешь сказать, что вы не только убивали преступников, а еще и отрубали им головы! Публично! И позволяли детям смотреть на это!
– Англичане были более гуманны, – сказал Бёртон. – Они преступников вешали!
– По крайней мере, французы не скрывали от народа того, что проливают кровь преступников, – сказал Монат. – Руки их были в крови. Но, видимо, об этом никто не задумывался. По крайней мере сознательно. А теперь, когда прошло столько лет – шестьдесят три? – ты выкуриваешь немножко марихуаны и переживаешь эпизод, который, как ты всегда полагал, тебя ни в малейшей степени не задел. Но теперь ты переживаешь его с ужасом. Ты кричал, как напуганное дитя. И переживал все так, как должен был бы переживать, когда был ребенком. Я бы сказал, что марихуана как бы обнажила глубинные слои и высвободила тот ужас, что был похоронен под ними шестьдесят три года.
– Может быть, – согласился Бёртон и умолк.
Вдалеке раздался раскат грома, сверкнула молния. А минуту спустя послышался шелест листвы и по крыше хижины забарабанили капли дождя. В прошлую ночь дождь пошел примерно в это же время – наверное, около трех часов утра. Дождь усилился, но крыша была покрыта на совесть, и вода сквозь нее не проникала. Правда, под заднюю стену немного подтекло – она была обращена к вершине холма. По полу текли ручейки, но до Бёртона и Моната вода не доставала, потому что их постели из травы и листьев возвышались дюймов на десять над полом хижины.
Бёртон говорил с Монатом, дождь не прекращался примерно с полчаса. Монат уснул, а Казз и не просыпался. Бёртон попробовал уснуть, но не смог. Никогда еще ему не было так одиноко. Он вышел из хижины и пошел к той, которую выбрала Вилфреда. От хижины доносился запах табака. Кончик сигареты, которую курила Вилфреда, светился в темноте. На куче травы и листьев вырисовывалась темная фигура женщины.
– Привет, – сказала она. – Я ждала тебя.
– Обладать собственностью – это инстинкт, – сказал Бёртон.
– Сомневаюсь, что это инстинкт человеческий, – возразил Фрайгейт. – Кое-кто в шестидесятых – то есть в тысяча девятьсот шестидесятых – пытался доказать, что человек обладает инстинктом, который называли инстинктом территориального поведения. Но…
– Мне нравится это словосочетание. В нем есть притягательность, – вставил Бёртон.
– Я знал, что оно вам понравится, – сказал Фрайгейт. – Но Ардри и еще кое-кто пытались доказать, что у человека есть не только инстинкт присвоения себе определенной территории, но что человек происходит от обезьяны-убийцы; инстинкт убийства сидит в нем так же глубоко, будучи унаследованным от прародителей. Этим объясняются границы стран, национализм как в масштабах страны, так и в отдельных ее регионах, капитализм, войны, убийства, преступления и так далее. А другая школа психологов, основывавшая свои доводы на изучении темпераментов, утверждала, что все вышеперечисленное – результат культуры, непрерывности развития обществ, посвятивших себя с самых ранних времен племенной враждебности, войне, убийству, преступлениям и так далее. Измените культуру – и обезьяна-убийца исчезнет. Исчезнет, потому что ее и не было вовсе, как чудовища под кроватью. Убийцей было общество, и общество воспитывало новых убийц в своих новорожденных детях. Но бывали и другие общества, состоявшие из людей безграмотных, пускай так, но все равно то были общества, и они не воспитывали убийц. И они своим существованием доказывали, что человек происходит не от обезьяны-убийцы. Или я бы так сказал: может быть, и происходит, но у него больше нет генов убийства, как нет генов, несущих информацию о тяжелых надбровных дугах, коже, покрытой шерстью, или толстых костях, или черепе объемом всего шестьсот пятьдесят кубических сантиметров.
– Это все очень интересно, – сказал Бёртон. – В другой раз мы непременно поглубже копнем теорию. Но позволь заметить, что почти каждый представитель воскресшего человечества происходит из культуры, где поощрялись войны, убийства и преступления, изнасилования, воровство и безумие. Это те люди, среди которых мы живем и с кем нам приходится иметь дело. Может быть, в один прекрасный день народится новое поколение. Я не знаю. Пока судить рано – мы тут пробыли всего семь дней. Но нравится нам это или нет, мы находимся в мире, населенном существами, которые зачастую ведут себя так, словно они и есть обезьяны-убийцы.
А пока вернемся к нашей модели.
Они сидели на бамбуковых табуретках перед хижиной Бёртона. На небольшом бамбуковом столике перед ними стояла модель судна из сосны и бамбука. У судна было два корпуса, соединенных платформой с невысоким поручнем в центре, единственная, очень высокая мачта, поперечный и продольный такелаж, кливер, капитанский мостик, возвышавшийся над палубой, и штурвал. С помощью кремневых ножей и ножниц Бёртон и Фрайгейт изготовили модель катамарана. Когда лодка будет построена, Бёртон решил назвать ее «Хаджи» [25]25
Хадж – мусульманское религиозное паломничество к святым местам – в Мекку и Медину. Хаджи – человек, совершивший такое паломничество.
[Закрыть]. Судно было нужно для паломничества, хотя целью путешествия была не Мекка. Бёртон намеревался повести судно вверх по течению Реки так далеко, как получится (река теперь стала называться Рекой).
О завоевании территории разговор у них зашел потому, что возникли причины опасаться за возможность постройки судна. Теперь люди в округе в некотором смысле стали вести оседлый образ жизни – обзавелись имуществом, выстроили хижины или занимались их строительством. Жилища получались самые разнообразные – от примитивных навесов до довольно-таки крупных домов из бамбука и камней, на четыре комнаты и в два этажа высотой. Большая часть построек располагалась поблизости от питающих камней на берегу Реки и подножия гор. Во время разведки два дня назад Бёртоном было установлено, что плотность населения составляет двести шестьдесят – двести шестьдесят один человек на квадратную милю. На каждую квадратную милю равнины по обеим берегам Реки приходилось приблизительно по две целых и четыре десятых квадратных мили холмов. Но холмы были так высоки и столь неправильной формы, что истинная площадь поверхности, пригодной для жизни, составляла около девяти квадратных миль. В областях, исследованных Бёртоном, оказалось, что примерно треть населения строилась ближе к прибрежным питающим камням, а другая треть – у питающих камней около гор. Двести шестьдесят один человек на квадратную милю – вроде бы довольно высокая плотность населения, но холмы так густо поросли лесом и их рельеф был таким сложным, что небольшие группы поселившихся там людей могли чувствовать относительное уединение. А на равнине большое скопление народа отмечалось только во время еды, потому что равнинное население большую часть дня проводило в лесах или рыбачило на берегу Реки. Многие сооружали долбленки или бамбуковые лодки, намереваясь порыбачить посередине Реки. Или, как Бёртон, подумывали о том, чтобы отправиться в путешествие.
Заросли бамбука исчезли, хотя, несомненно, должны были скоро вырасти вновь. Бамбук рос поистине с феноменальной быстротой. Бёртон засек время и подсчитал, что пятидесятифутовый стебель вырастал за десять дней.
Его группа работала не покладая рук и рубила столько бамбука, сколько, как они думали, им понадобится для строительства судна. Но они хотели застраховаться от воровства и поэтому заготовили еще и стволы для постройки частокола. Частокол закончили в тот же день, когда была готова модель. Беда была в том, что лодку нужно было строить на равнине. Построй они ее здесь – им ни за что не протащить ее по лесу и холмам.
– Да, но если мы переберемся на новое место и обоснуемся там, – сказал Фрайгейт, – мы наткнемся на сопротивление. Не осталось ни единого квадратного дюйма в границах высокой травы, который бы не был застолблен. То есть, чтобы добраться до равнины, придется то и дело вторгаться в чужие владения. Пока, правда, никто не возражал особо на предмет нарушений прав собственности, но в любой день все может измениться. А вот если заняться постройкой судна неподалеку от границ высокой травы, можно спокойно вынести его из леса и пронести между хижинами. Придется, правда, дежурить день и ночь, иначе весь строительный материал растащат. Или сломают. Ну, вы знаете этих варваров.
Он говорил о жилищах, разрушенных в то время, пока их владельцы ушли куда-то, о загрязнении котловин под водопадом и источником. И еще он имел в виду совершенно антисанитарные привычки большинства людей, населяющих побережье и леса. Эти не желали пользоваться маленькими уборными, выстроенными в некоторых поселениях для общего пользования.
– Мы выстроим новые дома и устроим верфь как можно ближе к границе, – сказал Бёртон. – А потом станем срубать любое дерево, что попадется по пути, и сметем с дороги каждого, кто вздумает помешать нам пройти.
К некоторым, кто жил на границе между равниной и холмами, отправилась Алиса, чтобы побеседовать с ними и попробовать договориться. Она ни с кем не обмолвилась о том, что у нее на самом деле на уме. Она знала, что есть три парочки, которые недовольны тем, как разместились, потому что им недоставало интимности. С этими удалось найти общий язык, и они перебрались в хижины группы Бёртона на двенадцатый день после воскрешения, в четверг. По общему уговору первый день воскрешения стали считать воскресеньем. Руах сказал, правда, что он предпочел бы считать его субботой или просто Днем Первым. Но он находился среди тех, кто в большинстве своем были язычниками – или экс-язычниками (но тот, кто был язычником, всегда им остается), – поэтому был вынужден согласиться с остальными. Руах завел бамбуковую палочку, на которой каждое утро делал зарубки, ведя тем самым счет дней. Палочку он вбил в землю перед своей хижиной.
Переноска леса для строительства судна потребовала четыре дня тяжелых трудов. К этому времени итальянские парочки решили, что они уже вдосталь наработались и стерли, по их выражению, пальцы до костей. В конце концов, зачем тащиться на лодке куда-то еще, когда тут, может быть, везде одинаково. Наверное, они воскресли из мертвых для того, чтобы наслаждаться жизнью. Иначе зачем бы их снабжали спиртным, сигаретами, марихуаной, мечтательной резинкой, зачем они наги?
Они ушли из группы, не оставив ни у кого в душе обиды – нет, в честь их ухода была даже устроена прощальная вечеринка. На следующий день, в день двадцатый первого года после воскрешения, произошло два события, первое из которых разрешило одну загадку, а второе загадало новую, хотя это было и не слишком важно.
На закате группа шла по равнине к питающему камню. Около питающего камня они обнаружили двоих новеньких, оба спали. Они тут же проснулись, но вид у них был встревоженный и смущенный. Один из них оказался высоким темнокожим мужчиной, который говорил на неизвестном языке, второй – высоким, красивым, мускулистым человеком, сероглазым и черноволосым. Речь у него была неразборчивая, но вдруг Бёртон понял, что тот говорит-таки по-английски. Это оказался камберлендский диалект английского языка, на котором говорили во времена правления короля Эдуарда I [26]26
Эдуард I (1239–1307) – английский король.
[Закрыть], которого иногда называли Длинноногим. И как только Бёртон и Фрайгейт наловчились в произнесении звуков и произведении определенных перестановок букв, они смогли, хотя и сбивчиво, переговорить с мужчиной. У Фрайгейта был большой запас слов для чтения раннесредневекового английского языка, но со многими из слов он никогда не сталкивался, так же как и с определенными грамматическими конструкциями.
Джон де Грейсток родился в поместье Грейсток [27]27
Эта фамилия значащая: ее носит любимый Фармером Тарзан.
[Закрыть]в графстве Камберленд. Он сопровождал Эдуарда I во Францию, когда король затеял покорение Гаскони. Если верить ему, он был непревзойденным мастером боевых искусств. Позднее он был избран в парламент как барон Грейсток, а потом снова участвовал в войне в Гаскони. Он состоял в свите епископа Антония Бека, патриарха Иерусалимского. В двадцать восьмой и двадцать девятый годы правления Эдуарда он сражался с шотландцами. Умер в тысяча триста пятом году, не имея детей, но завещал баронский титул и поместье своему кузену Ральфу, сыну лорда Гримторпа из Йоркшира.
Воскрес он где-то на берегу Реки, где люди на девяносто процентов были из начала четырнадцатого века – англичане и шотландцы, а десять процентов составляли древние сибариты [28]28
Сибариты – жители древнегреческой колонии Сибарис на юге Апеннинского полуострова.
[Закрыть]. На другом берегу Реки оказалась смесь из монголов времени Кублахана [29]29
Кублахан (Хубилай) (1216?—1294) – монгольский завоеватель Китая, внук Чингисхана.
[Закрыть]и каких-то темнокожих людей, о происхождении которых Грейсток не догадывался. Но по его описанию можно было предположить, что то были североамериканские индейцы.
На девятнадцатый день после воскрешения дикари с другого берега Реки совершили нападение. Наверное, им просто хотелось подраться, и это у них получилось. Дрались большей частью палками и цилиндрами, поскольку в тех местах камней маловато. Джон де Грейсток укокошил десяток монголов своим цилиндром, а потом ему угодили по голове камнем и проткнули его обожженным кончиком бамбукового копья. Он очнулся обнаженный – и при нем был только грааль, его прежний или другой – около этого питающего камня.
Другой мужчина поведал свою историю посредством знаков и пантомимы. Он рыбачил, и его крючок утащило что-то такое могучее, что и его уволокло в воду. Вынырнув, он ударился макушкой о днище лодки и утонул.
Вопрос о том, что происходило с тем, кто умирал в загробной жизни, получил ответ. А вот то, почему они воскресали не на том самом месте, где их убивали, – это уже был другой вопрос.
Второе событие заключалось в том, что на этот раз граали не обеспечили всех полуденной трапезой. Вместо еды в цилиндрах оказались свернутые полотнища ткани разных размеров, цветов, кроя и очертаний. Четыре полотнища были явно предназначены для того, чтобы соорудить из них некое подобие килта, шотландской юбки. Вокруг тела они крепились с помощью магнитных кружков, вшитых в ткань. Два куска ткани были тоньше, и из них можно было изготовить блузы, хотя можно было ими и иначе воспользоваться. Хотя ткань оказалась мягкой и хорошо впитывающей влагу, она выдерживала самое грубое обращение и не поддавалась даже тогда, когда ее пытались распороть самыми острыми кремневыми или бамбуковыми ножами.
Люди просто поголовно визжали от восторга, обнаружив эти «полотенца». Хотя мужчины и женщины уже успели свыкнуться с наготой или по крайней мере смирились с ней, некоторые эстеты и менее приспособленные считали всеобщее зрелище человеческих гениталий некрасивым и даже оскорбительным. А теперь у них были килты, блузы и тюрбаны. Последние предназначались для того, чтобы покрывать лысые головы, пока отрастут волосы. Попозже тюрбаны стали привычными головными уборами.
Волосы же отрастали повсюду, кроме лица.
Это огорчало Бёртона. Он всегда гордился своими длинными усами и раздвоенной бородой и утверждал, что из-за их отсутствия чувствует себя более раздетым, чем из-за отсутствия штанов.
Вилфреда рассмеялась и сказала:
– А я рада, что их нет. Я всегда терпеть не могла волосы у мужиков на лице. Целоваться с бородатыми – это все равно как будто лицом тычешься в кучу сломанных кроватных пружин.






