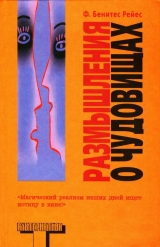
Текст книги "Размышления о чудовищах"
Автор книги: Фелипе Рейес
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 18 страниц)
В общем, все это я и проделал. И предусмотренное расписание более или менее исполнилось. (Не думаю, чтоб такая домашняя алхимия была слишком хороша для тела в целом.) (Но как-то мне придется сосуществовать с организмом, немного укротить его, не так ли?) (Потому что иногда ты – это одно, а твое тело – совсем другое.) (Хотя Критий, софист, считал, что душа – это кровь, – этого только нам и не хватало услышать.)
Тот, Кто Был И Кто Уже Не Есть продолжал пользоваться положением звезды Ледяного Павильона (Пещеры Идей). Однажды он объявил беседу о «Сексуальности согласно Зигмунду Фрейду (Подсознание и извращение)», и зал заполнился людьми: больше ста человек, большинству из которых пришлось стоять, потому что там было самое большее тридцать стульев, все от разных гарнитуров, а Молекула не был намерен вкладывать деньги в мебель, учитывая исключительный характер этих сборищ.
Тот, Кто Был явился совершенно пьяным, хотя и с твердым языком: «Согласно Фрейду, сексуальные извращения бывают двух типов, и это большая удача, потому что представьте себе, что было бы, если б их было пятьдесят типов… Так вот, эти два типа суть следующие извращения: а)анатомические нарушения областей тела, предназначенных для сексуального соития, то есть главным образом стремлении вставлять в задницу и брать в рот, и б)распространение сексуальности на окружающие предметы, или же готовность находить полное удовлетворение в том, что нюхаешь ношеное белье или кончаешь в туфлю, например. Дело в том, что сексуальность отвечает инстинкту, продолжению рода, да, но этот инстинкт похеривается из-за двух сукиных сынов, а именно детства и подсознания. В общих чертах, детство, для Фрейда, – это гнездо психологических бактерий, которые с течением времени превращаются в толстых и здоровых психотических червяков. Ребенком тебе хочется спать с отцом или с матерью, чтобы заявить о себе, тебе хочется убить свою старшую сестру за то, что она заняла место матери, или ты влюбляешься в своего маленького братика, потому что он напоминает тебе тебя самого, гнусный нарцисс. Детство – это целый узел, или что-то вроде. Кроме того, дети обладают тем, что Фрейд называет извращенной полиморфической предрасположенностью, а это действительно плохо пахнет. Я прочту вам фразу, поясняющую данный вопрос, фразу самого Фрейда: „Очень интересно убеждаться в том, что под влиянием соблазна ребенок может сделаться полиморфически извращенным, то есть способен преступать любые сексуальные границы“. Вы хорошо расслышали: любые сексуальные границы преступает на своем пути карамельный человечек."
(В этот момент я остановился взглядом на Молекуле, кивавшем из-за барной стойки, возведенной им в боковой части помещения, в защитной тени бюста Ленина, на голову которого он напялил шляпу.
– Чтобы закамуфлировать большевика, – так он сказал.)
– …Фрейд объясняет это сексуальное бесчинство, в которое могут впадать дети, нехваткой душевных плотин в отношении этих преступлений. Эти плотины суть целомудрие, отвращение и мораль, столпы взрослого сознания, интеллектуальной конструкции, основанной на соглашениях и предрассудках. Вы следите за моей мыслью?
(И Молекула снова кивнул.)
– Однако что думал Фрейд о феллации? По его мнению, отвращение к гениталиям противоположного пола связано с истерией, особенно у женщин, так что, если кто-нибудь из вас скажет женщине, что она истеричка, потому что не хочет отсосать у вас, пусть совесть его будет спокойна, ведь он не ошибается в диагнозе, совсем наоборот: это диагноз, за который поручился лично Фрейд.
(В этот момент две женщины встали и демонстративно ушли.)
– Итак, прежде чем продолжить, есть ли у кого-нибудь вопросы?
Хуп поднял руку:
– Я хотел бы, чтоб ты объяснил нам, приятель, теорию Фрейда о бисексуальности, если она у него была.
И Тот, Кто Был стал ворошить бумаги, которые принес с собой.
– Да, а как же. Согласно терминологии Фрейда, существуют амфигенные гомосексуалисты, также называемые психосексуальными гермафродитами, хотя в жизни мы их знаем скорее под именем педиков…
(И так далее.)
Тот, Кто Был вызывал у меня смешанное чувство притяжения и отвращения, хотя процентное соотношение обоих этих ингредиентов менялось день ото дня, с тенденцией к увеличению дозы второго из них. Меня привлекали его фокусы и игры с мышлением, его герменевтические буффонады, его блудное красноречие, но меня отталкивало его метафизическое фанфаронство, его стремление сводить всякий вопрос на почву кабацких шуток, в том числе вопрос о Зигмунде Фрейде. Мне хотелось бы увидеть его ауру, чтобы таким образом получить информацию о его внутренней сущности, отгородившись от удивительных историй, которые он рассказывал нам о себе, и отгородившись от его философских подделок, но аура Того, Кто Был оставалась для меня невидимой, а это у меня часто происходит с аурами: на протяжении всей своей жизни я видел их не более ста, и в большинстве случаев смутно и мимолетно: стремительная цветная галлюцинация, неожиданная вспышка в мозгу, оглушительное мгновение, в которое я ощущал в глазах укол тающей краски. (Или что-то вроде.)
Когда он закончил свою болтовню, мы, старожилы и захватчики, пошли выпить чего-нибудь. У Того, Кто Был продолжал работать мотор, и он безостановочно одаривал нас теориями касаемо различных предметов и даже решил открыть нам свой великий и тайный проект: Металлический Остров.
– Металлический Остров?
Да. Это дело просто объяснить и понять. Посмотрим… Речь шла о том, чтоб занять нефтяную платформу, заброшенную в 1962 году, с тех пор державшуюся на плаву, словно железный призрак, километрах в пятнадцати от португальского берега, примерно на уровне Портимао. По словам Того, Кто Был, уже существовал подобный прецедент: один предприимчивый испанец завладел подобной платформой в Северном море и учредил там княжество, в котором в настоящее время раздаются дворянские титулы и академические звания, водительские удостоверения, дипломатические аккредитивы, паспорта – в общем, все документы, которые обычно выдаются в странах, скажем так, нормальных, хотя и с довольно выраженным оттенком фарса, само собой. Это может сразу же показаться детской фантазией: создание игрушечной страны с мифической территорией, где можно играть в своевольное распоряжение властью или, по крайней мере, бюрократией, но речь шла о фантазии менее сложной: всего лишь о коммерческой стратегии. По словам Того, Кто Был, звонишь в любое посольство этой шутовской страны – а они у шутовского княжества существуют во многих странах, – ведь на платформе в Северном море, само собой, никто не живет – и в свободной форме заявляешь о своем желании:
– Хочу быть послом вашей страны в Норвегии, – например, а они тебе говорят:
– Это стоит… десять тысяч долларов, – и если ты им заплатишь, то ты уже посол шутовского государства в Норвегии, и тебе даже дадут удостоверение на машину, в котором и заключается твоя принадлежность к дипломатическому корпусу этой ржавой, скрипучей, шутовской страны.
Или говоришь им по какой-то непонятной причине или бог знает по какому необычному желанию:
– Мне хотелось бы получить титул специалиста по микрохирургии глаза, – и они дают тебе информацию о цене на этот титул, и если тариф кажется тебе приемлемым, считай, ты уже специалист шутовской страны по микрохирургии глаза в шутовской стране, путь даже дома у тебя есть только механическая пила для проведения этих шутовских микроопераций.
Или ты звонишь им и говоришь, что тебе хотелось бы стать шутовским маркизом де Якорь, или шутовским герцогом де Шут, или эрцгерцогом де Фрахт, – и они это уладят. (Ведь похоже, что визитная карточка с благородными титулами может обладать большой властью в области проникновения в общество, примерно как семнадцать миллионов ключей.) (И бюрократы этой нефтяной платформы продают тебе эти универсальные ключи – разные модели короны.)
Тот, Кто Был заверил нас, что это морское княжество (оно располагает собственными конституцией, флагом, гимном и принцем-регентом) начало устанавливать дипломатические отношения с несколько ненормальными странами, такими, как Габон, Парагвай, Либерия, Ямайка, Кипр, Пакистан и Турция среди прочих, каких я сейчас не упомню, что, кроме того, оно вручило свои верительные грамоты многочисленным представителям опереточных учреждений и стран: государственному секретарю государства Ватикан, губернатору Боснии, принцу, возглавляющему Мальтийский орден, и какому-то там министру Сан-Марино, – и все они были приняты на ура.
– Это верное дело. Может быть, нестабильное, но верное, – заверил нас Тот, Кто Был. – Нужно только поднять флаг на платформе, подыскать кого-нибудь, кто нарисует тебе герб, открыть веб-страницу, набрать граждан-добровольцев среди миллионов чертовых миллионеров, разбросанных по миру, и вести себя так как большинство стран: собирать как можно больше налогов, делать снежный ком из внешнего долга и открывать международное право на наиболее подходящей странице. И это все. Люди стосковались по утопиям, по аркадиям, по сумасбродным странам. На Земле есть тысячи магнатов, жаждущих быть послом или виконтом, потому что деньги только превращают их в еще больших плебеев, чем они были изначально. Богатые люди хотят иметь в кармане удостоверения этих безрассудных учреждений, удивлять друзей признанием в своей неслыханной национальности, иметь право вышивать корону на своих платках. Богатые люди хотят быть экстравагантными, но они знают, что это вульгарно. Богатые люди любят рассказывать сказочные истории, потому что знают, что даже заурядные люди, рассказывающие заурядные истории, презирают тех, кто рассказывает заурядные истории. И тут явимся мы, правители Металлического Острова, чтобы удовлетворить всех и каждого из этих тысяч олухов.
Не стоит даже говорить, что Хуп очень вдохновился этим прожектом, потому что он, как вы знаете, имеет склонность к химеризму: страна среди воды, с законами, продиктованными капризом, с бесконтрольными властями…
– Ты будешь министром иностранных дел и туризма, Хуп. Бласко мог бы стать официальным поэтом, он, конечно, напишет гимн. Молекула мог бы…
(Да, назюзюкавшийся император, возлагай по своей прихоти картонные короны на склоненные головы твоих шутов.) (Пьяный сукин сын.)
– Нас никогда не признают официально как государство, об этом я вас заранее предупреждаю, но нам это безразлично, потому что это будет пиратский остров, и мы займемся торговлей сокровищами гнилой фантазии, которые люди ревниво прячут в подвалах своей отвратительной головы.
А Хуп улыбался. А Бласко смотрел на меня вопросительно. А Молекула спрашивал его о детских извращениях. А я повторял про себя:
– Пьяный сукин сын, шарлатан.
(А шарлатан говорил, говорил, говорил.) (Говорил еще и еще.)
У женщин, с самого начала ошеломляющих, так сказать, обычно есть одна проблема: они ослепляют тебя, как только ты их увидишь, но потом начинаешь находить в них изъяны. (Изъяны, связанные с формой ушей или носа, с дыханием, со смехом или с их представлениями о возвышенном.) (Когда как.) (Потому что мы мстительны.) С женщинами, скажем так, некрасивыми, и даже с нормальными, существует проблема противоположного толка: они кажутся тебе ужасными или бесцветными, как только ты их видишь, тела для монастыря или для бороздчатого вибратора, но постепенно начинаешь находить в них тайные прелести. (Прелести, связанные скорее не с ушами, носом и т. д., а с абстрактными факторами: чистота сердца, невроз в мягкой форме…) Само собой, все предпочитают проводить время с ошеломляющими женщинами, как бы много изъянов у них ни было, а не с некрасивыми или просто нормальными, как бы много скрытых прелестей ни таила в себе некрасивая или нормальная, но дело в том, что почти все мужчины в конце концов влюбляются в женщин некрасивых или нормальных, и с ними происходит в точности то же самое, потому что, полагаю (не знаю точно), здесь командует, как и во многих других вещах, Природа, с ее примитивными законами: воспроизводить потомство, обеспечивать выживание рода, удовлетворять периодическую необходимость в сексуальных судорогах, и так далее. В большинстве случаев сексуальное наслаждение требует включения ослепляющей чувственной иллюзии, обмана зрения, чтобы зрение не было нам верным; в общем, смиренной и терпеливой обработки очковтирательства: находить красоту там, где ее нет или где ее очень мало, ради пользы, которую нам это принесет. У меня создается впечатление, что все состоит в отчаянном пакте между инстинктом и эстетическими идеалами, пакте, из которого всегда извлекает выгоду инстинкт, более жестокий и свирепый, чем любой эстетический идеал, никогда не перестающий быть тем, чем он, как ни грустно, и остается: идеалом, эфемерным идеалом. (С другой стороны, если б этот пакт был благоприятен для эстетических идеалов, 90 % населения умерли бы девственниками.)
Итак. Я позволил себе этот экскурс, чтобы избежать подробного описания скрытых прелестей женщины, которую я продолжаю называть Марией, и чтобы, по ходу дела, избежать объяснения причин, приведших меня к тому, чтоб упрочить свои отношения с ней, продолжившиеся до того самого мгновения, когда я пишу эти слова.
– Знаешь, какая главная проблема у этой твоей убийцы собак, старик? – спросил меня однажды вечером Хуп, и я ответил ему, что нет, потому что мне немедленно представилось множество ответов.
– То, что, когда она хочет сказать что-то умное, она старается сделать умное выражение лица, но, в конце концов, получается выражение дуры.
(Признаюсь, я боялся чего-то худшего.)
По утрам в субботу, если в пятницу лег не очень поздно, я еду на псарню и провожу там какое-то время с Марией, иногда даже издали не видя ее постель, потому что она не особенно любит эти битвы из страха, что ей снова причинят боль, еще более глубокую. (Ее дурной опыт, бьющийся в кавернах ее ощущений…) (Она однажды рассказывала мне об этом дурном опыте, и он действительно был дурным, но не исключительным: всего лишь разрушенная мечта.) (А потом растоптанная.) (А потом, наконец, демон помочился на эту мечту, можно сказать.) (Но в общем, ничего сверхъестественного.) Мы говорим о собаках и о жизни вообще, обедаем в какой-нибудь окрестной забегаловке, ложимся в постель или нет, в зависимости от того, как подсказывает ее подсознание, а когда начинает темнеть, я возвращаюсь один в город, чтобы покутить с моими друзьями, хотя иногда мне хочется остаться с ней на ночь, но, как только выглядывает луна, я слышу зов тамтамов, вой ночных сирен в ледяном море джина, скрип петель на гробах вампирш, и ухожу, и возвращаюсь в следующую субботу, и мы снова говорим о собаках и о многом другом, и так далее, и таким образом мы постепенно привыкаем друг к другу, потому что любовь (или нечто подобное), в конце концов, и состоит в процессе присматривания и движения к согласию.
– Присматривания и движения к согласию?
Да, присматриваться к тайне чуждости и эмоционально соглашаться с этой тайной, хотя этой тайны и не существует. Ведь мы влюбляемся в тайну, хоть ее как таковой и не существует, как я уже сказал, в гипнотический поток, источаемый другим существом, и под воздействием этой тайны мы чувствуем себя более или менее счастливыми, более или менее укрытыми, до тех пор пока в один злосчастный день мы не решим удовлетворить наш философский инстинкт: проникнуть в суть какой бы то ни было тайны, и тогда мы понимаем, что имеем дело с неразрешимой тайной просто потому, что ее не существует, и что мы искали вату в тумане, убежденные в том, что туман – это вата.
Как бы там ни было, между Марией и мной не существует столь строгих (и одновременно столь возвышенных) правил, как, скажем, те, что управляют математической теорией множеств, но по крайней мере они ясны, или у меня создается такое впечатление: мы взаимно не нуждаемся друг в друге, но также и не досаждаем друг другу; мы не можем влюбиться друг в друга, но также и возненавидеть друг друга; мы никогда не ликуем в постели, но также никогда и не разочаровываемся; между нами нет слияния, но также нет и отталкивания. Она мечтает о женщинах, так же как и я, но это составляет часть укромной зоны каждого из нас, и другой туда не ступает, хотя какое-то время я питал бредовую надежду, что Мария решит поделиться со мной своими любовницами: двойная женщина и ошеломленный Йереми, погруженный в свою удвоенную химеру. Но со временем я понял, что это было бы вторжением в ее области, как я уже сказал, потому что это была ее тайная собственность, ее лес фей, плотоядно преследуемых феями, и я даже не решился постучаться в эту дверь (и избежал смешного положения). У нее есть две подруги, с которыми она регулярно спит, но в субботу является волшебник Мерлин и превращает этих подруг в тающую дымку благодаря силе своей озорной палочки и произнесенных шепотом заклятий, и тогда Мария принимает меня в своем мире приговоренных к смерти собак, а иногда – в тепле своего тела, обладающего скромной красотой.
– Скромной красотой?
Да, мне легко в этом признаваться, потому что возраст заставляет нас отказываться от преследования идеи красоты, правда? – и мы смиряемся с обладанием тенями, пленниками в пещере с неугасимым огнем, этими своевольными тенями, пристально смотрящими на стену, на которой вырисовываются другие несовершенные тени, и там мы кувыркаемся друг с другом, сообщники во мраке, потому что мы – охваченные желанием кроты, наугад ощупывающие выпуклости тела, братья и сестры по крови и страху, всегда стоящие спиной к пламени.
В общем, мы с Марией чувствовали себя комфортно в сумрачной пещере, видя, как наши китайские тени прыгают и обнимаются на стене. Нам бы хотелось попасть в другое место, конечно, но нам было легко обитать в этом подземном укрытии, в этом склепе, принявшем нас, и иногда у нас блестит там сердце, словно оно сделано из серебра, потому что в конечном счете сердце – это мышца, и она упражняется в иллюзиях. А потом и иллюзия смиряется, и это всегда большое преимущество, ведь самая болезненная проблема бытия состоит в жажде множественности.
– Множественности?
Да, множественности, разъединенности, отчаянном самопроявлении… Назовем это как нам взбредет в голову. Или скажем иначе: самая болезненная проблема бытия состоит не в самом бытии, а в горячем желании быть тем, чем мы не являемся, чтобы таким образом пытаться быть всем: быть леопардом, убивающим антилопу, быть антилопой, наслаждающейся своим бегом в холодный рассвет, ощущать невинную ярость леопарда и ощущать незапятнанный ужас антилопы, которая знает, что ее преследуют, быть охотником, повергающим леопарда, и ощущать своим собственным существом сочувствие, испытываемое грифом к зловонному трупу антилопы, пожираемой леопардом. Вот в чем болезненная проблема: стремление быть слишком многим. (Слишком: бесконечным множеством, каким мы не являемся и никогда не будем.) (И, однако, эта тревожная жадность до иллюзорных сущностей…) (Какая катастрофа.)
Мне нужно было написать работу по истории философии (жаль признаться вам, но она все еще не закончена), и я ходил от этого полубезумный, потому что не знал, какой предмет выбрать, поскольку тема была свободной, а также как ее развить, а кроме того, мне было стыдно от возможности опростоволоситься перед профессором, потому что профессора обычно очень злы в глубине души.
Вначале я задумал работу под названием «Предположительное предположение о предположениях» (одно из тех названий, что производят впечатление на дилетантов), так что однажды утром, когда в отделе паспортов все было спокойно, я стал делать записи: «Любое предположение – это невозможность в себе. Предположение может быть разумным или безумным, но безразлично, то оно или другое, потому что оно всегда останется таковым: предположением. То есть возможностью, бесполезной в качестве возможности, тем временем как, если предположение исполняется, оно перестает быть предположением, а если оно не исполняется, то зачем тогда было нужно это предположение?» В общем, по этой каменистой дороге шли мои мысли, когда мне позвонил комиссар, чтобы дать мне инструкции, и тогда вступил в игру фактор нежелательной и несколько невероятной случайности, а этот фактор более распространен, чем мы обычно думаем, несомненно, из-за той дискредитации, какой подвержены искусственные проявления случая, когда в них слишком много искусственности.
Так вот, когда я направлялся в кабинет шефа, я увидел, как два моих товарища ведут куда-то в наручниках Кинки. Было бы естественно, если б я этому обстоятельству обрадовался, но правда в том, что оно меня испугало. (Этот несчастный был в курсе моего увлечения психотропными средствами, он видел меня в костюме Мерлина, он был со мной в Пуэрто-Рико, он был другом моих друзей…) Кинки посмотрел на меня сверху вниз очень большими глазами, полагаю, потому, что его обескуражила моя форма, а потом улыбнулся мне той своей улыбкой, что умеет ранить, потому что содержит в себе шифрованное послание, которое я отлично научился разгадывать: «Ты – жалкий сукин сын, но я делаю тебе одолжение, выражая мое к тебе презрение улыбкой, а не плевком в лоб». Признаюсь, я занервничал, потому что дал ход бредовой идее, что задержание Кинки может навредить мне: он за словом в карман не полезет, донесет даже на самого себя, разболтает свои собственные злодеяния, а я ему не нравлюсь, и он может постараться впутать меня черт знает во что, чтобы и меня с собой утащить.
– Что с тобой? – спросил меня комиссар, увидев, как я вхожу в его кабинет с лицом цвета бумаги, и я сказал ему, что у меня болит живот, что отнюдь не было ложью, потому что весь сгусток нервов бился у меня там, словно дрожащая голова Горгоны Эвриалы (дочери Форкия и Кето, со своей шевелюрой из змей); я закончил дела с комиссаром и почувствовал, что у меня нет умственных сил продолжать свое софистическое опровержение предположения, и все мои рассуждения рухнули замертво, и я уже не мог восстановить их, потому что философские рассуждения – как сны: они рассеиваются, прежде чем врезаются в память, быть может, потому, что речь идет об эфемерных ментальных построениях. (Не знаю.)
У меня создавалось впечатление, что разоблачительные слова Кинки проходили сквозь стены и гулко звучали по всему комиссариату, словно были произнесены в рупор:
– Этот полицейский курит травку, и принимает таблетки, и наряжается волшебником, и у него пиратская радиостанция, и он состоит в связи с толстой лесбиянкой…
Само собой, я начал во все стороны сыпать вопросительными знаками, чтобы понять, удастся ли мне узнать о причине задержания Кинки:
– Что он сделал?
(И так далее.)
Но никто не знал ничего конкретного, и от этого я еще больше нервничал, потому что неопределенные подозрения – самые ядовитые, поскольку рисуют почти бесконечный радиус опасения.
Мне было пора уходить, и я по-прежнему ничего не знал.
(– Что-то серьезное, – говорили некоторые, основываясь на том, что комиссар даже не выходил выпить кофе на протяжении более двух часов, хотя официант бара напротив уже принес ему пять или шесть чашек.)
И я пошел домой, теряясь в неведении, и позвонил Хупу, не знает ли он чего-нибудь, но он даже не был в курсе задержания, так что, чтобы развеять тревогу, я вознамерился придумать какую-нибудь тему для своей учебной работы, потому что, как я уже сказал, мое предположительное предположение о предположении уже никуда не годилось: предположительная угроза. Я стал пролистывать книжицу, куда записывал важнейшие мысли философов в поисках какой-нибудь зацепки и тут наткнулся на забавное суждение Анаксимандра: человеческое существо, так же как и остальные животные, происходит от рыб.
(– От рыб?)
(Да, вот что творилось в голове у Анаксимандра.) Это хорошая зацепка, вне всяких сомнений, – рыбы… Я задумал свою работу как беседу между софистами, потому что это показалось мне оригинальным ракурсом:
– Ты утверждаешь, о Анаксимандр, что все животные происходят от рыб?
– Да, действительно, это так.
– Кошки тоже?
– Да, кошки тоже.
– Согласно этому, кошки, выходит, каннибалы, о Анаксимандр.
– Каннибалы?
– Да, потому что, по твоей теории, когда кошка съедает рыбку, она ест своего предка. И более того: когда ты и я едим мерлана, выловленного в Критском море, мы на самом деле являемся антропофагами, потому что жадно уплетаем сородича.
(В общем, так работают софизмы.)
Этим я и занимался, как вдруг стал думать о бесконечном, и это показалось мне лучшей темой для моей работы, чем тема рыб, так что я не стал сомневаться: «Слово „бесконечное“ стоит использовать с большой осторожностью. Или даже вообще не следует никогда его использовать, потому что оно обозначает идею не сказать, чтоб ложную, но иллюзорную. Кто-то как-то ночью во времена палеолита подумал о чем-то неизмеримом и безграничном, о чем-то, являющемся беспредельной суммой всего огромного, и так зародилась идея бесконечности. Но правда состоит в том, что человеческий разум – по крайней мере мой – не может даже вообразить бесконечное по той простой причине, что бесконечное не вмещается в человеческую мысль. (Примерно то же происходит и с Ничто, знаменитой мысленной концепцией, конечно, но оно не может быть физической ирреальностью: Ничто – это место.) (Быть может, плохое место, но место.) (Потому что если Ничто существует как таковое, мы можем отправиться туда на экскурсию, и будем при этом где-нибудь.) В общем, когда мы думаем о бесконечности, мы не думаем именно о чем-то бесконечном, а только о чем-то очень большом. Вот так просто: о чем-то большом, но не о бесконечном, потому что эта идея превышает нашу способность понимания…» И тогда я услышал, как колотят в дверь. А существует только один человек в мире, который вместо того, чтоб позвонить в звонок, станет колотить в дверь моего дома, – старина Хуп.
– Что за ядреная чертовщина произошла со стариной Кинки?
Я сказал ему единственное, что мог сказать: что я ничего не знаю, – и он мне сказал, что он тоже.
– Но, может быть, ты что-нибудь разведаешь?
И мы какое-то время разрабатывали гипотезы.
Потом Хуп изложил передо мной новый план: Тот, Кто Был предложил отправиться на разведку на нефтяную платформу, чтобы рассмотреть эту утопию на месте, и Хуп взялся за то, чтоб посредством своего агентства организовать эту поездку через Португалию. Он уже заручился одобрением Молекулы и Мутиса.
– Ты с нами, приятель?
И я сказал ему, что нет, само собой, потому что эта афера с водной страной кажется мне ребяческим вздором, и мне странно, что Мутис присоединился к экспедиции, обещавшей быть еще более безумной, чем наша поездка в Пуэрто-Рико.
– Только одни выходные. Решайся.
И я сказал ему, что подумаю, только для того, чтоб избавиться от его настойчивости, потому что даже под угрозой силы я не поеду в это путешествие. (Тем более что и Молекула в деле…)
– Я хочу попросить тебя об одолжении, – сказал он мне, снимая ботинки, и я задрожал, не только из-за того тревожного факта, что он снимет ботинки (?), но и потому, что концепция «одолжения», которой придерживается Хуп, всегда сопряжена с чужой жертвой. – Тебя не затруднит помассировать мне ступни? Я прямо ходить не могу, – и он показал мне свои голые ноги, и пошевелил пальцами, словно куклами, и воззвал к нашей дружбе, и спросил меня, есть ли у меня какой-нибудь крем.
Массируя ему ноги, я вдруг увидел его ауру, кто бы мог подумать, – ведь такое нечасто увидишь. Это была аура темно-лилового цвета, что совсем неплохо, потому что этот цвет входит в гамму благоприятных тонов. Тогда я закрыл глаза и почувствовал, как через его ступни в меня переливается сказочное умиротворяющее видение: улыбающийся фавн, полный силы, бегает вокруг группы молодых существ, самцов и самок, почти обнаженных, и все там очень зеленое, а небо бирюзовое, и тут ступни Хупа показались мне на ощупь двумя копытами, и я открыл глаза.
– Не останавливайся пока что, приятель. Продолжай.
И я продолжал массировать ему ступни, жесткие пальцы с жесткими ногтями, привыкшие скакать по мифологическим лугам, где играют эфебы и нимфы с их шаловливой невинностью, среди которых упорные фавны сеют радостный ужас своим бездонным желанием, своей бесконечной пьяной жаждой молодого тела, своим вожделением к доступным задницам, своей алчностью к вагинам цвета смятой розы.
(– Еще крема, Йереми.)
Когда мы покончили с этим, Хуп объявил мне, что собирается просить меня еще об одном одолжении, и, полагаю я, на лице моем помимо воли изобразился испуг, потому что Хуп обычно продвигается от меньшего к большему.
– Не бойся, приятель. Слушай, тебе только нужно поговорить со своей подружкой, убийцей собак…
И, в общем, попросить у нее, чтоб она достала кетамин.
– Кетамин? – спросите вы.
Тот же вопрос задал себе я. Так вот, кетамин – это обезболивающее, часто используемое в ветеринарии, но, в зависимости от дозы, оно может проявлять свою вторую, психоделическую сущность, поскольку обеспечивает разделение духа и тела, и ты принимаешься порхать повсюду, как призрак, беззаботный и невесомый, среди ветров и бесконечных панорам, и это, как говорят, напоминает путешествие смерти. (И его дают лошадям и собакам во время операции.) (И вышеупомянутые лошади и собаки становятся обдолбанными, как обезьяны.)
– Кетамин, старик. Запиши.
(Мария сказала мне, что у нее нет кетамина и что она не намерена впутываться в грязные дела, потому что уже арестовали нескольких ветеринаров, злоупотреблявших этим веществом, ставшим модным среди избранной группы психотропных пионеров.) (Галеоте, эксперт по наркотикам, подтвердил мне данное положение дел и заверил меня, что основное воздействие кетамина заключается в том, что чувствуешь себя чем-то вроде мечтательной коровы.)
(?)
– Ты поговорил со старухой убийцей собак о том, о чем я тебе сказал? – спрашивал меня время от времени Хуп, жаждущий совершить экскурсию в царство мертвых. Кстати, о мертвых…
Возвращаясь на следующий день на работу, я был в ужасе, что комиссар вызовет меня и прочтет мне расшифровку признания Кинки, где буду приплетен и я, неконкретно, но все же приплетен, в этом я был уверен, или по крайней мере упомянут, потому что Кинки окончательно утратил ко мне уважение и придумал новую игру – изводить меня, так что он не мог упустить случая приписать мне какие-нибудь подвиги, коль скоро это было столь сподручно. Но мои страхи оказались необоснованными, и тогда инстинкт подсказал мне, что задержание Кинки – дело нешуточное. Так что я начал расспрашивать.
Говорят, язык до Рима доведет, меня же он довел до Китая.








