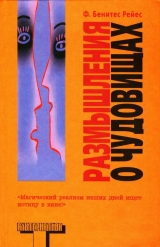
Текст книги "Размышления о чудовищах"
Автор книги: Фелипе Рейес
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 18 страниц)
Не знаю, я теперь думаю, что мы с Йери не могли быть счастливы полностью, потому что оба были и счастливы, и несчастны задолго до того, как познакомились, каждый по-своему: она – в юности (в возрасте из отшлифованного золота, блестевшего в ее памяти), я – несколько позже, а есть вещи, которые плохо поддаются подгонке: если ты хотя бы один только раз соприкасался со счастьем (а мое счастье, несмотря ни на что, звали Анной Фрай), а потом постоянно соприкасаешься с чем-то, что не вполне является счастьем, ничего уже не поправить, потому что счастье – это башня, упирающаяся в небо, и если эта башня рухнет, почти никто не чувствует себя в силах строить другую башню… разве что это будет башня из зубочисток, разумеется. (Кроме того, второе правило Ордена Пифагора рекомендует не поднимать то, что упало.) (Первое, несколько более спорное, запрещает есть бобы.) (Десятое, в свою очередь, запрещает есть сердце.) (Необыкновенный человек был Пифагор, правда?) (Маг, святоша и математик; он разговаривал с животными, потому что он верил в переселение душ, в то, что, например, какая-нибудь сова могла оказаться Демокедом Кротонским, врачом, сбежавшим от Поликрата, или неизвестным шорником с Самоса.) (И поэтому Пифагор разговаривал с животными: никогда не знаешь, каких кровожадных императоров, каких скандинавских колдунов, каких процветающих финикийских купцов убиваешь, нажимая на рукоятку пульверизатора с антимоскитным спреем. Иониец Ксенофан, кстати, высмеивал Пифагора за эту его теорию.) (Хотя Ксенофан все равно умер, превратившись – кто знает, в какое отвратительное животное, потому что в таких случаях никогда не знаешь наверняка.) (Кроме того, по словам Апулея, Пифагор побывал в Индии и там учился у брахманов.) (Что, несомненно, сказалось.)
Но я говорил о счастье, не так ли, об этом понятии, столь противоречивом, что его даже связывают с высшей болью. Счастье… В чем состоит счастье? По крайней мере в теории речь идет не столько о радостном потрясении, сколько о спокойной возможности наслаждаться тем, чем человек хочет наслаждаться (в том числе через боль, конечно), и, как следствие, не жаждать ничего бесплодно, не питать абстрактную злобу, не царапать в отчаянии туманную ткань неосязаемого. Но проблема коренится в основном свойстве человеческого существа (за исключением некоторых азиатов и подобных им), а именно: желать того, чего у него нет, и недооценивать то, что имеет, потому что желание более непостоянно, чем чувства, – ребенок в магазине игрушек.
Но, наконец, возвращаясь к тому, о чем я говорил: период времени, следующий за неудачей в чувствах, обычно оказывает на организм воздействие, подобное похмелью после смеси напалма с коктейлем пинья колада [5]5
коктейль из рома и ананасового сока, с кокосовым молочком и ванилью; подается сильно охлажденным.
[Закрыть], так сказать, ведь речь идет о достаточно туманном и бурном времени (с этим жжением шрамов разрезанного, разделенного пополам андрогена), – особенно если тебе не удается превратить его в уносящий прочь шквал, благодаря своей случайной смерти или (уже в стране Бредовой Утопии, где не требуют билет при входе, потому что попадание туда заранее обеспечено) благодаря стратегической помощи какой-нибудь юной девушки, которая приобрела дурную привычку прыгать к тебе в постель ночь за ночью и которая время от времени приводит к тебе в дом пару подружек, чтобы все вы побарахтались вместе, – словно стая ублюдочных нереид перед волосатым фавном, намеренным растратить свое состояние на подарки. (А иногда, судя по всему, даже это не удается, потому что нас стерегут враги: эрективная дисфункция, душевный обморок, общее недомогание… Все эти комические маски времени.)
В дни, последовавшие за дезертирством Йери, я начал понимать многое сразу, а понимать многое сразу – это все равно что ничего не понимать. (Кроме того, какого уровня понимания можно достичь, когда Время уже превратилось для тебя в своего рода уличного акробата с артритом, который пытается кувыркаться в твоей голове и кричит тебе:
– Эй, приятель, посмотри, как нам хорошо. Мы все еще в форме. Мир – наш, – и вдруг срывается, падает и выворачивает себе лодыжку?)
Мне несколько неловко признаваться в этом публично, но некоторое время я много ходил в бары и дискотеки для молодежи, и тогда я понял еще больше, но то, что я понял, не следует разглашать, хоть я и дам вам след: начиная с определенного возраста есть места, где ты чувствуешь себя подобно бродячему торговцу, который, входя в жалкую далекую деревеньку, обнаруживает плакат величиной в пять квадратных метров: В ЭТОМ ОКРУГЕ ЗАПРЕЩЕНА УЛИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ.
Потом я начал ходить в те бары, которые специализируются на клиентах тридцати лет, где обычно встречаются великосветские женщины, которые, сидя по двое, группками или, очень редко, в одиночестве, поглощают коктейли цвета быстродействующего яда, тем временем пытаясь нести свою тревогу с достоинством, свежестью и скромностью, хотя и не будучи в силах избежать, быть может, слишком оптимистичных догадок при виде толстячка, на запястье которого блестит золотой браслет, рассказывающего к тому же слишком длинные шутки. (Они почти благоухающие. Почти лощеные… Мне, по правде говоря, они очень нравятся, с этим их видом лилий с мясистыми лепестками, слишком долго простоявших в вазе…) Единственная проблема этих баров состоит в том, что у всех клиентов сознание уже превратилось в слишком экзотичный коктейль – коктейль из подозрительности, из разочарований, тяжелых дурных привычек, эндемических страхов… (В общем, коктейль из коктейля с пятьюдесятью восьмью каплями тоски, можно сказать). И это, разумеется, несколько затрудняет взаимоотношения, потому что, если ты подходишь с разговором к одной из тех, что там водятся, ты чувствуешь себя словно шулер, предлагающий партию в карты другому шулеру, в то время как на самом деле каждый шулер ищет для себя невинную душу.
Но если не обращать внимание на мелочи, бары для взрослых в самом деле хороши, да вы и сами, несомненно, в этом удостоверились: там смеются, танцуют, предлагают тосты: «Ваше здоровье», «За то, чтоб нам всем снова собраться здесь на твой следующий день рождения» и так далее. Это потрясающие бары: блондинка-виталистка в первый раз надевает мини-юбку после пятых родов, потный менеджер ослабляет узел галстука и принимается бросать взгляды прирожденного халифа женщине-биологу, которая не брила усы с тех пор, как ей исполнилось тридцать девять… Это, конечно, не Вавилонское царство, и, прощупав обстановку, понимаешь, что там эхом отдается мелодраматическое биение одиночества, и ты почти слышишь шум, с каким мясо отделяется от костей (шум, подобный тому, какой производит флан, если его перевернуть на тарелку), но все это не мешает им оставаться потрясающими барами для нескольких занятий: для того чтобы думать о ревматизме, об артрозе и о внезапной смерти, – но это само собой; кроме того, они потрясающе подходят для того, чтоб размышлять о комической стороне ужаса, о том, что в ужасе развлекательного, – и тогда ты спрашиваешь себя:
– А не заказать ли еще стаканчик?
И, конечно, заказываешь его. (Почему бы нет?)
Дойдя до этого момента, я считаю себя обязанным признаться в том, что с женщинами дела у меня никогда не шли особенно хорошо. (С Шопенгауэром происходило то же самое.) (Хотя он и тщательно отомстил за себя в своем эссе о них, написанном бритвой: «Они видят только, что находится непосредственно перед ними, обращают внимание только на настоящее, принимают видимость за реальность…») (Бедный Артур с его сдерживаемым семенем.) Кажется, есть во мне что-то, что им не нравится. Не думаю, что это что-то конкретно: мой нос, мой рот и так далее. Не думаю, что речь идет о какой-нибудь детали, как я уже сказал, потому что у меня нормальный нос и т. д.
– Возможно, причиной является то, что я – полицейский, – говорю я себе иногда; со стороны это может показаться параноидальным предположением, но дело в том, что у меня есть подтверждения тому, что люди опасаются полицейских, даже если не знают, что это полицейские: инстинкт. Даже когда мы одеты в штатское, по нам видно, что мы любим бороться со всяким сбродом, слушать стоны осужденных, их бесполезные заявления о невиновности; что нам нравится видеть, как трепещет убийца. Даже мы, служащие паспортного отдела, чувствуем себя могущественными, вручая пурпурную книжицу, потенциальный ключ к миру:
– Лети стрелой; титульный лист этой магической книжицы подписан комиссаром. Беги в свое агентство путешествий. Узнавай далекие страны. И не беспокойся: мои коллеги со всего мира позаботятся о том, чтоб тебя не обокрали и не убили. Будь уверен, они об этом позаботятся.
(Хотя иногда события ускользают у нас из рук.)
– Ты некрасив, приятель, и это знала даже твоя мать, но ты также и не урод. Ты состоишь в категории незаметных, – сказал мне как-то раз Хуп. – А это значит как бы быть нигде. (Тебе чрезвычайно повезло, приятель.)
На Земле, в конце концов, существуют сотни женщин, некоторые лучше, некоторые хуже, и это логично, но из всех них на меня обратили внимание только семнадцать, и что одна, что другая – все они – весьма неохотно. Двенадцать из них ушли от меня. И что еще хуже: трех из них я бросил сам, так, словно был лично визирем Самарканда. (По поводу двух оставшихся я не могу с точностью сказать, что на самом деле произошло; полагаю, что нечто похожее на случайную встречу двух прохожих, которые останавливаются на улице, чтобы проследить за полетом бабочки, до тех пор, пока бабочка вдруг не падает замертво, и оба наклоняются, отрывают у нее каждый по одному крылышку и идут дальше – каждый своей дорогой.)
…Теперь я, кстати, вспомнил объяснение, данное мне Хупом, когда я сказал, что мне не везет с женщинами:
– Послушай, Йереми, давай-ка отбросим глупости. Иметь успех у женщин означает встретиться ночью в баре с потрясающей девушкой, которая здоровается с тобой по имени, и не знать, спал ты с ней или нет, потому что предполагается, что у тебя голова до отказу забита народом с задранными вверх ногами. В этом состоит успех, а все остальное – нищета. Я не имею успеха у женщин, потому что помню всех, с кем кувыркался, даже тогда, когда мозги мои были в туристической поездке на Сатурне, понимаешь? Так-то вот, Йереми, приятель. Сексуальный успех всегда сопряжен с амнезией.
Но, по крайней мере на время, я хочу отложить этот вопрос в сторону, хорошо? (Посмотрим, может быть, позже…)
* * *
Прежде чем мне исполнится сорок лет, я хочу выпустить специальную программу «Корзины с отрезанными ушами».
С тех пор как я притащил к себе домой передатчик, похищенный моими товарищами у компании сочувствующих нацистам, я выпустил пятьдесят шесть программ разной длительности, в зависимости от того, что собой представляла тема. («Куда, интересно, запропастился передатчик?» – задавался иногда вопросом комиссар.) Мой творческий псевдоним – Нарсисо Вонки. Я понимаю, что многим он может показаться искусственным, подходящим иллюзионисту или танцовщику румбы, но мне он нравится: мифический Нарцисс, поглощенный созерцанием своей маски, плывущей в водах времени (примерно так), и Вонки – я полагал, что придумал это слово сам, но по-английски оно означает «неуверенный», как сказал мне Хуп, ведь Хуп знает понемногу обо всем. (Неуверенный Нарцисс, неуверенный, как все нарциссы.) (Это хорошо.)
Я не знаю, сколько людей слушают мою передачу. Иногда я подозреваю, что ее не слушает никто, то, что называется никто: ноль человек в сумме, – и это вызывает у меня ощущение, что я превращаюсь в призрак: бесполезный голос, звучащий в пустой ночи, – и тогда я чувствую себя бельгийским туристом, играющим на аккордеоне посреди пустыни Нафуд (или что-то вроде).
Я придумал устраивать конкурсы для радиослушателей, отчасти для того, чтоб развлечь их, и отчасти для того, чтобы узнать, существуют ли они, – например, конкурс тупых афоризмов.
(—?)
Да, я снял абонентский ящик на почте, чтобы люди отправляли мне туда самые тупые афоризмы, которые им встречались или которые они слышали за всю свою жизнь, но ни разу не пришло ни одного письма, автор которого надеялся бы выиграть приз, так что мне самому пришлось сочинить афоризм:
– Слушатели «Корзины с отрезанными ушами», ночные шпионы, победивший афоризм таков: «Каким взрослым становится человек, который стареет?» Желаем удачи его автору, Рохелио Лобо. Очень хорошая фраза, брат Лобо. Ты очень далеко пойдешь с афоризмами такого рода. Он очень глубокий: услышав его, хочется броситься головой в омут в водолазном костюме и остаться жить там, в окружении водяных змей.
В другой раз я объявил конкурс на испытанные страхи и тоже не получил ни одного письма, так что мне пришлось самому придумывать страдающего в муках призрака с железной пулей, застрявшей в лодыжке:
Меня зовут Рамон, но все называют меня Робин. Мне только что исполнилось двадцать шесть лет, но я выгляжу не больше чем на двадцать. У меня широкие плечи, очень тонкие ноги и немного толстые бедра. Я странный, хотя и не уродливый. Мне очень нравится курить, и мне нравится делать это стильно, говорят, что я курю как актрисы, когда исполняют роль путаны или шпионки.
Моя проблема заключается в том, что, когда я иду по улице, курю я при этом или не курю, люди думают, что я гомик.
Чтобы выбить у людей из головы эту идею, я отпустил бороду, но я знаю, что люди думали при виде меня: «Посмотри, гомик с бородой».
Тогда я решил побриться под ноль, чтобы отказаться от своих белокурых локонов, и я знаю, что люди после этого стали думать: «Смотри, гомик-скинхед».
Так что я решил отрастить себе длинные волосы, и знаю, что люди думали: «Смотри, длинноволосый гомик».
Какое-то время я решил изображать легкую хромоту, чтобы моя широкая и, по-видимому, чрезвычайно сексуальная задница перестала раскачиваться туда-сюда, но я знаю, что люди думали: «Смотри, вот идет хромой гомик».
Тогда я впал в такую глубокую депрессию, что перестал приводить себя в порядок и умываться, и знаю, что люди стали думать: «Ну и ну, вонючий гомик».
Словом, я обречен на то, чтобы люди считали меня гомиком. Не гомосексуалистом, а именно гомиком. И не то чтобы я стыдился того, что похож на гомика, – что мне с того? Какая разница, что думают люди, пусть думают, что хотят, если дома тебя ждет твоя Ванесса или твоя Марелу? Нет. Меня беспокоит то, что каждый раз, как мне хочется переспать с женщиной (а это случается пару раз за неделю), мне это стоит триста песет в минуту, потому что иначе было бы невозможно сделать так, чтоб женщины обратили на меня внимание: «Ну и ну, развратный педик этот Робин!»
В худшие моменты я дошел до того, что стал размышлять о возможности самоубийства, но меня отбрасывает назад мысль, что в газете появится следующая заметка: «Гомик покончил с собой».
Я буду с тобой откровенен, Нарсисо Вонки, потому что мне кажется, что ты – серьезный философ: я ненавижу несостыковки между бытием и судьбой.
Чао,
Робин.
У моего друга Хупа Вергары есть синтетические теории почти обо всем. (Даже о теории как таковой: «Теория – это удостоверение личности непонятного». Или о смерти: "Смерть состоит в том, чтобы отправиться в задницу." Мой друг Хуп… Я помню день, когда познакомился с ним в баре «Риносеронте». Когда я сказал ему, что намерен изучать философию, он пристально и серьезно посмотрел на меня и сказал:
– Послушай, ты, Хомейни (…). То есть, прости, Йереми… Так вот, Йереми, я сформулирую перед тобой философскую дилемму. Сначала она покажется тебе грубой, заранее понятной шуткой, но я хочу, чтоб ты уловил ее глубинную структуру, хорошо? Итак, посмотрим… Представь себе, что мы с тобой плывем в лодке и что эта лодка идет ко дну, хорошо? Представь себе, что морские течения тащат нас на необитаемый остров. Ты следишь за моими рассуждениями? Представь себе, что мы проводим пять лет вдвоем на этом мерзком острове. Представь, что мы очень подружились: вместе охотимся, вместе ловим рыбу, вместе плачем, один заботится о другом в случае болезни и так далее. Ну и вот, как в историях о мужчинах, потерпевших кораблекрушение, неизбежным оказывается фактор содомского греха, вплоть до того, что однажды я встаю с пенисом, твердым как камень, и говорю тебе:
– Йереми, старый приятель, я в отчаянии. Я больше не могу. Мне нужна женщина. Господь знает, как она мне нужна. Но, поскольку здесь нет женщин, я удовлетворился бы тем, чтоб немного тебя отодрать.
Так вот, ты оказал бы мне эту услугу?
Я, чтобы показаться дружелюбным и уравновешенным, сказал ему, что в крайних случаях смешно было бы соблюдать предрассудки: если тебя запирают в клетке с обезьяной на три недели подряд, ты в конце концов отымеешь обезьяну.
– Правда, Йереми? Будь откровенен. Ты позволишь своему старому другу Хупу надеть на тебя венок из орхидей и ожерелье из пальмовых листьев и немного попортить тебе задницу?
Поскольку ответ ни к чему меня не обязывал, поскольку у меня не было ни малейшего намерения садиться на корабль и поскольку весь этот разговор, по всей видимости, был экзаменом на чувство юмора, я уверил его, что да, я позволил бы старому другу это сделать.
– Ты благороден, Йереми, – сказал Хуп. – Ты добр и обладаешь пониманием, и ты, конечно, стрелой полетишь на Небо, когда умрешь, но знаешь, в глубине души ты всего лишь педик, не знающий об этом, и мне жаль говорить тебе это. Нулевой уровень тестостерона, Хереми. Так что усвой первый философский урок: если ты позволишь запутать себя какой-нибудь доктриной уличного мыслителя вроде меня, ты можешь кончить с разорванной задницей, проклиная тот час, в который тебе случилось заняться той же работой, что Сократ: размышлять больше положенного, чтобы иметь право сказать людям, что они невежественны и злы, что они – туристы, что они мелкобуржуазны. Или дело не в этом, кусок скрытого педика, друг мой Хомейни?
(В общем…) (Софистика по методу Хупа, можно сказать.)
Я собираюсь начать свою пятьдесят седьмую программу, но думаю, что прежде должен рассказать вам случай, который дает всеобъемлющее представление, довольно точное, о прежней семейной атмосфере, в какой я жил. Так вот… Однажды, вернувшись с работы, я услышал смех и голоса, доносящиеся из моей персональной каморки: два квадратных метра личного пространства в чулане, некогда бывшем прачечной, куда я поместил свои пожитки, когда Йери и дети окончательно сделали меня бродягой в собственном доме. Так вот, перед передатчиком с включенным микрофоном сидели дети и кричали что-то вроде следующего:
– Это пиратское радио наркозависимого полицая, которого зовут Херемиас Альварадо. Это пиратское и порнографическое радио. Арестуйте Херемиаса Альварадо. Он живет на улице Поэта Мигеля Эрнандеса 17,8 ºС, на полигоне Уча. Это пиратская радиостанция. Мы просим полицию обыскать дом Херемиаса Альварадо, он дерьмовый полицай, – и так далее, по очереди, они доносили на меня и иногда говорили дуэтом.
Йери пришлось не по вкусу, что я побил детей, хотя я побил их всего лишь как кошку, точившую когти о только что купленный плюшевый диван: то была взбучка средней интенсивности. Но ей это пришлось не по вкусу, как я уже сказал вам, и не только потому, что она не знала всей серьезности, какую могло бы принять это дело, если б мои коллеги услышали это сообщение (а ведь у нас есть для этого средства), но и потому, что считала нужным применять в воспитании детей методы, основанные на диалоге и понимании, как будто у этих детей за спиной крылья и на груди арфа. (И как будто наша квартира – это Афины Перикла.) Йери два дня со мной не разговаривала. (Дети же больше никогда со мной не разговаривали.) (Именно то, что называется никогда.) И вот, я не особенно мстителен и злопамятен, правда, нет, и не из-за высоких моральных качеств, а потому что у меня забывчивая память сердца, но признаю, что однажды утром я привел в дом товарища из комиссариата, эксперта по информационным технологиям, чтобы он посадил тридцать или сорок вирусов на компьютер этих маленьких сукиных сынов. По словам моего товарища, речь шла об универсальном наборе наиболее разрушительных вирусов, тех, что способны за пять секунд уничтожить не только информационную систему, но и центральную нервную систему пользователей. Однако, когда они вернулись после занятий, заметив эту эпидемию, они также прибегли к помощи сообщника – толстяка.
Как только пришел толстяк, они отвели его на кухню и поставили перед ним кучу всякой еды.
– Это что еще за плут?
Но они оставили меня без ответа, как и следовало ожидать. Сам толстяк тоже не предпринял попытки раскрыть свое инкогнито, потому что был поглощен муссами и бисквитами, – он медленно и церемонно пережевывал, так, словно состоял в учениках у архиепископа. Я постарался не пропустить ни одной детали из операций, осуществлявшихся этими тремя, и, насколько я мог заключить, толстяк был чем-то вроде информационного экзорциста, который в обмен на неограниченный полдник терпеливо, одного за другим, ликвидировал все вирусы. (Вот невезуха.) Когда толстяк покончил со своей задачей по искоренению, дети проводили его до двери и вдоволь надавали ему пинков и подзатыльников, потому что они никогда не отличались благодарностью. (Йери подарила им хомячка, а они сделали ему инъекцию виски. Он выжил чудом. В другой раз они еще что-то ему вкололи, и этого он уже не перенес.)
Однако уже пора запускать передачу…
– Сегодня ночью мы начнем с того, что поговорим о философии танца… Так что вперед, выстроим наш радиоурок в форме горячей просьбы… Например: о, феи с двумя молочными висячими садами на теле, избегайте плохих танцоров. Это говорю вам я, Нарсисо Вонки, один из трех или четырех наихудших танцоров, когда-либо ходивших по этой земле, включая инопланетных головастиков. Мужчина, которого вы заслуживаете, должен танцевать так, словно от его извиваний зависит урожай или нашествие табунов буйволов. Мужчина, которого вы заслуживаете, должен танцевать перед вами, словно дикарь перед шестиротым идолом.
Взрослые плясуны… В сущности, нам следовало бы взять скальпель, проделать им маленькую дырочку на затылке и вытащить через нее позвоночник.
Сейчас двенадцать ночи. Час, когда скрипят дверные петли космоса. Точное время, когда граф встает в своем гробу, обитом лиловым атласом. Это час, когда пацаны с кудрявыми шевелюрами выходят из своих квартир, находящихся под защитой государства, с ножичком в кармане, чтобы пройтись по районам с несколько более дорогими домами, чем их собственный, в поисках какого-нибудь куска сала, у которого с собой окажется пара мешков с деньгами и который склонен трепетать перед загадкой непредвиденного или, еще лучше, перед загадкой случая: удар ножа – да или нет?
Радиоволны проникают в твой дом, словно огромные невидимые призраки. Радиоволны сделаны из той же материи, из какой сделан Бог-Отец: туманная ткань и ментальный шум. Ласточки из стереозвука, которые влетают в твои окна, переступают твой порог, проходят, словно грешная душа, через стены твоего маленького дома с замком на пять оборотов, которые втекают в конце концов к тебе в уши, чтобы проникнуть в сердцевину твоего мозга и разорваться там, словно симфонический снаряд.
Мы – почетные члены Клуба Корзины с Отрезанными Ушами. Нам нужно слышать, потому что тишина пугает нас. Человеческие голоса заменяют легендарную музыку сфер. Потому что представьте вселенскую тишину, тишину нерушимую, плотную тишину: мы завизжим, как обезьяна в зубах бесстрастного каймана.
Двенадцать часов одна минута. Вы еще там? Это «Корзина с отрезанными ушами», ваша нерегулярная радиопрограмма.
(И т. д.)
* * *
(Такова традиционная схема моих радиопрограмм: начать с конкретного случая, чтобы дойти до абстрактных, обобщающих разглагольствований, ведь этим курсом следует мышление выдающихся философов: выдающийся философ ломает себе лодыжку, садится за свой стол ментальных операций и записывает: «Вся вселенная – это галактический мусор», например.) (Это подходящий метод: от частного к общему. От домашних противоречий к космическому ужасу.) (От мельчайшего ничто к Ничто, одетому в шелка.) (Потому что философия подразумевает приспособление мировой механики к личной динамике, а не наоборот.) (Не забывайте об этом, если хотите получить успех в качестве философов.)
Поскольку у меня есть способности (скромные способности, но способности), я время от времени угадываю, что произойдет в будущем, хотя этим пророчествам не всегда можно доверять, – мне кажется, я уже об этом говорил: будущее – это всегда неверный путь, потому что, хоть ты и видишь то, что случится, с относительной ясностью, нужно считаться с фактором искривления – твоим воображением, которое обычно бывает от природы оптимистом, особенно когда переживаешь период отчаяния, и тебе остается только одно: представлять себе, что все ужасное преходяще. (Хотя, логически рассуждая, оно не всегда бывает таковым.) У тебя внезапно возникает тревожное озарение, и ты знаешь, что почти наверняка все нехорошее сбудется, но твое воображение говорит тебе:
– А что, если все произойдет наоборот? Что, если это была неверная трактовка неверного видения?
(Воображение: дряблая мечтательная танцовщица из мозгового кабаре со своими толстыми лодыжками…)
Однако проблема становится серьезнее, когда ты находишься в плохой полосе воображения и тебе удается предвидеть только плохую сторону событий, – кстати, это обычно бывает настоящая сторона событий, – хотя события могут быть для тебя и благоприятными. (Этот феномен я осмелился назвать «подозрительное воображение ad nauseam [6]6
до тошноты ( лат.).
[Закрыть]».) Без Йери мое будущее было столь обширной территорией, что я даже не знал, с какой стороны начинать идти по нему. Я, внезапный холостяк поневоле, считал, что впереди у меня – сколько угодно будущего, и в результате мне не удалось разобраться в своем настоящем, воспользоваться дарованным мне состоянием свободного времени, без «до» и «после», и, таким образом, я в конце концов впустую растратил эту неповторимую возможность: имярек, оказавшийся одновременно хозяином будущего и мгновения.
Скажем, к примеру, я заговаривал с девушкой, с которой мне хотелось бы лечь в постель, – и закрывал глаза, принимаясь зондировать наиболее близкое возможное будущее: следующее утро. И что я видел? Освежающий образ сирены, выныривающей из облупленной ванны? Нет, правда ведь? Я видел скорее маску с потрескавшейся эмалью, старающуюся улыбаться с выражением паники, свойственным овце, чувствующей, что ее собираются отправить на бойню, как бы ей предварительно ни украшали шею розовой ленточкой. (Или похожие образы.)
Это был для меня плохой период с точки зрения парапсихологии, как я уже сказал. Были случаи, когда я видел женщину тридцати лет и не мог не представлять ее себе на тридцать лет старше, а это вызывает совсем особенные чувства, уверяю вас, потому что это очень похоже на то, как если видишь, как из белого торта вылезает зеленоватый червяк, так что в надежде вновь обрести здравый смысл я на какое-то время перестал ходить по ночным барам, а такое решение всегда бывает болезненным. (Но человек не может быть повсюду.) (Особенно если он уверен в том, что ошибочное место не находится в каком-то конкретном месте, а именно повсюду.)
Прежде, когда еще не изобрели холодильник или что-либо подобное, были люди, которые в жаркое время ходили собирать снег на горных вершинах: так называемые снежники, – это на случай, если кто-то не знает.
Дорога в город обычно была очень длинной, потому что снег – это фрукт, созревающий на высоте облаков, и снег постепенно таял в телегах, которые тащили мулы или задумчивые быки. Снежники с тревогой смотрели на то, как уменьшается в размерах их груз, потому что и цена его уменьшалась, и полагаю, иногда они спрашивали себя, выдержит ли снег дорожную жару, и, полагаю, они также спрашивали себя, стоило ли на самом деле прилагать все эти усилия и везти его. (Я считаю, что да, естественно, потому что снежники были коммерсанты, лирические коммерсанты, но все же, в конце концов, коммерсанты.)
Так вот, поскольку такого рода аллегорические отступления требуют почти всегда поучительной морали, вот вам она, и совершенно бесплатно: "Очень похожим образом человек рассматривает свою собственную жизнь, свою все уменьшающуюся порцию времени – этот бестолковый снежный ком, испаряющийся каждое мгновение, истекающий кровью (образно говоря) капля по капле, сточная канава под не-сущим." (Впрочем, относительно легко говорить как Конфуций или как древние пророки, хотя никто не слушает тебя, что и логично. Даже ты сам, быть может, потому, что ощущаешь себя темнокожим прорицателем, который носит под своей темно-лиловой туникой комплект бирюзового белья. Но в конце концов…)
Меня не приводит в восторг тот факт, что я популяризирую такого рода доктрины, хотя у меня и нет другого средства, кроме как сообщить вам о том, что время наполняет наши глаза блеском страха. Всех: кошку, ящерицу и доктора медицины. (Всех.) Глаза в конечном счете выдают личный страх, потому что в них перестают функционировать фильтры: невинность, удивление, неожиданность. Смотришь на котенка – и видишь в его глазах искрящуюся радость, когда он возвращается в гостиную с пушистыми коврами, съев свою порцию специального корма для котят от шести до двенадцати месяцев. Но зато пронаблюдай за взрослой кошкой в тех же самых обстоятельствах: ты увидишь в ее глазах след глубокого унижения – унижения опустившегося хищника, который ест безвкусный корм из миски со своим именем. И то же самое – с ящерицами: молодая ящерица с живыми глазами, неустанный кавалер, бегающий за развратными ящерицами-самками по стенам, – и старая ящерица, ее глаза рептилии, наученной горьким жизненным опытом, с болтающимся зеленым членом. И примерно так же юный докторишка со своим первоначальным комплексом шамана-спасителя, уверенный в своих знахарских руках, постепенно будет приобретать это отражение профессиональной паники в глазах – перед дичайшими явлениями, которые наше собственное тело способно сотворить, чтобы убить нас: цирроз, диабет, эмфизема… (Все это так, и нет смысла популяризировать эти тезисы, ведь это, кажется, рассчитанное на дешевый успех оружие плохой философской школы – школы сраженного ужасом Сократа, которому только что запустили в лицо тортом с цикутой.)
…Но я вроде бы говорил о чем-то более или менее конкретном. О Йери и детях, если я правильно помню.
Йери, да. Двое детей… Как бы там ни было, я думаю, что эту историю лучше рисовать толстой кистью: Йери и дети были одним кланом, хотя дети не особенно любили Йери, и я был принципиальным врагом этого клана – судьей с виселицей, похитителем кур, конокрадом и самогонщиком картофельного виски. (Все одновременно.)








