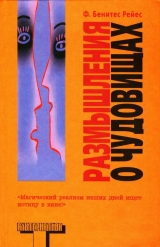
Текст книги "Размышления о чудовищах"
Автор книги: Фелипе Рейес
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 18 страниц)
В общем, Бласко целую ночь путался в мелодраматических доводах, и его истории становились все более нелогичными, более ужасными и одновременно более чистыми, по мере того как он напивался, потому что алкоголь, кажется, добавлял в его рассказ эхо настойчивой и смутной жалобы, мелодию заикающегося, пастообразного стихотворения, с ритмом, отмерянным метрономом трепещущего, вскрытого сердца. (Сам Платон в своих «Законах» отмечает воспитательную ценность, вытекающую из разговоров пьяниц.) (И Шопенгауэр, со своей стороны, полагает, что людям надлежит обращаться друг к другу не «господин» и «сударь», а «товарищ по страданию».)
Бласко устроил мне веселую ночку, но я благодарен ему за приглашение войти в личный ад его ужаса. Из просто друзей, делящих между собой зыбкое пространство ночных химер, мы стали сообщниками по несчастью, а любое сообщничество – это хорошо. (Даже то, что основано на несчастье.)
Придя домой, я задал себе инфрафилософский вопрос:
– Что мы знаем о людях?
Вопрос, который внезапно делает нас еще более одинокими, более боязливыми и который попутно, словно серебряный мост, приводит нас к другому вопросу:
– Что мы можем знать о человеке даже в случае, если знаем о нем много, да и какой смысл обладать этим остаточным знанием, дополнительным, бесполезно компенсаторным?
Мы, люди, думаем в нечеткой форме слов и образов, некоторые из нас также имеют в своем распоряжении запасной ресурс – ясновидение, но боюсь, мы можем представить себе чужой ад только приблизительно: точный и верный образ своего ада каждый ревниво хранит в черном ящике, регистрирующем катастрофы бродячих самолетов сознания, и этот ящик не разрушается даже тогда, когда наступает момент нашего разрушения, и мы забираем его с собой на тот мир, и превращаемся в призраков, слоняющихся там и сям с черным ящиком под мышкой.
(Боюсь, с тайной совестью не может справиться даже смерть, она не испаряется.) (Она не испаряется.)
* * *
Есть такой афоризм: «Реальность не обращается хорошо даже с реалистами». Я говорю это потому, что в эту трудную эпоху жизни столкнулся на улице со своей излюбленной легендой – с Анной Фрай.
– Я занимаюсь медитацией. Рисую эскизы украшений и медитирую, – сообщила мне она в баре, куда мы зашли выпить кофе и отравить друг друга мыслями вслух, как в старые времена.
– Я никогда не была влюблена в тебя, Йереми, но ты был влюблен в меня, как безумный. Слишком влюблен. Это была бы редкая случайность, если б два человека могли влюбиться друг в друга с одной и той же степенью безумия, понимаешь? Такого почти никогда не происходит. Любовь – как весы, Йереми, и на этих весах две чаши, да, но на одной чаше всегда больше груза, чем на другой. Вес на них плохо распределен. Всегда.
(По ней издали было заметно ее новое занятие – медитировать. Медитировать с очень нахмуренным лбом, почти профессионально.) (И тогда мне пришли на память несколько фраз, которые она любила повторять, когда мы жили вместе: «У тебя ужасные носки», «Ты делаешь мне больно», «Сегодня ночью ты храпел», «Какой свинарник».)
Я уже девять лет не видел Анну Фрай. А девять лет – это много для чего угодно, но особенно для лица, а на лице Анны Фрай была записана эмоциональная летопись всего этого времени, мелким-мелким почерком, – в каждом ее выражении, в каждой ее морщинке, в каждом оттенке ее взгляда, пренебрежительного и высокомерного: а) ее непростые отношения со всякого рода абстрактным мышлением; б) ее несвязные кошмары, эти прожорливые фантазии, потому что в ней не была развита способность отличать свои сновидческие страдания от реальности, так что она вменяла мне в вину то, что я делал в ее снах: спал с другими женщинами, оставлял ее посреди леса, полного волков; в) ее неспособность жить одной и неспособность жить с кем-то: она была королевой линейного лабиринта своего сознания, с минотаврами в состоянии постоянной эрекции, и д) ее коллекция домашних страхов, параноидальных предчувствий: она была убеждена, что смерть одержима тем, что ежедневно расставляет ей ловушки: случайные пожары, утечки газа, наводнения, грабежи, провалы породы… Все это, и еще другое, было написано на ее лице, быть может, невидимыми чернилами, но только не для меня, мгновенного дешифратора этих иероглифов.
В первый раз, как я переспал с Анной Фрай, я не мог не задаться вопросом о причине, по какой одна из самых красивых девушек, которых я когда-либо видел в своей жизни, находится в этот момент подо мной, с раздвинутыми ногами и без трусиков, театрально дрожа, постанывая, переворачиваясь, корчась, словно собственная красота душит ее изнутри, – извивающаяся суицидальная змея. Я искал какую-нибудь причину, как уже сказал, но мне не удавалось ее найти, и я приписал происходящее сумасбродному капризу этого шута в шапке с бубенчиками – случая, всегда склонного раздавать непредвиденное наобум, – хотя потом, постепенно, эта причина открывалась мне с той же ясностью, с какой внезапно открывается перед нами общий рисунок головоломки, после того как мы несколько месяцев провели, складывая ее две тысячи фигур с округлыми контурами.
(—?)
Попытаюсь объяснить, что я имею в виду… Если оценивать в общих чертах, наш разум – это не очень хорошая машина. Нет. (Обычно он таким не бывает.) Но разум Анны Фрай был машиной особенно испорченной: мысли, порхающие в пустоте, без направления, не сознающие своей бесполезности, хотя и с непреодолимым желанием парить над пустыми пропастями, строить нравственную систему из кирпичей из тумана. Анна Фрай, под конец занявшаяся медитацией и дизайном украшений, обладала этим столь распространенным дефектом: думать без помощи разума, тосковать по звуку метафизических шестерен, ни разу не слышав этого звука за всю свою жизнь. Рассудительная речь Анны Фрай всегда казалась мне чем-то вроде нестройного концерта колоколов, хаотичным перезвоном апотегм и общих мест, пропущенных через фильтр мутного разума, который вместо того, чтоб очищать, интеллектуально затуманивал любое событие.
– Читать энциклопедии могут только деревенщины. Энциклопедии не читают, – говорила она, когда я стал время от времени заглядывать в энциклопедию, подаренную мне отцом, – я все еще этим занимаюсь, не знаю, в память о том периоде своей жизни, когда я поглощенно сидел за машинкой, каторжник мирового знания, или чтобы продолжать узнавать вещи, знакомые очень малому количеству людей: точное местоположение архипелага под названием Тристан да Кунья, историю белкового вещества, известного как интерферон, или год смерти (1355) Инес де Кастро, тайной любовницы принца, тайной супруги принца, убитой по приказу короля.
(– Так делают только деревенщины.)
Как бы там ни было, наша история была туманной: молодой полицейский, сидящий на гашише, бродящий по ночам и сентиментальный, и девочка из непростой семьи, в одежде, едва прикрывающей тело, похожая на томную восточную танцовщицу, потому что у нее был этот дар – волшебное строение костей. (Ее позвоночник, натянутый, словно струна скрипки…) (Музыка в движении ее позвонков.) (Хотя в голове у нее звучала какофония.) (И мои не верящие своему счастью руки, заставляющие вибрировать этот постанывающий диапазон.) (Одним словом, красота – горе вам и мне! – эта великолепная маска драконов, нашептывающих нам медовые слова, прежде чем сожрать наш разум.) (Опасная красота: Анна, Анита, Анна Фрай, чудесная психопатка, обнаженная, ступающая на цыпочках по скрипящим плитам пола в нашем жалком дворце.)
(– Это свинарник.)
(Пленница в свинарнике.)
Я был с ней шесть или семь месяцев. (Не могу вспомнить точно, потому что то было время, движущееся по кругу: сферический лимб.) Однако этого промежутка, дурно завершившегося, хватило для того, чтобы Анна Фрай превратилась для меня во что-то вроде мифа, в почти нереальный образ моего прошлого, в нечто, даже сегодня не укладывающееся связно в моей судьбе: в сверхъестественный подарок, временное обладание ангелом.
Так вот, любое совершенство таит в себе черты чудовища, не правда ли? (У всех лебедей, например, уродливые ноги.) Сначала я не отдавал себе отчета, но однажды утром заметил:
– Что у тебя с глазом?
И она закрыла глаз рукой и ответила, что ничего. На другой день я снова заметил что-то и спросил ее о том же, а она снова ответила мне, что ничего. Каждое утро я подкарауливал этот левый глаз Анны Фрай, я стал шпионить за этим глазом до тех пор, пока ей не пришлось признаться мне, что речь идет о врожденном дефекте: особенности нервной системы, из-за которой ее левое веко открывалось только через полчаса после ее пробуждения. (Гипнотический глаз-цветок.) (Морфическое веко.) По утрам Анна Фрай временно становилась одноглазой, покачивающимся, непричесанным циклопом, со своим глазом, смотрящим во мрак, нерасторопно открывающимся миру, и этот недолговечный стигмат унижал ее: фея, превращающаяся в чудовище, утренний одноглазый уродец.
– Ну, Йереми, была очень рада видеть тебя, хотя теперь у тебя меньше волос.
Прощаясь с ней, я с жадностью вдохнул аромат ее духов, тех же самых, какими она пользовалась, когда мы с ней оба участвовали в сумасбродном предприятии судьбы, потому что они пахли… Не знаю, говорить ли, хотя, боюсь, в конце концов, вам придется простить меня, и я все-таки скажу, потому что я не могу придумать возвышенной метафоры, ведь речь идет не о возвышенном аромате, а о грубо телесном, со всей жестокостью гноя: одним словом, эти духи пахли влагалищем, вымоченным в жидкой луне, оставляющим беспокоящий шлейф аромата в комнатах, в барах, даже на улице, и этот дикий шлейф заставлял мужчин смаковать перед ней смешанное чувство желания и отчаяния, и они оборачивались на улице, чтобы посмотреть на Анну Фрай, и нюхали воздух, след запаха водяного грота, но Анна Фрай шла под руку со мной, все дальше по туннелю времени, по туманному золотому веку, когда я просыпался и видел, что она спит рядом со мной, терпя кораблекрушение в своих ночных кошмарах: ее длиннее упругое тело, одна нога всегда приподнята над другой, волосы, спутанные, словно клубок черных змей, и все время этот запах влагалища, вымоченного в лунной эссенции, висящий в воздухе, пропитывающий мир, мой мир… (И этот ее драгоценный глаз, какое-то время медлящий, прежде чем открыться, мембрана, плененная сном, в его сырой келье.)
Анна Фрай…
– Как захотите – поедем в Пуэрто-Рико, ребята.
– Ты продал Ленина?
Хуп не продал бронзового Ленина, потому что рынок, кажется, был пресыщен бюстами Ленина, но предложение по-прежнему имело силу: Пуэрто-Рико, двенадцать человек по цене шести, восемь дней, семь ночей. (Такое не повторяется.)
– У меня уже есть восемь путешественников, которых недоставало. У нас не выйдет поехать совсем бесплатно, но это будет очень дешево, – сказал нам Хуп. – Чрезвычайно дешево.
Так что мы собрались в «Оксисе», чтобы изучить возможный план бегства, и, на самом высоком пике эйфории, согласились, что да, Пуэрто-Рико. Отпуск.
Хуже всех дела обстояли у Бласко, селеноцентрического поэта, всегда бывшего на мели, шатавшегося по дискотекам для немолодых эстеток едва лишь с тремя дуро в кармане, отвечающего на приглашения пятидесятилетних женщин читать им на ухо тремендистские стихи, но мы решили, что мы поровну заплатим его долю, потому что речь действительно шла об очень небольшой сумме денег. (И товарищество, и так далее.) Так что мы внезапно стали обладателями необыкновенной мечты: Пуэрто-Рико. Конкретное применение для неконкретной тоски: Пуэрто-Рико. Я по крайней мере воспринял эту туристическую мечту как способ сбежать от самого себя… Да, согласен, я понимаю, что идея «бегства от себя» – очень дешевая идея, свойственная философским системам в критический момент распродажи имущества по причине полной ликвидации предприятия, но (а что вы хотите?) в жизни многое связано с дешевыми идеями. (Быть может, слишком многое.) Пуэрто-Рико, семь ночей, вдали от самого себя, сбежавшего в утопию. (Йереми там, в заморской аркадии, с кокаиновым коктейлем в руках…)
Назначив дату, устраивавшую нас всех, через восемнадцать дней после этого консилиума, проведенного в «Оксисе», мы встретились ночью в аэропорту, в шумном храме преходящего, с бестолковым багажом на горбу, нервничая, с ежеминутно возникавшим позывом сходить помочиться, напуганные командными голосами системы оповещения, длинными боковыми коридорами. Внимательно следя за часами. Внимательно слушая объявляемые номера выходов.
Это был мой первый выезд за границу. (Я, агент Альварадо, вручивший тысячи паспортов тысячам улыбающихся мужланов…) Само собой, у меня было предчувствие, что наш самолет упадет, а мы, ясновидцы, придаем большое значение предчувствиям, но Хуп заверил меня, что это всеобщее предубеждение: все пассажиры думают, что их самолет разобьется, несомненно, потому, что все мы считаем себя главными героями в звездной роли судьбы. (Ведь Шопенгауэр говорил, что предчувствия чаще бывают грустными, чем успокаивающими, «потому что в жизни больше скорби, чем удовольствия».)
– Я вас представлю друг другу, – сказал Хуп, и так мы познакомились с Кинки, Франки Татуахе и Николасом Мартином, потому что имена остальных пятерых членов нашей туристической команды не стоит упоминать: две супружеские пары и еще один тип, выглядящий как некий гибрид ученого и педераста, хотя, думаю, в действительности он не был ни тем, ни другим.
Как я вскорости узнал, ведь это было первое, что он нам рассказал, Кинки накануне путешествия предпринял рейд по квартирам, чтобы достать денег, потому что, хотя его обычное занятие состоит в нарушении закона, ввиду непредвиденного пуэрториканского приключения он был вынужден проработать несколько дополнительных часов, тем более что чувство осторожности не входит в число его добродетелей, в число которых, напротив, входит талант проникать на чужую территорию с осторожностью мыши. Но не только розы растут в туманном саду преступления:
– На днях я забрался в дом на окраине, стоящий в отдалении, без собаки. Старуха работала на огороде, где было полно помидоров и всего такого. Поскольку внимание старухи было занято упорной работой с помидорами, я вошел через окно. Везде было полно церковного хлама: гравюры с полумертвым Христом, зажженные лампадки с маслом, гипсовые святые… Всякая божественная чепуха. Вскоре я уже знал, что во всем доме нет ничего ценного, ведь профессиональное чутье не подводит меня почти никогда, но продолжал шарить по комнатам, потому что есть у меня этот недостаток, любопытство. И вдруг в спальне, на кровати, я обнаружил мертвеца. Мертвеца! Он разложился уже почти до костей, и червяки размером с палец кишели по всему его разложившемуся телу, и в комнате ужасно воняло мертвецом. Вот так номер.
Со своей стороны, Франки Татуахе, как указывает его апокрифическое прозвище, был владельцем салона татуировки [30]30
«Tatuaje» по-испански – татуировка.
[Закрыть]. Видимо, лет двадцать назад он был очень красивым парнем: голубые глаза, белокурые волосы, – но у него уже появился этот пустой взгляд, свойственный красавчикам, никогда не отличавшимся большим умом: взгляд глубоководной рыбы, бродящей по морю сомнений. Франки говорил только о сексе: это была его единственная тема, без отступлений, без побочных рассуждений, нарушающих эту центральную линию. Секс. Разговоры о сексе. Без перерыва. (Трахаться, влагалище, пенис, пенис…) Только секс. Сексуальный параметр, прилагаемый ко всему, как будто это некая универсальная вещь на все случаи жизни:
– Я собираюсь оттрахать всех стюардесс, когда мы будем пролетать над Бермудским треугольником. Парапсихологически совокупиться. Со всеми, – заверял он нас, стоя в очереди, чтобы сдать багаж, и продолжал заверять даже после того, как Хуп разъяснил ему, что мы не будем пролетать над этим заколдованным треугольником, мифическим пожирателем туристов. Кроме того, у Франки на 35 % тела были татуировки: приапические драконы, женщины в бикини, сердца с именами… Человек-реклама своего бизнеса, своих царапающих когтей, можно сказать.
Николас Мартин был таксистом, ночным таксистом, и поскольку ночью город очень похож на джунгли, ему нравилось понемногу внедрять в них цивилизацию и вершить правосудие доступными ему средствами: компактным стальным ломиком, слезоточивым спреем и автоматическим ножом. (Он, Николас, бич преступников, наказание для наркоманских халифов люмпена, гроза прижимистых шлюх.) (Он, Николас, героический супертаксист, бессонный возница, питающий свою гордость тем, что немного наводит порядок в космосе.) (Он, Николас, раб таксометра, но чувствующий себя императором…) Этот Николас Мартин отличался тем, что всегда обрывал фразу на середине или строил ее несуразно, по настроению, все время колеблясь между галиматьей и анаколуфом, например:
– Смотри, если Пуэрто-Рико потом такой же, как этот, о котором я тебе говорил, это дерьмо, эта, Колумбия, мне о ней одна шлюха рассказывала, из тех, что оттуда, – и это казалось морфосинтаксической загадкой, с призом в миллион для того, кто ее разгадает, и никто не мог уследить за нитью речи Николаса, если, конечно, столь высокого названия заслуживает то, что выходило у него изо рта:
– Мне кажется, эта штука, самолет, мне, когда я, на такси своем…
Через огромные окна мы наблюдали, как отправляются в полет самолеты. (Это священное изящество цапли, с каким взлетают самолеты…) (Держа курс на разнообразный мир, самолеты…) И почти на час позже, чем было предусмотрено по расписанию, мы вошли в синтетическое брюхо Боинга-747, держащего курс на один из островов Карибского моря, – в общем, кто бы мог подумать.
Во время полета наши новые друзья начали бурно проявлять свою натуру, полагаю, отчасти потому, что Хуп, едва только поднявшись на борт, положил каждому из нас на ладонь по паре таблеток спида:
– Лучше примите-ка это, ребята, ведь от снотворного в самолете можно только шею вывихнуть. Отоспимся еще, как ящерицы, когда доберемся до Сан-Хуана, – и все мы проглотили таблетки, включая Мартина, таксиста, борца с пороками, потому что, хорошенько рассудив, понимаешь, что лучше весело провести ночь в самолете, чем болтать башкой, как кукла… По крайней мере теоретически, ведь иногда реальность оказывается гораздо сложнее любой теории.
– Бесконтрольная энергия, ребята. Мы – бессонная команда и подадим пример этим бездельникам, укладывающимся спать.
Подадим пример, да. (А как же?) Таксист Мартин, к примеру, привыкший болтать с клиентами, стал развивать на своем троглодитском языке эпическую серенаду перед десятком осоловевших пассажиров – он пытался изложить им свои потрясающие методы по поддержанию порядка в ночном городе, вавилонском царстве алкоголизма, дикой необузданной проституции и быстрых ножей. Мартина, справедливого таксиста, ночного бродягу, видели то там, то сям, в проходе самолета, со стаканом бренди в руке, в позе цыганского халифа – он рассказывал туристам эпопеи с тарабарским синтаксисом до тех пор, пока очередной турист не объявлял, что хочет поспать или посмотреть фильм, и тогда Мартин переходил со своей эпопеей к другому креслу, делая гомерический круг. Со своей стороны, Франки Татуахе беспрестанно подавал всем пассажиркам знаки, что хочет трахнуться, – в качестве предпочтения у него выступала вся команда стюардесс, – и разгуливал по самолету в одних подтяжках вместо рубашки, чтобы похвастаться своими татуировками в укуренно-рокальном стиле, в надежде, что какая-нибудь дамочка, помешанная на сексе, предложит ему перепихнуться в туалете.
Так вот, а больше всех обратил на себя внимание во время полета Кинки.
– Правда, что ты коп?
И я ответил ему, что, пожалуй, да, – признаю, что сказал это с вызовом, с тем же самым вызовом, с каким домашняя собака говорит домашней кошке:
– Эй, ты, кошка, я не стану ломать тебе позвоночник на восемь частей, хотя и стоило бы, потому что я – домашняя собака, а ты – домашняя кошка. Но не забывай: собака тут я.
(Примерно так.)
– Значит, мы зарабатываем одним и тем же, – заключил Кинки, и я сказал ему, что это как посмотреть. Я спросил у него, не возникло ли у него проблем с получением паспорта, потому что типам вроде него у нас это бывает непросто.
– А меня никогда не ловили. Я – невидимый кошмар для общества.
Сразу же становилось заметно, что Кинки обладает умом того типа, который мало что общего имеет с цветастым подмиром абстрактного, – скорее, с дикой логикой жизни: уверенный ум грабителя. По крайней мере до десятой порции виски…
Начиная с десятой порции виски, у Кинки начались проблемы сосуществования со стюардессами, но не из-за того, что в крови у него было несколько миллиграммов спида и десяток стаканов виски, а потому что ему не давали одиннадцатый: виски закончился и оставался только бренди, к которому щедро прикладывался таксист Мартин, привыкший, как лунатик, пьянствовать в пустынных утренних тавернах.
– Сеньор, у нас не осталось виски. Есть только бренди, – настаивали стюардессы, но Кинки не соглашался с этой теорией несуществования виски и выживаемости бренди, несомненно, потому, что не читал Анаксимандра, который придерживался того предрассудка, что все вещи в конце концов превращаются во что-то и уступают свое место другим, чтобы поддерживать таким образом равновесие вселенной: огонь уступает место пеплу, пепел – земле, виски – бренди…
Хуп попытался переубедить его, но у Кинки оказался упрямый характер: он пошел в бизнес-класс, хлопнул там пару пассажиров по плечу и закричал:
– Хорош спать, здесь вам не гостиница. Ну-ка, куда вы спрятали виски?
Пассажиры роскошного салона смотрели возмущенными и сонными глазами на типа, требующего виски в четыре утра, на девяти тысячах метрах высоты.
– Куда вы спрятали виски? – настаивал Кинки, до рассудка которого тщетно пытались достучаться две стюардессы и Хуп в придачу.
В довершение всего Франки Татуахе присоединился к экспедиции Кинки в надежде потрахаться с какой-нибудь богатенькой туристкой, или с мелодичной парагвайской певицей, или с кем-нибудь таким еще, и вот он ходил туда-сюда, беспокойными глазами глядя на женщин. Не замедлил пополнить компанию вторгшихся с салон и таксист Мартин, – он, едва лишь унюхав возможность потасовки, рассвирепел и безостановочно искал по всему самолету какой-нибудь разящий предмет, при помощи которого можно поддерживать космический порядок, но ничего не нашел, что еще больше вывело его из себя, хотя он и так уже далеко вышел.
– Пошли, Кинки, возвращайся на свое место, – подсказывал Хуп, но, казалось, не в человеческих силах было развеять его внезапную одержимость:
– Я только прошу виски, черт возьми, а не ключ от Банка Испании, – и так далее.
Тем временем Франки обхаживал пассажирку в возрасте из бизнес-класса, убежденный в том, что эта надушенная сеньора, ошарашенная, в маске, закрывавшей лицо до самого лба, захочет пережить эротическое приключение совсем близко от звезд с этой ходячей татуировкой:
– Что тебе больше нравится, когда с тобой делают, блондиночка? Расскажи мне…
Таксист Мартин тем временем цеплялся к пассажирам, протестовавшим против суматохи:
– Ты что, чучело, вот я тебе вправлю мозги. Сидеть.
И так продолжалось до тех пор, пока не пришел стюард. Стюард был молодой, высокий и сильный. (Мечта любого последователя Сократа, надо сказать.)
– Вернитесь на свои места, – приказал стюард.
– Я только требую удовлетворить мое право выпить виски, – объявил Кинки.
– Не запрятано ли у тебя где-нибудь немного виски, приятель, так мы могли бы разрешить этот конфликт, – спросил Хуп, дипломатический посредник между сторонами.
– Давай гони виски, а то я… – сформулировал таксист Мартин.
– Возвращайтесь на свои места, – настаивал стюард.
– Ты что, пидор? Какое имеешь право? – спросил Кинки, а стюард сильно скривил рот, сильно напряг шею, закатил глаза на манер вудуистской курицы (или что-то вроде), и тогда Хуп схватил Кинки за руки и потащил его на место, чтобы избежать более серьезных происшествий.
– Такие дела решаются… – заверял Мартин, размахивая в руке невидимой палицей.
– Если у них нет виски, пусть они его купят, – настаивал Кинки.
– По крайней мере, говорю, это, я, пусть положат маслины, – предлагал таксист Мартин на своем идиолекте, в то время как Франки Татуахе уверял нас в том, что пассажирки бизнес-класса – прирожденные трахальщицы и что у всех у них во влагалище или в заднице – китайские шарики, чтобы развлекаться в путешествии. В таком ключе вела себя наша команда в течение нескольких часов полета – тела наши волновались под действием спида, под впечатлением от этого приключения и от нехватки никотина в крови.
– Уважаемые пассажиры, через несколько минут самолет совершит посадку в аэропорту Майами.
(Майами?)
– Майами? Что за дерьмо? Какой Майами? – спросил Кинки.
– Майами? – спросил Франки.
– Ма… что? – спросил таксист Мартин.
– Майами? – спросили мы все в конце концов, озадаченные перед лицом непредвиденного поворота судьбы: Майами.
А дело в том, что рейс в Сан-Хуан де Пуэрто-Рико делает посадку в Майами, так нам объяснил Хуп.
(– Майами?)
Аэропорт Майами – как деревня. (Огромная.) Там даже есть поезда внутренних линий, чтобы добраться из одного пункта в другой. (Огромный.) Мы отправились в зал ожидания, где была табличка «КУРЕНИЕ ЗАПРЕЩЕНО» размером с планету и бар с фантастическими ценами, и там мы сидели почти четыре часа, опекаемые охранником с непроницаемым взглядом, и не могли покурить даже в уборной, потому что там были камеры, а в довершение всего у нас пошла на спад волна спида, и нервная система, можно сказать, рухнула на пол.
– Это путешествие – надувательство, – заключил Кинки, у которого уже прошла тоска по виски, и он стал дремать, вытянувшись на жестких пластиковых креслах.
– У тебя нет больше этого, которое?… – спросил Хупа Мартин, но нет, у Хупа больше не было спида, чтобы нейтрализовать вторичный эффект спида, потому что все наркотики он вез в чемодане, они были спрятаны среди витаминов и всего такого прочего, так что все мы с горем пополам устраивались, валясь от усталости, падая, нервные, разбитые изнутри. (В Майами.)
Сан-Хуан де Пуэрто-Рико… Какой он, Сан-Хуан де Пуэрто-Рико? Ну, в общих чертах, если позволите мне употребить такое выражение, это дерьмо.
– Дерьмо?
Правда-правда. Как написал мой учитель Шопенгауэр, «наше восприятие внешнего мира не только сенсуальное(чувственное), но главным образом интеллектуальное,то есть (выражаясь объективно) мозговое», так что мое мозговое восприятие Сан-Хуана де Пуэрто-Рико приводило к этому заключению: дерьмо.
Это огромный пригород, как ни горько об этом говорить, с игрушечным историческим центром: дюжина колониальных зданий, раскрашенных симпатическими красками (понятия не имею, для чего). Также у них тут есть старая испанская крепость, исполняющая роль ярмарочной палатки для взрослых янки, а рядом с этой крепостью находится кладбище, полное бредовых пантеонов, со статуями видных деятелей, меценатов и ораторов в натуральную величину, и все это скопление траурного мрамора видно из старого города – несомненно, для того, чтобы веселые и чувственные островитяне не забывали ни на минуту, что их ждет за углом, после танцев и холодных напитков: смерть, уравнивающая королей и загорелых официантов. (Ну, и воздух тут жжет, как огонь, и повсюду полно маленьких лягушек, которых называют кокиес, —они все время поют свою вечную серенаду для флейты, которая никому не дает ни заснуть, ни сосредоточиться.) (И в довершение всего пуэрториканцы очень храбрые и вытаскивают пистолет при любом случае, они отбирают у тебя деньги, целясь тебе в висок или в сердце, но самое странное, что, когда ты уже отдал им деньги, они пускают тебе пулю в висок или в сердце, потому что они очень храбрые.) (Пуэрториканцы, слышите, с их пистолетами.) Но самое плохое в Сан-Хуане де Пуэрто-Рико – это не что-либо из вышеперечисленного, а гостиница «Испания».
Когда в количестве двенадцати человек, составляющих нашу туристическую команду, мы вошли, потные, беспорядочной гурьбой в гостиницу под названием «Испания», мы мгновенно поняли, не нуждаясь в какой-либо разведывательной процедуре, почему это путешествие обошлось нам так дешево.
– Хорошо, разобьемся по парам, – сказал Хуп.
– По парам? – спросили мы все.
Да, действительно, по парам, потому что оказалось, что у нас двухместные номера и что придется заселяться в них попарно. Две супружеские пары нисколько не сомневались по этому поводу, чего не скажешь об остальных:
– По парам?
Кинки говорил Хупу, что он нас обманул, а Хуп пожимал плечами и отвечал ему, дескать, а что он хотел за такие деньги – султанский дворец? После многочисленных дискуссий все распределились следующим образом: Хуп и я, Мутис и Бласко, Франки Татуахе и Кинки, таксист Мартин и тип с обманчивой внешностью ученого и педераста, у которого, кстати, потерялся по дороге чемодан.
– Все мои девушки говорят, что я сильно храплю, – заверял Франки Кинки.
– Вы из тех, из этих лунатиков, которые?… – спрашивал Мартин у своего товарища.
– Это надувательство, – заявлял Кинки.
Согласно Аристотелю, «однородность существует тогда, когда в предмете нельзя провести никакого разделения в отношении качества». Так вот, дизайнерский замысел, воплощенный владельцем гостиницы «Испания» в его заведении, основывался на внешней разнородности: вешать на стены любые вещи, которые можно было заподозрить в пригодности для того, чтоб быть повешенными на стену, – хотя вскоре ты начинал замечать гармонизирующий элемент этой бессвязной мешанины: испанскость в ее сточных, лубочных образчиках, так сказать, ибо со стен «Испании» свисали афиши корриды, керамические блюда со сценами из «Дон-Кихота», туристические изображения средиземноморских пляжей, фотографии исполнительниц народных танцев с выражением теллурического атавизма или чего-то вроде, часовня, альварез [31]31
испанский народный ударный инструмент в виде металлической ступки.
[Закрыть], и так далее. Ну да ладно, дизайнерские критерии не должны психологически беспокоить среднестатистического туриста (разумеется, если он не эстет, нечастое явление среди среднестатистических туристов), но тот факт, что из кранов гостиницы течет струя воды, напоминающая мочу двухмесячного ребенка, может глубоко исковеркать психику любого туриста, которому нужен кран.
(– В последнее время состояние воды в этом квартале очень плохое, сеньоры, – сообщал нам владелец «Испании», выполнявший обязанности администратора, консьержа, официанта и портье: оркестр, а не хозяин гостиницы.)
– Это путешествие – надувательство, – не унимался Кинки, и все мы вынуждены были признать, что он прав. Хуп, в своей роли туроператора-обманщика, пытался образумить взбунтовавшийся народ:








