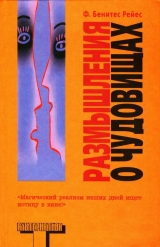
Текст книги "Размышления о чудовищах"
Автор книги: Фелипе Рейес
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 18 страниц)
(И так далее.)
Никто ничего не знал о Том, Кто Был И Кто Уже Не Есть: говорящая загадка (чрезмерно говорящая). По его акценту мы предположили, что имеем дело с иностранцем, хотя даже Молекула не знал, откуда возник этот апокалиптический оратор, карнавальный и рациональный в равной степени, но факт в том, что Тот, Кто Был (и так далее) прочел в Ледяном Павильоне три лекции, и это обернулось беспрецедентным успехом в короткой истории пещеры идей, поскольку, по закону тамтама, побежали слухи о блестящем и веселом бреде этого шарлатана с загадочным прошлым и сбивающим с толку настоящим, так что на третьей лекции помещение было набито под завязку, и у Молекулы появилась возможность открыть обслуживание в баре, а это было настоящее предприятие.
На третью лекцию Того, Кто Был (и так далее) я принес магнитофон, одолженный в полиции, потому что мне интересно было спокойно, дома, послушать, что этот тип скажет по объявленной теме: Бог.
Позволю себе переписать для вас несколько абзацев:
«…Католическая религия, например, а к ней нам сподручнее всего обращаться, допустила непоправимую ошибку: она согласилась на антропоморфное изображение Бога. Потому что как можно принимать всерьез старого бородача со светящимся треугольником на затылке? Тут заключается упущение. (…) Само собой разумеется, Бог существует, но не как независимое существо как таковое, это не ограниченное существо, с контуром, с носом или тем более с бородой, а просто огромная чудовищность: Бог – это луна и сердце кролика, которого пожирает рысь, Бог – это туманная и подвижная энтелехия облака в форме коровы, и это обрезок ногтя, брошенный в унитаз и проплывающий по сливной трубе пятиэтажного дома, Бог – это этот пятиэтажный дом и пот всех рабочих, возводивших этот дом, Бог – это армия муравьев из черной ртути, затаившаяся в потрохах этого пятиэтажного дома, Бог – это я, и Бог – вон та гребаная муха, кружащаяся в этот момент по залу, и Бог – это нос любого из вас, и мерзкий запах, что витает в этом месте, который вы нюхаете своими носами, этими носами, которые – Бог, этими носами, на которые собирается сесть муха, которая тоже – Бог. Потому что, в общем и целом, Бог – это все и ничего. Это имя вселенной и это также имя бесконечной пустоты, существующей за пределами вселенной. Бог – это бесконечность, да, но это также и незначительность. Бог – это все, только не он сам. Я даже смею подозревать, что Бог – это пылинка. Только это: ничтожная пылинка, всегда висящая в воздухе, всегда подвижная. Пылинка, вызывающая что-то вроде невидимого ядерного взрыва, заставляющего планеты вертеться, человеческий ум – внедряться день за днем в лабиринты науки и тревоги, машины – существовать и трогаться на первой скорости, фены в дамских парикмахерских – работать, а созвездия – не отрываться от неба. Как я уже говорил, может быть, Бог – это так просто: пылинка с химической способностью ежедневно активизировать мир, мельчайшая пылинка, являющаяся необходимым элементом поддержания гармонии и равновесия в космосе ужасающих размеров. Если эта пылинка исчезнет, возможно, мы вернемся в психоделический хаос, предшествовавший формированию вех миров, потому что рухнут столбы этого чудесного миража. (…) Так что выбирайте: или вы остаетесь при концепции Бога как бесконечности, или склоняетесь к концепции Бога как мельчайшей частицы. Выбирайте. О своем мнении я умолчу».
В таком более или менее пантеистическом ключе довольно долго говорил перед нами Тот, Кто Был, а потом внезапно нырял в обескураживающие рассуждения (толстые женщины и кожаное белье, бактериологическое оружие и страх перед невидимым…), и всех нас восхищала его способность ткать в воздухе, словно паук, клейкую паутину, в которую попадалось наше внимание, – гипнотизер неподготовленных душ. Да, конечно, если хорошенько присмотреться, все это была очень дешевая философия, философия общей стоимостью в сто песет, и создавалось впечатление, что Тот, Кто Был больше врал, чем говорил (при этом продолжая говорить так, как он говорил, не останавливаясь), но боюсь, я прихожу к заключению (хоть бы я ошибался), что философия состоит не в гордых поисках Истины, какими похваляются профессиональные философы, словно они – механические борзые, бегущие за механическим зайцем, во внутреннем, интимном выражении удивления перед вселенной, в мошенническом и боязливом исследовании тайн без ответа; в общем, каждый раз я все более и более убеждаюсь в том, что философия – это не детонатор сил духа, а нечто более легкое, более скромное и медицинское: бальзам для слуха, так же как слова настоящей любви: словесная музыка, входящая тебе в одно ухо и выходящая через другое, не строя замков в сердце, потому что сердце – почва, негодная для строительства, – но слова эти приятно слушать, пусть даже для того, чтоб не проходить через этот мир, завывая от боли и отчаяния. (Говорю, я не уверен.)
Шопенгауэр в своих «Фрагментах к истории философии» (а конкретно в главе, где он дает обзор неоплатонической шайки) таким образом характеризует Ямблика: «То, что он преподает, выросло не из его собственных размышлений, а из чужих догм, часто понятых только наполовину, но отстаиваемых с большим упорством, – причина, по которой его учение также усыпано противоречиями». Так вот, можно сказать, что по крайней мере в этом отношении Тот, Кто Был И Кто Уже Не Есть казался верным учеником Ямблика (тот, кстати, был биографом Пифагора). Несмотря ни на что – и тут у меня неразрешимая загадка, из тех, что прячутся за всякой очевидностью, – речи Того, Кто Был пускали пыль в глаза тех, кто их слушал (и признаю, мне первому), и он под конец по своей прихоти вел наши умы, словно это были не умы, а козы. Потому что Тот, Кто Был был пастухом мыслей. (По справедливости, никто не мог бы этого отрицать.) (Пастух.) (Мыслей.)
Логично, что успех этих бесед с бродячим сюжетом получил немедленное продолжение – срочную сделку между Молекулой и Тем, Кто Был И Кто Уже Не Есть, согласно которой Тот, Кто Был будет еженедельно читать лекцию в Ледяном Павильоне по четвергам, и при этом не только не должен платить за аренду помещения, но также станет получать вознаграждение в размере 50 % от кассовых сборов.
Также логично, что мы стали всюду ходить вместе с Тем, Кто Был, – Хуп величал его «вашим превосходительством ума», хотя, как ни прискорбно говорить об этом, Тот, Кто Был обращался с Хупом гораздо более легко и презрительно. (Скажем, так, как пользует врач гуляку, входящего поутру в отделение «Скорой помощи», с криками, потому что ему сломали зуб, примерно так.) Тот, Кто Был пил. (Довольно много.) Он был пьяница и иногда курил травку, – и тут пролегала для него граница:
– Я испробовал все, что человек может испробовать, но я уже не тот, кто был. Я уже побывал в этих путешествиях. Теперь я отправляюсь в несуществование. Я иду из будущего и возвращаюсь в миолитику моего бытия.
(?)
(Как ни странно, Хупа воодушевляли эти полуэзотерические, полуонтологические химеры, и он был околдован этим болтуном полиэдрического толка, и поддакивал ему, и придавал всей его бессмыслице значение пророческих фраз.) (Хуп, своенравный и высокомерный Хуп, в роли невзыскательного шута…)
На мою беду, Кинки тоже привязался к Тому, Кто Был и шлялся повсюду с нами.
(– Одолжи мне немного, коп.)
Наша шайка была очень многочисленна, потому что к нам присоединился также и Молекула, цирковой импресарио Того, Кто Был. И наша шайка была не только многочисленной, но и странной, потому что мы, ветераны, не только потеряли в ней свою ведущую роль, но, кроме того, наша сущность затушевалась из-за этих новых вливаний: Хуп деградировал до состояния покорного оруженосца Того, Кто Был, Бласко искал повод переломать как можно больше костей Молекуле, Мутис ходил более молчаливым и более накачанным спидом, чем когда-либо, а мне докучал своими преследованиями Кинки («Послушай, коп…»), и кроме того, – почему бы не признаться, раз уж пошел такой счет, – я завидовал престижу Того, Кто Был, удачливого бахвала, соблазнителя масс посредством заговаривания зубов, завоевавшего мою эфирную страну и заменившего меня для моих друзей, отняв у меня монополию в философских серпантинах, так сказать, – в тех серпантинах, что я обычно бросал в воздух, когда мы шлялись вместе. (Йереми, самодержавный философ этой банды.) (Которого никто, по сути, не воспринимает всерьез, потому что друзья существуют не для того, чтоб воспринимать друг друга всерьез.) (Но философ, прозелит афоризмов и апорий.) (И вдруг пинками сброшенный со своей кафедры.)
Когда Тот, Кто Был И Кто Уже Не Есть выпивал определенное число порций (скажем, восемь), он спускался на одну ступеньку по лестнице бытия и превращался в Того, Кто Был Тем, Кто Был И Кто Уже Не Есть Даже Тот, Кто Был, потому что у него из сундука души выбегал бандит, сидевший там в заключении, и этот бандит объявлял себе бесконечный праздник, с танцами и вандализмом и ритуальным сожжением утра, и мы в конце концов превращались в кочевников по всем дискотекам, и Тот, Кто Был бросался на девушек, как обычно бросаются кости на исследователей, и Хуп помогал ему в его плане, и Бласко присоединялся к ним на свой лад, и начиналась кутерьма с оскорбленными и ошарашенными девушками, мстительными парнями и жандармами, вышедшими на тропу войны. В качестве персонального вклада в эту суматоху Кинки занимался применением на практике своего нового метода приблизить конец света: он бросал бомбы-вонючки на танцевальные дорожки.
– Развлечения всегда непристойны, – изрекал Кинки, когда толпа танцующих рассеивалась в ужасе, затыкая нос, потому что этот концентрат вонял, как зад демона Астарота. Тот, Кто Был рукоплескал выдумке Кинки:
– Эти люди приходят в такие места, только чтобы делиться друг с другом своими кошмарами и убивать надежды. Например, вон та белокурая проститутка надела это платье, чтобы мы пустили слюну и задумали хитроумное свинство, не так ли? Но в конце концов она ляжет спать одна, потому что стыдится шрама, что идет по ее животу снизу вверх, или потому что дома ее ждет сын-параплексик, или потому что ее недавно сильно избили, и ей еще приходится ходить на консультации к психиатру, чтобы сосуществовать с этим ужасом, – и сказав это, Тот, Кто Был своей вывихнутой походкой направлялся к блондинке, говорил ей что-то на ухо, она поворачивалась к нему спиной, и Тот, Кто Был возвращался в наш загон для волков:
– Ну, не говорил ли я вам?
Я пользовался этими паломничествами, чтобы погружаться в пессимизм и увеличивать свою коллекцию подставок под стаканы.
(– Тебе нравится красть мелочи, коп?)
И где же оканчивалось все это? В «Гардене», само собой, и там, в баре, пока мы выбирали жертву, Тот, Кто Был строил из себя султана вселенной, уже с заплетающимся языком, со своим изъеденным лицом, со своей потной лысиной, импровизируя теории по поводу какого-нибудь осязаемого или неосязаемого явления и рассказывая нам биографические события, по большей части похожие на басню.
(– Эта дырка на затылке у меня – от пули, которой меня наградили в Мелилье.)
Молекула с яростью и ожесточением обнимал гигантских для него женщин, несомненно, тоскуя о недоступных телах девочек, а Хуп говорил с девушками о Том, Кто Был с применением методов торговца, приходящего на дом («Гений ума»), как будто хотел, – ну, я не знаю, – чтоб они заплатили Тому, Кто Был, а не наоборот, – а Мутис молчал, наблюдая за происходящим, словно человек, силящийся разглядеть что-то внутри хрустального шара, а Кинки делал попытки продать шлюхам браслеты и колье, которые вытаскивал из карманов, словно фокусник, а Бласко старался не смотреть на меня, потому что я знал его тайну, его тайну целомудренного посетителя шлюх, певца-теоретика продажной любви гетер, и я замечал, что что-то в нашем клане сломалось, что эти проныры завладели нашими ночами и нашими шлюхами.
Но еще много чего должно было произойти. (Например, худшее, безумный родственник плохого.)
Как бы там ни было, прежде чем рассказать вам о худшем, я расскажу вам о лучшем из того, что произошло со мной в этот период времени.
Все началось с лучистого видения. Поясню: пообедав, я закурил папироску, прилег отдохнуть немного и в ватном тумане травки и дремоты увидел маленькую точку света, приближающуюся ко мне из далекого цилиндрического пространства. Как вы знаете, смерть может заявлять о себе в сияющем обличье, хотя сама она – мрак, и я сказал себе:
– Смерть. Она уже здесь, – потому что однажды же она должна прийти, и для нее никогда не рано.
Я постарался встряхнуться, отчаянно вернуться к бодрствованию, вернуться по своим же следам по тому туманному мосту, что ведет в обманные области сна, но очень густая дрема мешала мне, как будто на веки мне налипла стая летучих мышей.
Эта светящаяся точка продолжала приближаться, мерцающая и медленная, и казалось, она собирается разорваться в моем мозгу, чтобы наводнить его последним светом, светом, что ослепляет навсегда. Я не мог дышать, моя грудь превратилась в сведенную судорогой полость, сердце, казалось, билось о само себя, молот и наковальня одновременно. Тогда свет стал всеобъемлющим, он заполонил собой все, словно кто-то пролил на мои глаза кувшин жидкого серебра. Тогда я почувствовал внезапную умиротворенность и решил, что умираю. (Я представил себе гармоничный скрип сияющих калиток вечности или ничто.) (Я представил себе летучую дорогу, ведущую в мир иной.) (Я представил себе, смирившись волей, свое растворение в звездном поле, бестелесное парение моих мыслей по саду симметричных созвездий и непостоянных планет, похожих на калейдоскопичные жемчужные ожерелья.) (И так далее.)
Но, к счастью, все произошло вопреки моим опасениям, потому что в середине этого горнего света мне меньше чем за секунду открылся золотой силуэт, более сияющий, чем сам свет, и тут же свет превратился в настоящий полумрак, и летучие мыши, висевшие на моих веках, взлетели, и я открыл глаза, а на следующий день познакомился с Марией.
Марию звали не Мария, но я дам ей это имя, потому что, когда я признался ей, что пишу эту повесть, она попросила меня, чтоб я скрыл ее настоящее имя.
Итак. Один товарищ из комиссариата организовал барбекю в сосновой роще, потому что он преждевременно уходил на пенсию и хотел отметить это событие на широкую ногу: отбивные, ребрышки, Природа, солнце, дети, чистый воздух и полтонны полицейских. (Сама Аркадия, можно сказать.) О такого рода празднествах можно и не говорить ничего, потому что они мало интересны сами по себе, но дело в том, что среди гостей была Мария.
– Какая она, Мария? – спросите вы меня.
Ответить непросто. Скажем, если б ее под страхом пытки заставили станцевать танец живота, через две минуты ей бы пришлось бежать в ближайшую уборную из-за поноса. (Таков был бы результат.) Поймите меня правильно: не то чтоб Марии не хватало привлекательности, совсем наоборот, но одна из жизненных целей, которые она упрямо перед собой поставила, заключается в том, чтоб скрывать свою привлекательность.
– Почему?
Я не знаю. Так что продолжим рассказ о предшествующих событиях, предшествующих для моего рассказа.
Как и следовало ожидать, на этом деревенском празднестве не было ни одной агросинии (нимфы полей), ни одной гамадриады (нимфы деревьев и кустов), но было довольно много женщин, очень улыбчивых и очень сильно накрашенных, но все они либо уже имели пару, либо к ним невозможно было подкатиться, так что, благодаря методу исключения, я в конце концов обратил свое внимание на Марию, которая бродила там одна и собирала в пакет кости от отбивных и ребрышек.
– У тебя есть собака?
(Увы, именно об этом я ее спросил, потому что повседневные разговоры очень сильно отличаются от парадной риторики.) Но нет, у Марии не было собаки, хотя у нее были оравы собак, следующие одна за другой оравы собак, приговоренных к смерти.
(?)
Поясню: Мария была ветеринаром. Она основала в окрестностях города ферму и по контракту с муниципалитетом занималась там принесением в жертву и последующей кремацией бродячих собак, хотя, как она сказала мне, она позволяла этим псинам несколько дней пожить там по-королевски, отсюда – и собирание костей.
– Поначалу я даже плакала, теперь – нет.
(Мария, палач…) (Должно быть, убийство у них – семейная традиция, ведь Мария была сестрой Роки, полицейского, пустившего пулю в голову вору, пытавшемуся сбежать на угнанной машине.) (Об этом много говорилось в прессе, и Роки все это чуть было не стоило места, впрочем, потом обо всем забылось, потому что газетные новости – это что-то вроде черной дыры, все поглощающей и все отрыгивающей: булимическая сила, ежедневно выливающая нам на голову центнер загрязняющей информации, от которой наша память опорожняется за несколько часов.) (К счастью для Роки.) (И также для нашей памяти, частной и коллективной, само собой.)
Когда закончился собственно барбекю, кто-то сделал погромче магнитофон, и начались танцы вволю, и это казалось мифологической гравюрой, несколько поддельной, но веселой, с пьяными вакханками, прыгающими детьми и сатирами-полицейскими. Как вы знаете, и даже лучше меня, я – один из самых худших танцоров планеты, но это не помешало мне спросить Марию, не хочет ли она потанцевать, в ужасе перед возможностью утвердительного ответа. Она ответила мне, что нет, и я сказал ей, что тоже не хочу. (Первое космическое сообщничество.)
– Пройдемся немного?
(О да, конечно.) И мы углубились в тенистый шатер сосновой рощи, и там она рассказала мне в подробностях о процессе истребления бродячих собак. (Второе космическое сообщничество.) (Потому что между тем, чтоб убить собаку и дать ЛСД коту, по сути, не так много разницы.)
– Сядем?
(О да, конечно.) И мы сели под сосной с очень густыми ветвями, которые тем не менее пропускали лучи солнца геометрической формы, и один из этих лучей вдруг осветил глаза Марии, и я увидел в них чистую и атавистическую ясность, унаследованную, можно сказать, с рождения самой вселенной, и я немедленно сопоставил это с видением, бывшим у меня накануне, и понял, что Мария и есть тот мимолетный силуэт, появившийся в нем как благоприятный знак, – щит от смерти, рукоять жизни, за которую можно ухватиться. (Примерно так.) Но я ошибся.
Наш приятель Эмпедокл (вы уже знаете: это тот, кто бросился головой вниз в вулкан) придерживался гипотезы, по которой изначально было множество племен, рассыпанных по всему свету. Представители этих племен были весьма необычными: у некоторых была голова, но не было шеи, у других были глаза, но не было лба, у третьих были руки, но не было плеч. Согласно теории эволюции, защищаемой Эмпедоклом, эти ущербные существа увлекались сексуальным туризмом и скрещиванием, последствия чего были еще более ужасными: существа без головы, но с кучей рук, уроды, рождавшиеся с лицом на спине, бычьи головы на человеческом теле, гермафродиты с четырьмя или пятью влагалищами и с таким же количеством пенисов… (В общем, все комбинаторные вероятности, какие только можно себе представить, и все – наихудшие). В конце, согласно Эмпедоклу, выживали только определенные формы, и так мы пришли к современной зоологии, которая тоже поразительна: достаточно посмотреть на жирафов, например. (Или на Молекулу.)
– Ну и к чему сейчас все это?
Давайте посмотрим. С нашими чувствами происходит нечто похожее: мы знакомимся с людьми, вступаем с ними в определенные отношения. В общем, мы плетем свою паутину, и люди попадаются в нее скорее по неизбежности, чем по собственной склонности. Некоторых из этих людей мы помещаем в своем сердце, других презираем, третьи презирают нас, большинство нам безразлично, с тем или иным существом мы даже ложимся в постель. С течением стремительного времени наши чувства заполняются руками с причудливыми кольцами, головами без тел, телами без голов, сиськами без лица, смутными лицами… Память наших чувств, начиная с определенного возраста, – это склад, наполненный фрагментарными чудовищами, так сказать; это что-то вроде призрачной лавки, торгующей гольем: гибридные фигуры, тела, которые мы помним лишь отчасти, искаженные голоса, неизвестно кому принадлежащие глаза…
(– И что?)
(А ничего, только это: наша чувственная память очень много общего имеет с эволюционной теорией Эмпедокла.)
Мария немедленно вошла на мой чувственный склад чудовищ: я несколько дней восстанавливал в памяти образ ее глаз, освещенных этим мимолетным лучом солнца, проникшим между ветвей: расплывчатая Мария, позолоченная исчезающим лучом (и так далее), – в общем, я попросил у Роки номер телефона его сестры.
– А ты шустрый, – пробурчал Роки и дал мне его, и я позвонил Марии, и мы договорились встретиться, когда мне захочется, в ее ангаре ужасов, потому что она редко выходила, так она мне сказала. По правде говоря, Мария отвечала по телефону очень сухо, а место это находилось в пяти километрах от города, и такси стоило мне огромных денег, но инстинкт толкал меня на экскурсию, а у этого безумного капитана нет ушей. Ни ушей, ни здравого смысла – и так он правит своим безумным кораблем.
Собаки сидели в клетках, само собой разумеется. Много клеток, много собак. (Лай, собаки, бьющиеся о металлическую паутину, и собаки, дерущиеся между собой.) Я не очень люблю собак, как вы знаете (и кошек тоже), но несложно было угадать в глазах этих пленных животных бесконечный груз тоски, предчувствие враждебной тайны, потому что взгляд этих псов выражал трогательное сиротство перед удивительной перспективой смерти, – путешествия без гарантированного пункта назначения, непредсказуемой лотереи сумерек, волнующего лототрона Потустороннего: тебе может выпасть с равной долей вероятности как Вечная Жизнь, так и Ничто. (Кто знает.)
Мария убивала собак из винтовки, стрелявшей дротиками с веществом, первоначально парализовавшим их, а затем убивавшим.
– Они не страдают.
(Нет.)
Потом она сжигала трупы в печи («Вон там»), возведенной посреди участка, и использовала пепел как удобрение, в подтверждение гипотезы Анаксимандра, – о которой я вам уже рассказывал, если мне не изменяет память, – в отношении превращений материи: от собаки к помидору, например.
Неожиданно, пока Мария кидала еду заключенным, один песик, у которого хвост был похож на оперение птицы, проскользнул у нее между ног и принялся носиться по помещению в поисках выхода, несомненно, потому, что унюхал близкую смерть, – однако беглец везде находил ограду. Но в конце концов интересна, само собой разумеется, не попытка собаки к бегству, а то, что Мария принялась бегать за ней.
– И что интересного в том, как ветеринарша бегает за собакой? – спросите меня вы.
Ответ очень прост:
– Ничего.
Но я почти убежден в том, что хороших телок (и простите мне это выражение, ведь я говорю не о Красоте, а о другом явлении, несколько более низком и более скотском) узнаешь тогда, когда они бегают.
(—?)
Действительно, когда хорошая телка принимается бегать, у нее это почти не получается, потому что у нее все двигается и колышется: у нее болтаются груди, скрипят ляжки, бедра цепляются друг за друга, подскакивает задница… И она кажется великолепным вывихнутым телесным агрегатом, телом, парящим в невесомости, в замедленной съемке, потому что во время бега она осознает, что у нее есть тело, за которое кто-то способен умереть или убить, и тогда она чувствует, как ее ощупывают и почти что трахают эти невидимые духи, живущие в воздухе: взгляд жаждущих мужчин, – и она движется вперед в замедленном ритме, невольная акробатка, удивляясь самой себе, нестерпимому чуду своих движений, своей портативной пышности.
– А Мария – телесный агрегат такого рода? Конечно, нет, но у нее все двигалось, пока она бегала, а это – хороший знак.
(Потому что есть женщины, у которых даже ресницы не двигаются: женщины-палки, несгибаемые, как палки, – они обычно разочаровывают, если добьешься от них, чтоб они разделись догола в полуметре от тебя.) (Этот дефект они компенсируют разве что темпераментом демона.) (Демона-палки.)
Однако коль скоро мы добрались до эдаких рассуждений, вы спросите меня:
– Ты переспал с Марией?
Да, конечно, да, но не именно в тот день, а примерно двумя неделями позже.
– Трансвестит умер.
Об этом сказал мне Хуп в «Оксисе».
– Он лопнул со всех сторон. Бум! – и он скривил лицо с выражением отвращения и руками изобразил взрыв, как будто объясняя, что Шэрон Топасио взлетел на воздух, образовав ядерный гриб из силикона и эстрогенов.
Не считая симптомов гриппа и леденящего душу явления ампутации, я почти ничего не знаю о медицине, но, в общем, естественно, что Шэрон Топасио должен был взорваться рано или поздно, я так думаю, потому что это уже было не человеческое существо, а химическая бомба.
– Накрылось твое предприятие, – сказал я Хупу, ведь это предприятие, вкупе с его восхищением перед Тем, Кто Был, отравило мое к нему уважение: он никогда не был исключительным человеком, но также никогда не был подонком, способным спекулировать на умирающих трансвеститах и играть на простодушии матерей умирающих трансвеститов.
(– Какое предприятие, старик?)
Как бы там ни было, моральные суждения о ближнем всегда рискованны. Аристотель немного поупражнялся умом на этот счет, истинно по-аристотелевски, чтобы, наконец, поместить нас на почву относительной моральной относительности, назовем это так: «Можно сказать, что все стремятся к тому, что кажется им благом, но не могут контролировать свое воображение, так что цель видится им согласно характеру каждого. Так вот, если каждый некоторым образом является причиной своего образа существования, значит, определенным образом он будет и причиной своего воображения». Хуп был причиной своего образа жизни и, следовательно, исходя из критериев Аристотеля, был и причиной своего воображения, этого своеобразного воображения, позволявшего ему замышлять особого рода предприятия: откапывать металлолом, пытаться продать бюст Ленина бандиту, стремиться отыметь в задницу большую часть взрослого населения обоего пола, организовать мерзкое путешествие в Пуэрто-Рико и продвигать кампанию по поклонению неподвижному телу трансвестита, среди прочего.
Но у людей, как и у монет, есть оборотная сторона…
Однажды утром поэт Бласко пришел в комиссариат, чтобы я рассказал ему, если я сам в курсе, об орфизме, потому что он слышал, не знаю где, что орфики – это аскеты, набиравшиеся вином по самые брови, чтобы таким образом более текуче общаться с божеством, и это привело его в растерянность.
(– Так что, Йереми, если ты – аскет и, кроме того, пьяный сукин сын, то ты – орфик, да?)
Разбирая вопрос орфиков, я поделился с Бласко своим негодованием по поводу поведения Хупа в отношении гормональной трагедии трансвестита в этом деле с мутирующими сиськами и разложением, начавшимся вокруг всего этого несчастья, и я сказал ему, что всему есть предел. (Хотя, само собой, это вранье, что у всего есть предел, потому что многое может быть беспредельным: быть может, вселенная, ненависть к тому, кого любил…) Бласко посмотрел на меня с удивлением:
– Но если в конце он все деньги отдал старухе и, кроме того, устроил ей бесплатную поездку в Португалию…
(Деньги? Португалия?) (Непредвиденные выкрутасы Хупа.) (И я раскаялся в том, что подумал плохо о своем друге, ведь тот, кто плохо думает о друге и ошибается, чувствует себя хозяином ведра, полного червей.)
Итак, очевидно, что у Хупа – золотое сердце, но это золото может быть очень склонно к порче. Я говорю это потому, что его зачарованность экстравагантным умом Того, Кто Был шла по нарастающей, он всем говорил о нем, повсюду пропагандировал доктрины этого странствующего болтуна, как будто Тот, Кто Был был Аллахом, а Хуп – пророком Магометом. Да, конечно, вторжение в твою жизнь такого человека, как Тот, Кто Был, может оказаться значительным событием, потому что открывает неведомые краны в твоих мыслях, потому что стимулирует тебя на размышление о необычных вещах или потому, что позволяет тебе лучше понять бессвязный бред, в котором заключается существование, я этого не отрицаю, потому что я сам сделался чем-то вроде психологического наркомана Того, Кто Был, меня одновременно отвращали и привлекали его поливалентные убеждения, я с нетерпением ожидал его речей без компаса, отчасти потому, что они злили меня, а отчасти потому, что они меня зачаровывали, но Хуп доходил до смешного, потому что он вел себя так же, как Тот, Кто Был, и подражал его жестам, его модуляциям голоса; его природной склонности к бессмыслице попала вожжа под хвост, поэтому он весело бродил, плетя бессмыслицу, и за этим занятием от него уходила его сущность: Хуп переживал моральную абдукцию, и этот старый друг внезапно стал для меня незнакомцем: Тем, Кто Был Хупом И Кто Уже Не Есть Хуп, заместителем самого себя, растворившимся в другом.
В довершение ко всему Тот, Кто Был, Хуп, Молекула и Кинки в конце концов образовали квартет не разлей вода; не пропуская ни одного вечера, они отправлялись на абстрактную охоту, в которой мир был добычей. Хуп никого не предупреждал об этих прогулках, и я знаю, что поэта Бласко это огорчало, полагаю, и Мутиса тоже, хотя никто не говорил об этом, и я, конечно, тоже, потому что мы были распустившимся утком, срезанным под корень заговором, и наша прежняя шайка собиралась в полном составе только иногда, по воле случая, когда мы приходили куда-нибудь и случайно встречались там с этой четверкой: они очень смеялись чему-то своему и говорили какими-то своими тайными намеками, которые для нас, остальных, казались загадками, и это ранило нас еще больше.
Даже на последних дискотеках Тот, Кто Был не переставал быть тем, кто он есть:
– Сегодня Верховное Существо действует с размахом: оно сделало так, чтоб сто семнадцать алжирских пастухов погибли в руках фундаменталистов, сделало так, чтоб поднялись цены на молоко и чтобы мексиканская певица-алкоголичка записала новый ужасающий диск, наряду с еще несколькими миллионами деталей того же пошиба. Завтра ему взбредет в голову сбить самолет, вызвать землетрясение и сделать так, чтоб индийская девочка наступила на ядовитую змею, наряду с еще несколькими миллионами происшествий, потому что Верховное Существо тяготеет к тремендизму. Теологи говорят, что все это соответствует необходимости поддерживать таинственное равновесие, непонятное ничтожному человеческому уму, потому что люди чересчур мелочны и им не хочется, чтоб их похоронила снежная лавина или сожрала акула; но беспокоиться не о чем, говорят теологи, потому что Верховное Существо хорошо управляется со своим делом – распределять с доставкой на дом гармонию и хаос, рутину и катастрофы, но знаете, что я вам скажу? – (И он смотрел на нас пристально, на одного за другим, и все мы отрицательно качали головой.) – Нет? Ну, это очень просто: когда я выпью еще два стаканчика, я отправлюсь в «Гарден», на тот случай если вдруг завтра Верховному Существу вздумается остановиться взглядом на мне и оно включит меня в одну из этих трагических судеб, в одно из этих убийств, необходимых для поддержания божественного ужаса во вселенной, конечно, но очень неприятных в личностном масштабе. А теперь я прошу вас, кабальеро, чтоб вы были столь деликатны, что пригласили бы выпить этого бедного трубадура, поющего перед вами кровавые деяния Бога.








