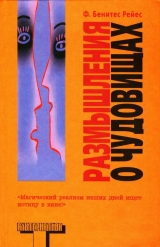
Текст книги "Размышления о чудовищах"
Автор книги: Фелипе Рейес
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 18 страниц)
(И мы приглашали его, разумеется, потому что Тот, Кто Был был щедр на слова, но скуп на карман.) (И потом мы все шли в «Гарден».) (А я думал о Марии.)
Как вы, должно быть, знаете (ведь город полон афишами), в «Оксисе» каждый год организуется костюмированный праздник, и мы, само собой, ходим туда в полном составе.
Некоторые люди (психиатры и так далее) уверяют, что костюм почти с научной точностью раскрывает все закоулки подсознания, и я этого не отрицаю (кто знает, быть может, есть такие, у которых душа отравлена тоской оттого, что им не суждено было родиться пещерным человеком или индийцем-апашем), но в моем случае я год за годом прибегаю к единственному костюму, какой у меня есть: это что-то вроде костюма волшебника Мерлина. (Туника со звездами, остроконечный колпак со звездами, палочка со звездой на конце, борода цвета звезд.) Мне сшила его Йери пять или, может быть, шесть лет назад, на нем есть несколько дырок, прожженных сигаретой, и он немного потерт внизу, от бороды чудовищно жарко, но мне трудно было бы появляться на празднике в «Оксисе» в другом обличье, потому что я привык к этому ежегодному преображению и мне нравится под защитой своей почтенной внешности тыкать девушкам своей волшебной палочкой в лоб или в плечо, а они обычно воспринимают это хорошо, особенно те, костюм которых имеет какое-нибудь отношение к эзотерике.
Костюмированный праздник – это одно из главных событий года для нас, и я всегда жду его со странной надеждой, потому что это что-то вроде путешествия на планету, населенную колдуньями в декольте, марсианами, мускулистыми вампиршами, эфирными вдовами, обернутыми в кружево… В течение нескольких часов никто там не бывает тем, кто он есть на самом деле, потому что происходит массовое искажение личности, а это всегда рождает ожидания в тех, кто от природы склонен к ожиданию, и эта надежда на коллективное отчуждение становится причиной того, что ждешь экзотических случайностей: что – ну, не знаю – пойдешь в уборную, а тебе на шею бросится фея-кокаинистка, которой каждую ночь снится смерть, скажем к примеру. (Или что юная особа, одетая пантерой, решит проглотить живьем волшебника Мерлина, – в качестве еще одного примера.) (И так далее.) (В общем, иллюзии, они бесплатны.)
Поскольку у меня в голове были подобные фантазии, я позвонил Марии, рассказал ей о празднике и спросил ее, не хочет ли она пойти. Она сказала, что не уверена, что ей не нравятся праздники, и это в глубине души принесло мне облегчение, потому что на ночных скоплениях всегда лучше быть браконьером, чем иметь при себе вагину, так сказать.
– Что ты наденешь, старина? Костюм со звездочками?
Хуп сказал мне, что Тот, Кто Был собирается пойти на праздник. И Кинки. И Молекула тоже. И это не пришлось мне по вкусу, потому что было еще одним проявлением их вторжения на наши территории, еще одним надругательством над нашими символами. (Но таково было положение вещей: как на закате Римской империи.)
– Ты как пойдешь, приятель?
– Я тебе уже сказал. В костюме Мерлина.
– Нет, это я знаю. Я спрашиваю тебя, что ты собираешься принять.
Я собирался принять экстази, он лучше всего подходит для подобных случаев, потому что поддерживает тебя на ногах и, если повезет, дает тебе душу архангела, а кроме того, делает так, что все женщины выстраиваются в твоем воображении в определенной иерархии: бесплотные и толстые, молодые и увядшие, чокнутые и задумчивые… (И в этом состоит хорошая отправная точка игры.) (Хотя иногда это плохой конечный пункт.)
– Я тоже собираюсь принять экстази, но только жидкий.
– Жидкий? Но это же не MDMA, a GHB.
– А какая проблема с GHB, приятель?
Как вы знаете, проблема с этим веществом заключается в том, что если ты немного переборщишь с дозой, оно может вызвать у тебя гипертермию, как в скороварке, и иногда довести тебя до временной комы – временной, но все-таки комы, – а это может понравиться только любителям комы. Я это знаю, потому что Галеоте, один мой товарищ по комиссариату, занимающийся отправкой в лабораторию изъятой контрабанды, рассказывает мне, какие из курсирующих у нас средств содержат наибольший процент чистого вещества, какие – фигня, и какие препараты переходят границы осторожности по уровню токсичности, хотя эту информацию нужно постоянно обновлять, при естественной неравномерности в поставках сырья, влияющих на конечное качество продукта, подверженного игре случая и замене суррогатами… (В общем, это рынок.)
– Но я собираюсь принять его.
(Ладно, очень хорошо.)
…И наконец, настала суббота великого маскарада, ночь, в которую сердце надевает пелерину с бубенчиками и начинает весело скакать у нас в груди, как будто вместо сердца там – нервный акробат. Потому что это ночь, когда наша личность и наше сознание остаются пленниками в холодильнике, завернутые в фольгу, а мы выходим на улицу, превратившись в шейха в пышной накидке и с блестящим ятаганом, или в грудастую медсестру, или в самого волшебника Мерлина, в костюме с серебряными звездами, что блестят как настоящие, когда их заливает свет вращающихся прожекторов.
* * *
Суббота, день ежегодного костюмированного праздника, – это день, во всех смыслах ненормальный. Обычно по субботам мы встречаемся рано и отправляемся выпить пива, съесть чего-нибудь, а около полуночи мы принимаем то, что следует принять, и углубляемся в платонические пещеры, полные танцующих теней, в пике устремленных в пандемониум, чтобы услышать в голове однообразный ритуальный барабан, вот в чем дело: иллюзорное путешествие по сельве, с низкими инстинктами в качестве проводника. Но в день праздника в «Оксисе» все ненормально, как я уже сказал, потому что не станешь выходить на улицу, черт-те во что одетый, в девять часов вечера, даже еще как следует не набравшись, рискуя попасть в потасовку с каким-нибудь милашкой, и, поскольку праздник начинает разгораться только в двенадцать или около того, ожидание дома становится бесконечным.
В общем, я приготовился к аскетическому ужину, чтобы очистить почву для продвижения экстази, выкурил пару папиросок и сел смотреть телевизор, нетерпеливый, возбужденный, жаждущий перевоплотиться в волшебника Мерлина, чтобы весело смешаться с толпой бледных императриц и трупов с резиновым топором, торчащим из головы, бедуинов и Неронов, drag-queens [36]36
королева шлейфа ( англ.); так на сленге называют трансвеститов.
[Закрыть]с крыльями бабочки, в фосфоресцирующих диадемах, на двадцатисантиметровых каблуках.
Было около десяти, когда зазвонил телефон: Мария. Она раздумывает. Пожалуй. И в чем ей пойти?… А в котором часу? И тогда я совсем заволновался, потому что я не знал, хорошая это новость, плохая или обычная, хотя в конце я решил, что, не будучи плохой, она также не была хорошей, так что скорее она была обычной, с оттенком хорошей, с одной стороны (женская компания обеспечена), а с другой стороны – с оттенком плохой (исключается возможность неожиданного флирта), и, в общем, я раскаялся в том, что рассказал Марии о празднике в «Оксисе», – а для меня это священное событие, магическая отметка в календаре, день психотропного шабаша, – и я также раскаялся в том, что всегда так бестолково веду себя с женщинами, потому что чувствую себя с ними полицейским осведомителем и во всем им уступаю, даже в том, в чем менее всего должен, и еще я раскаялся в том, что ступил на тревожную почву противоречивых возможностей (Мария да, Мария нет), но вы отлично знаете, что раскаяние характеризуется тем, что ему абсолютно не хватает практических действий, потому что это чувство не только ничего не решающее, но и в большей части случаев все еще больше запутывающее, учитывая, что оно придает прошлому размер неисправимой ошибки.
– Так, значит, встречаемся там после двенадцати. Я подумаю, что надеть.
(Что хочешь, только не собачью шкуру.)
– Что хочешь, Мария.
…И мы уже были в «Оксисе», потрепанном царстве безымянности и подделки, погруженные в ирреальность грима и масок, – скрывающиеся марионетки, на одну ночь сбежавшие от самих себя. (Или что-то вроде.)
– Ты, как всегда, верен традиции, Йереми. Оделся колдуном, – сказал Йусупе, швейцар «Оксиса». – Остальные уже внутри.
И действительно, остальные были внутри: Хуп, одетый цыганом-наркоторговцем, с пальцами, унизанными кольцами, с запястьями, увешанными браслетами, с медальоном размером с яичницу на груди, в черном парике с маленькими блестящими кудряшками; Бласко превратился в мертвеца (более или менее) при помощи белого грима, хотя на нем был всегдашний черный костюм, а Мутис – во что-то непонятное: существо, среднее между попрошайкой и доктором honoris causa,поскольку он надел тунику с заплатами, а на голову – желтую академическую шапочку. Чуть позже пришла апокрифическая часть нашей шайки, так сказать: Тот, Кто Был оделся гладиатором, опоясав торс кожаными ремнями, а на половине спины, остававшейся открытой, видна была татуировка в виде бабочки размером со страуса; Кинки нарядился Зорро, со всеми атрибутами, а зловредный Молекула (он оставил Снаряда дома, с пирамидой банок пива, так он нам сказал) остроумно натянул на голову резиновую шапочку, запихнул свое маленькое тельце в белый костюм из лайкры и нацепил на задницу очень длинный хвост.
(– Что у тебя за костюм, братишка? – спросил его Хуп, и Молекула незамедлительно раскрыл ему свой секрет:
– Я сперматозоид, засранец, неужели не видно?)
Потом пришла Рут, gore-нимфа Мутиса, как всегда, одетая в траур, хотя с лицом, выкрашенным желтой краской, и с волосами, заплетенными в две косички:
– Я – в костюме изнасилованной вьетнамки.
(?)
В общем, мы все сидели там, каждый месил в душе свои самые насущные фантазии: торопливые алхимики.
– Ты принял эту гадость? – спросил я Хупа.
(«Эта гадость» – вещество, известное как GHB.)
– Да, и наш друг Тот, Кто Был, и Кинки, и мой двоюродный брат. И у нас уже крыша поползла.
Бласко, со своей стороны, увлекающийся наркотическими коктейлями (отчасти из-за своего положения наркотического попрошайки) съел половинку трипи из целой, что я подарил ему, и целую таблетку спида, переданную ему Мутисом, однако, поскольку он всегда пьет море алкоголя, результаты бывают самыми непредвиденными: ему то кажется, что он видит летающих чудищ, то он думает, что находится в раю, первое – чаще, чем второе. Не стоит даже упоминать, что молчаливый Мутис сильно накачался спидом, и полагаю, что Рут тоже. Я, намеренный подбросить дров в топку корабля, принял одну экстази и держал в кармане еще три, на всякий случай. (На случай, если мухи споют мне свою песню: зззззззззз).(Песню сна, которой невозможно сопротивляться, источающую грезы [37]37
Испанское выражение «на всякий случай» (por si las moscas)дословно переводится как «на случай, если мухи».
[Закрыть]).
– Привет.
Мария пришла, само собой, не в костюме Клеопатры, но по крайней мере она сделала все, что было в ее силах, чтобы присоединиться к миру колдовства: она надела белый халат, небесно-голубую соломенную шляпу, ожерелье из зубов акулы и нарисовала себе на правом глазу звезду. Тот, Кто Был незамедлительно к ней прицепился:
– Я гладиатор, бросивший свою душу львам, и львы умерли от яда. Я заставлял течь тщеславную кровь в цирках мира. Я видел, как сотни людей собирают свои собственные кишки. Я видел, как ужас мгновенно застыл в глазах армянского борца, когда я одним ударом отрубил ему руку, а всего лишь секунду спустя вскрыл ему брюхо, как человек, вскрывающий зловонный грот. Я видел, как плачут среди ночи непобедимые гиганты из Эфиопии. Так что, сеньорита, одетая ходячим абсурдом, не потанцуете ли со мной?
Но Мария сказала ему, что нет.
(– Слушай, что за костюм у этого твоего друга? Безумного поэта дискотек, или что-то вроде?)
Мне трудно было говорить с Марией, уделять ей внимание, даже смотреть на нее, отчасти потому, что ее компания была балластом в ситуации, когда человеку обычно хочется пуститься по воле волн, в этом-то и состоит достоинство таких праздников: в блуждании без компаса. Отчасти по этой причине, как я уже сказал, но отчасти также потому, что иногда экстази вызывает сложную реакцию, и тебе начинает думаться, что все жаждут оторвать тебе голову и насадить ее на кол, что все смотрят на тебя, как смотрит гриф на умирающего кабана, и тогда ты начинаешь ощущать свое тело некой хрустальной конструкцией, и видишь взгляды, прикованные к тебе, и видишь типов с враждебными глазами, продвигающихся на твою территорию, чтобы толкнуть тебя, чтобы растоптать тебя, чтобы сказать тебе, что им не нравится твое лицо и они собираются разбить его. (Конечно, это всего лишь психотический обман, по крайней мере в теории, но со всеми недостатками абсолютной уверенности.) Я смотрел на Марию и вспоминал о приговоренных к смерти собаках, и не мог выдержать ее взгляда, и хотел, чтобы она ушла, и хотел действительно быть волшебником Мерлином, чтобы заставить ее исчезнуть одним взмахом моей волшебной палочки, но Мария по-прежнему была там, рядом со мной, склонившись ко мне, невыразительная и погруженная в себя, – она пила прохладительный напиток с лимоном и качала правой ногой в такт музыки, чужая в этом мире людей, набравшихся по самые брови, одетая причудливой куклой.
Кроме того, Бласко, как можно было предвидеть, придавило по-плохому, и он начал трубить апокалипсис и непоправимое царство смерти.
(– Я мертв, Йереми. И ты тоже мертв.)
(И так далее.)
Хуп, Тот, Кто Был, Кинки и двоюродный брат Хупа Молекула сидели отдельной группкой, накачанные GHB, который не вызвал у них ни гипертермии, ни комы, а только непристойное счастье, шумное и лучистое, ведь в договорах, которые мы подписываем с наркотическими веществами, многое написано мелким шрифтом.
– Росита не придет, Хуп?
Нет, потому что Хуп поссорился со старухой Роситой Эсмеральдой, и это была стратегическая ссора: он не воспринимал ежегодный праздник в «Оксисе» иначе, как дикое одиночество. Мутис в эту ночь фланировал среди танцующих и возвращался, улыбаясь, садился рядом с Рут, а потом снова принимался фланировать среди людей, рискуя нарваться.
– А ты как, Йереми? – спросите меня вы.
Ну, так себе, потому что мужчины с мутными глазами меня оскорбляли, женщины смотрели на меня с презрением, официанты обслуживали всех вокруг, и только потом – меня, а моя челюсть была машиной для штамповки металла. (Да, это только догадки, но более сильные, чем многое в эмпирической реальности, так сказать.) (Болезненные фантазии, ранящие вымыслы…) (Скажем так.)
Кинки тоже попытал удачи с Марией:
– Ты – девушка копа? – и схватил ее за талию, но она его отстранила, и тогда Кинки, как бы в отместку, попросил у меня денег и, не знаю, как уж он ухитрился, бросил мне под ноги бомбу-вонючку. – Он, это он, – закричал он, когда зловоние стало распространяться, указывая на меня и зажимая нос.
Со своей стороны, Бласко заплетающимся языком читал Марии на ухо поэму, полагаю, полную летучих мышей и могил, и под конец сказал ей, что она тоже мертвая, потому что он видит, как из ее глаз выползают гусеницы.
(– Послушай, эти твои друзья, ну, не знаю…)
Так что, не зная, что делать, и одновременно для того, чтобы сделать что-нибудь, я пошел в уборную, измельчил полторы таблетки, вернулся к барной стойке и насыпал порошок Марии в ее лимонный напиток: химическая война. (Масштабная.)
Когда от экстази у тебя развивается паранойя, есть одно средство: принять успокоительное и лечь в постель, а ложиться в постель было почти единственным, чего я не хотел в ту ночь, так что я спросил у Хупа, не осталось ли у него GHB, и он ответил мне, что нет, но что он может дать мне половинку трипи, – в общем, я пришел в себя.
Ожидая, какое действие окажет на меня трипи и какое действие окажут на Марию полторы таблетки, я стал смотреть на одну девчонку, танцевавшую так, словно ее позвоночник превратился в змею, – она была одета в костюм вавилонского суккуба (или кого-то вроде), в трусы и лифчик с золотыми блестками, в плащ, тоже золотой, в золотые сапожки до самых бедер и в диадему в форме пирамиды – что-то вроде беспутной дочери Люцифера и Афродиты Асидалии, залитой золотом.
– Она тебе нравится? – спросила меня Мария, но я не рассматривал этот вопрос просто с точки зрения «нравится – не нравится», он перешел в несколько более радикальное измерение: в этот миг (в другой – быть может, нет, но в этот – да) я дал бы отрезать себе обе руки, чтобы иметь возможность провести четверть часа, кувыркаясь с этой дьяволицей в аду, который она изберет.
– Мне тоже нравится. Очень.
(?)
Я посмотрел на зрачки Марии: они уже очень сильно расширились.
– Мне нравятся женщины.
Я сказал ей, что у нас одинаковый недостаток, и снова принялся за свое: стал наблюдать за дьяволицей, – но Марии пришла охота говорить, и она рассказала мне историю, показавшуюся мне туманной, не потому что она такой была, а потому, что я уделил ей мало внимания, учитывая, что у моего внимания был подписан исключительный договор с дьяволицей, танцевавшей в окружении одержимых желанием чудовищ: одноглазого пирата, фехтовальщика, человека-ящерицы…
– Я уже больше двух лет не спала с мужчиной…
(А чудовища приближали свои клыки к уху дьяволицы, чтобы сказать ей что-то, что она отлично знала, фразы, слышанные тысячи раз на протяжении тысяч ночей, грязные просьбы, страстные мольбы, – а она с выражением веселого ступора продолжала танцевать одна, сама себе пара, любовница воздуха, извивающаяся перед невидимым богом, тело с нездешним великолепием, натренированное вызывать боль в нервном ядре желания.)
– У меня был плохой опыт…
(И я хотел бы родиться мертвым.)
Хуп и Тот, Кто Был разговаривали с двумя девушками, переодетыми утками. Бласко уселся на служебной лестнице, со смятенным выражением мрачного мечтателя, несомненно, рифмуя метафоры о бессмысленности мира. Мутиса и Рут я потерял из виду. Кинки бродил, несомненно, выслеживая бесхозные сумки. Молекула танцевал на дорожке, среди гигантов.
– …И с тех пор что-то мешает мне иметь нормальные отношения с мужчинами. Но я не хочу надоедать тебе. Пожалуй, я уже пойду, ведь в восемь утра собаки начинают лаять, просить еду.
(Прощай, прощай, убийца собак.) (Добро пожаловать, кислота.) (Музыка, разлагающаяся в бесконечности, как тревожная материя.) (Огни, словно воздушные жидкости.) (Люди, подобные смеси красок, армии акробатов, движущейся как единое существо, горбатый, извивающийся дракон.)
– Эй, Йереми, приятель, я хочу познакомить тебя с этими утками, – и женщины-утки смеялись, и так я сидел еще какое-то время, преследуемый своей собственной паранойей, наступая на разбитые стаканы, наблюдая за тем, как распадается это сборище марионеток.
Дьяволица продолжала танцевать. Оптимисты перестали осаждать ее, потому что даже самые безумные пираты знают, что есть сокровища, которые они не могут украсть. И тогда я понял, что она, а не Мария (как такое могло быть?) была женщиной, появившейся в моем видении: золотой вызывающий силуэт, испугавший светящееся присутствие смерти. Я знал, что это она, знал, как человек, которому только что вонзили кинжал в бок, и смотрел, как она движется, словно огонь, переменчивое золото, призрак, растворившийся в свете. И я знал, что никогда не встречусь с ней взглядом, потому что она – бродячий демон, появляющийся в агонических видениях. И я заплакал. С сухими глазами, но заплакал: слезы текли внутри меня, как родник, наводняя мою душу, наводняя мои мысли, затопляя всю мою жизнь. И я почувствовал, как бьется вся масса моего сердца, как будто это жидкая грязь. И миражи разлетались в пузыри, и эти пузыри, в свою очередь, создавали колеблющиеся миражи, остатки магической жизни. И я ушел из «Оксиса». Уже рассветало. И небо казалось белком глаза, приговоренного к вечному плачу.
Бывают ночи, не оканчивающиеся, когда солнце уже осушает росу и уличную мочу ночных бродяг: продленные ночи, тайные ночи при свете, с прозрачной луной, с бессонным веком. В общем, белые ночи с их черной магией, потому что душа продолжает пребывать в ночи.
Когда я пришел домой, было больше восьми. Пока я стоял, ожидая лифта, дверь подъезда открыла та, которую, за отсутствием имени, известного вам и мне, я назову Девочка.
(– Кто такая Девочка?)
Девочку я видел иногда и раньше, до ее внезапного превращения в животное с накрашенными глазами и шевелюрой цвета свернувшейся крови. Я видел, как она входила в дом и выходила оттуда со своими родителями, с подругами, с игрушками, жительница царства принцесс и гномов, помещающихся в картонную коробку, незначительная, скорая, неоконченная. Но время, торопливый гончар, тайно работало над телом Девочки, над ее трепещущими железами, над подвижным лабиринтом ее клеток, над бездонными кругами ее радужной оболочки, моделировал линию ее спины, ее неожиданно появившиеся груди, обив кашемиром ее плотный пах, – трансформация без боли, приглушенная трансформация, белковый организм, преображающийся каждую ночь, каждое утро удивляющийся сам себе, мелодичным переменам своей изменившейся телесной музыки, своему колдовскому и явному преображению: тело, проросшее из другого тела. (Девочка…)
Увидев меня, она остановилась, потому что никто не готов к тому, чтоб встречать рассвет с волшебником Мерлином. Она испустила какое-то бурчание, похожее на приветствие. Я открыл перед ней дверь лифта, она снова испустила бурчание в знак благодарности, вошла, вошел и я, она нажала на кнопку пятого этажа. Она стала искать ключи в своей беспорядочной сумке, ящике фокусника, полном разных мелочей: зажигалка, заколка, пачка жвачки. На уровне третьего этажа она посмотрела на меня, я посмотрел на нее, она увидела мои зрачки, все еще расширенные, я увидел ее, все еще расширенные. Мы узнали друг друга, как члены колесного братства: нимфа, не тронутая ощущением смерти, и потрепанный кентавр, по возвращении в общую пещеру на полигоне Уча после посещения грота химических чар, возбужденные изгнанники из летучего подземного мира, я с грузом прошлого и совести на плечах, она – порхающая в своем преходящем бессмертии, в своей стране остановившихся часов.
(И пятый этаж.) (И прощание без прощания: быстрый силуэт, бегущий от света, сторонящийся дня.) (Эфемерная однодневка…)
(– Эфемерная однодневка?)
(Да, однодневка: что-то вроде стрекозы, живущей всего несколько часов.)
Войдя в свою квартиру, я рухнул в одежде на кровать и увидел в темноте колеблющиеся порывы света, а потом – черное пятно, сотканное из перемежающихся черных точек. Несколькими метрами ниже Девочка, наверно, раздевается: развязывает узел на шнурках своих ботинок с ультрагалактическим рисунком, снимая кулоны с эзотерическими символами, свое зачаточное белье, зараженное контактом с шелком кожи… И я думал о Девочке, и думал одновременно о вавилонской дьяволице из «Оксиса», и около двух часов ночи единый, мощный образ, безобразное и совершенное животное, сюрреалистический бицефал, мысленное представление, удвоенное желанием, говорило мне на ухо:
– Если в результате какого-нибудь исключительного заговора чудес, если в результате какой-нибудь чудесной цепочки заговоров или если в результате какого-нибудь исключительного преображения ирреальностей этот волчонок с еще не оформившейся душой скажет тебе однажды в лифте: «Пойдем со мной», – что ты сделаешь, философ-наркоман? А если золотая демонша?…
(Желание: призрачное чувство…)
– Спит ли уже Девочка, – рассуждал я, – погрузившись в гипнотический поток, где плавают цветные рыбки и хищные тритоны? Не дает ли ей заснуть метиленэдиоксиметанфетамин, как это происходит со мной, который думает о ней, как кот о рыбной лавке, находящейся на первом этаже здания, когда выглядывает на балкон, и до него доносится головокружительный запах еще трепещущей рыбы, уже завернутой в саван из колотого льда, в ледяной саван для молчаливых существ, – и кот мяукает, драматически мяукает этот чертов жаждущий кот, и его мяуканье превращается в наглую мольбу, до тех пор пока он не устанет мяукать и не удовлетворится сухим кормом с запахом говядины? (Недоступное и так далее.) (Потому что так думал я о ней – как кот.) А как выглядит спальня дьяволицы из «Оксиса»? (Там подряд ею овладевают, среди облаков серы, в колдовском ритуале, штук двадцать дьяволов с алыми пенисами?)
В общем, я встал, свернул папироску, включил приемник и начал передавать в эфир, марионетка своей болтовни, марионетка чревовещательства, чревовещатель самого себя, без сценария, – что выйдет, то выйдет, – в восемь двадцать ледяного воскресенья. Несомненно, никто меня не слушал, но мне нужно было высказаться:
– Сегодня хороший день для того, чтоб умереть. Солнце светит, но все ледяное. Это утро похоже на смерть. Воздух такой холодный, словно плиты операционной, в которой кто-то только что преставился, перепутав смерть с обмороком, с внезапной слабостью, с ватной рукой. Сегодня потрясающий день для того, чтоб умереть. Сегодня подходящий день для этого. Потому что мы всегда умираем поздно. Мы всегда перерасходуем регламентированное время, даже когда умираем, еще не родившись, потому что не знаем, что делать с этим трансцендентальным дождевым червем, которого носим в голове.
Друзья «Корзины с отрезанными ушами», как странен мир: умирают слоны, умирают киты и молчаливые крокодилы, умираем все мы в день, когда меньше всего этого ждем, но вирусы, бактерии и раковые клетки могут быть бессмертными. Загляните в любую энциклопедию, если не верите мне. И скажу вам больше: если в лабораторной культуре смешать раковые клетки и нормальные клетки, нормальные клетки могут переродиться в раковые, и таким образом они достигнут полного бессмертия, владения бесконечным временем: легенда о продаже души дьяволу, но в клеточной версии, понимаете?
Да, сегодня чудесный день для того, чтоб умереть. Потому что удобно умирать, когда твои мысли – это уже змея, заключенная в стеклянном пузырьке…
И тут зазвонил телефон.
Кому может взбрести в голову позвонить кому-нибудь домой в воскресенье, в половине девятого утра, если оставили этого кого-то несколькими часами раньше на дискотеке в костюме Мерлина? Разумеется, Марии.
– Я не могу сомкнуть глаз. Я отпустила всех собак. Мне необходимо было сказать, что я счастлива и хочу видеть тебя.
(MDMA, со своей горячей силой, прямо в сердце…) Это была не лучшая моя минута, но я предложил ей прийти ко мне домой, потому что мысль о том, что я должен ехать в этот Аушвиц для собак, нравилась мне столь же, сколь возможность самому родиться собакой.
– Где ты живешь?
И она сказала мне, что немедленно выходит.
Я отключил приемник, немного поправил постель, вытряхнул пепельницы и принял душ, все это на бегу. Мое воображение продолжало колебаться между дьяволицей и Девочкой, но с сексом происходит то же, что с охотой, ведь секс – это разновидность охоты, обычно бескровная: тигр-ветеран знает, что не может преследовать молодую газель и удовлетворяется тем, что пожирает газель больную или раненую. (И ему даже вкусно.)
Мария не стерла звезду с левого глаза.
– Да, ну и что же еще? – спросите меня вы.
Мало что: каждый из нас самостоятельно разделся, стоя спиной к другому, без театральных представлений, и мы быстро залезли в постель, словно бюрократы желания, не ожидая больших телесных приключений, по крайней мере я, со своей стороны. Белье было, как снег, хотя все же не такое холодное, как задница Марии. Она попросила меня обнять ее и быть с ней нежным.
(?)
И мало что еще, как я уже сказал, все, как обычно в таких случаях: два чужих друг другу тела, оцепенело продвигающиеся на ощупь, не умеющие отыскать тех тайных пружин, что открывают дверцы трепещущего лабиринта нервной системы.
(– Нет, не так.)
(– Так мне больно.)
(И так далее.)
В конце концов, полагаю, Мария получила пару оргазмов, или что-то вроде того, потому что несомненно одно: остатки экстази поддерживали мой член в возбужденном состоянии, хотя одновременно он был весьма нечувствительным, словно это был каучуковый протез, и я хотел только покончить с этим и заснуть, потому что бывают случаи, когда Морфей (сын Гипноза) пару раз бьет Эроса (сына Афродиты) ногой по губам, и тот вырубается.
Когда мы закончили, я пожалел о том, что предложил Марии прийти ко мне домой, потому что главная проблема появления кого-либо в твоем доме – это что ты не знаешь, когда он уйдет, и начинаешь испытывать страх, что он никогда не уйдет, и умоляешь настоящее превратиться в прошедшее как можно раньше, чтоб оно немедленно потекло в направлении забвения, ведь Шопенгауэр уже увидел, как оно бывает: «Единственная форма реальности – это настоящее», а настоящее в тот миг было таковым: голая женщина в моей постели, рассказывающая непонятные мне происшествия из своей жизни, с душой, смягченной MDMA, и с двадцатью семью родинками на спине. (Таково было настоящее и, следовательно, реальность.)
– Время, беги, – шептал я, но Мария продолжала лежать в моей постели, как будто это была ее постель. Звезда на глазу стерлась и испачкала краской наволочку; было уже половина одиннадцатого, и я хотел спать, но Мария хотела говорить и ушла только около трех, и то лишь благодаря тому, что ей нужно было кормить собак, приговоренных к смерти.
Я смертельно хотел спать, но мне нужно было произвести расчет: если я засну в три, значит, проснусь самое позднее в семь вечера и проведу ночь без сна, а без четверти восемь мне нужно идти на работу, потому что комиссар не прощает опозданий в понедельник: они кажутся ему слишком подозрительными, и он читает тебе нотации, а никто в понедельник не расположен выслушивать нотации. Так что я начертил для себя следующий план: принять полторы дозы миоластана (вещество на основе бензодиазепина, действующее как мышечное расслабляющее, погружающее в изумительный сон), который кроме того что наполовину парализует меня, но еще и избавит от боли в ступне, ведь в «Оксисе» мне наступили на ногу, и, когда прекратилось действие экстази, она стала довольно сильно болеть, потому что тело вернулось в тело после своего пребывания на планете, восставшей против законов Ньютона, так сказать. Я рассчитал, что с этим смогу проспать часов семь, а это значит, что проснусь я около десяти вечера.
– А потом?
Очень просто: на ночном столике у меня стоит стакан воды, порция в один миллиграмм рогипнола (это родственник миоластана по ветке бензодиазепинов), и я приму его, едва только проснусь, – я просчитал, что так смогу проспать до шести часов утра. Я встану отупевший, превратившийся в голема, с головой, плотной, как магма, но все можно будет уладить парой чашек кофе, теплым душем и тремя или четырьмя капсулами гуараны, этого концентрированного кофеина, что продают в гомеопатических аптеках: доза в три единицы соответствует полной бадейке кофе.








