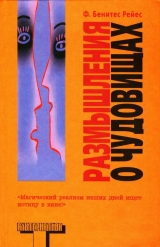
Текст книги "Размышления о чудовищах"
Автор книги: Фелипе Рейес
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 18 страниц)
Находка представляла собой, как вы, несомненно, уже догадались, бюст.
– Кто этот хрен? – спросил Хуп, и все мы пожали плечами, потому что это лицо абсолютно ничего нам не говорило, тем более что оно было все в земле. Хуп начал оттирать бюст.
– Там что-то написано, – сказал Мутис, прежде чем снова погрузиться в бездну своего длительного молчания.
– Ленин. Это Ленин.
– Ленин?
– Да. Это Ленин.
– Это Ленин. Так написано на подставке.
– Ленин?
– Черт, это Ленин.
(В общем, это был Ленин.)
Мы положили голову Ленина в багажник машины Хупа и поехали домой.
– Это Ленин, – говорил Хуп каждую минуту.
(– Это Ленин.)
Дома у Хупа мы какое-то время пили и все такое прочее. Само собой, голова Ленина в конце концов оказалась в ванной, и там мы устроили ей душ, чтобы смыть остатки земли.
(– Намылим ее шампунем? – спросил даже Мутис, у которого этой ночью что-то развязался язык.)
– Он бронзовый. Это бронзовый Ленин, – каждую минуту с воодушевлением говорил Хуп. – Товарищ Ленин, – и гладил его рукой по лысине. – Старина Ленин с бородой, как у козленка, дубина ты эдакая.
И так далее.
(– Бронзовый. Он бронзовый.)
– Думаю, нам надо где-нибудь купить бутылку водки. Она подойдет к случаю, – предложил Хуп, но Бласко, поэт праздных удовольствий и теоретик оргий, пошел еще дальше:
– Почему бы нам не отнести товарища Ленина в «Оксис»?
И это показалось нам исключительно удачной, революционной мыслью, потому что мы уже были совсем хорошие, так что мы подхватили бюст, снова положили его в багажник и поехали в «Оксис».
– Куда это вы идете с этим китайским мандарином? – спросил нас Йусупе, швейцар в «Оксисе».
– Это Ленин, приятель. Бронзовый Ленин, – сказал ему Хуп.
– Это Ленин, – поддакнул я.
В общем, мы поставили бюст на стойку и какое-то время просидели в «Оксисе», выпивая за здоровье Ленина, чокаясь своими стаканами с его башкой, предлагая девушкам поцеловать эту легендарную лысину, пока кривая эйфории внезапно не пошла вниз, и мы покинули «Оксис», таща с собой бюст, снова положили его в багажник и отвезли его домой к Хупу, где он составил часть будущего Городского Музея Металлолома.
На следующий день Хуп позвонил мне в комиссариат очень рано утром:
– Этот долбаный Ленин – это потрясающе, да? Он из бронзы.
И я, у которого все тело ломило, подтвердил ему, что да, это потрясающе, и что он из бронзы. В голосе Хупа заметен был тот оптимизм, что обычно вызывает пара понюшек натощак, сделанных, дабы вернуть нервную систему на солнечную орбиту после ночи безумств.
– Я тут поразмыслил: он еще и прилично стоит. Такие вещи высоко ценятся: бронзовый Ленин, отлитый до войны… Уверен, тут где-нибудь есть коммунистическая организация, готовая ограбить банк, чтобы иметь возможность купить его и поставить на алтарь… Ты ведь знаешь, коммунисты – такие идолопоклонники.
И я, в такие моменты желавший одного – лежать под наркозом на операционном столе, чтобы меня избавили от похмелья, сказал ему, что да, что, должно быть, есть тут где-то коммунистическая организация, готовая на все, чтобы заполучить бронзовую голову Ленина в вестибюль своей штаб-квартиры.
– Я собираюсь отнести ее к оценщику. Мне говорили об одном типе, который…
Так что в тот же день Хуп, Бласко, Мутис и я, разнородный квартет, снова положили бюст Ленина в багажник машины Хупа и направились куда-то вроде промышленного полигона, если столь высокого названия заслуживает пустырь только за то, что там построено несколько мерзопакостных складов, извините за выражение.
По дороге Хуп сказал нам, что если он выручит хорошие деньги за бронзового Ленина, то мы все вчетвером поедем в Пуэрто-Рико, потому что в агентстве он только что получил рекламный буклет с уникальным предложением: двенадцать человек по цене шести, с билетами на самолет, отелем и завтраком, на восемь дней и семь ночей. Бласко спросил, откуда мы достанем восьмерых недостающих аргонавтов, и Хуп ответил ему, что все уже продумал, что об этом можно не беспокоиться, что он постарается сделать так, чтоб для нас это вышло бесплатно, и всем нам это показалось хорошим планом: Пуэрто-Рико, бесплатно, семь ночей.
– Думаю, это здесь, – сказал Хуп и припарковал машину возле какого-то здания, напоминающего бункер. Мы вышли из машины и направились к двери, на раме которой виден был слепой экран видеофона.
– Дон Хулио? Это я. Хуп Вергара. Мы разговаривали с вами сегодня утром, – сказал Хуп в видеофон, и через минуту дон Хулио собственной персоной открыл дверь: она была сантиметров двадцати толщиной, с многочисленными цилиндрическими замками.
– А это кто такие? – спросил дон Хулио, очень высокий старик и очень могучий, по крайней мере для старика, с глазами, не смотревшими ни на кого в отдельности, с очень небольшим количеством волос, хотя и спутанных, словно грива.
– Это друзья, которым можно доверять.
Но старик сказал, что впустит только Хупа.
– Им можно доверять, – настаивал Хуп, но старик остался тверд в своем решении, и тогда Хуп сказал дону Хулио, что ему даже не нужно заходить внутрь, потому что товар лежит в багажнике машины. Тогда старик закрыл дверь бункера, ухнувшую при этом, словно стена пирамиды, и направился к машине энергичными шагами, словно человек, собирающийся тренировать гладиаторов, – чтобы как-нибудь описать его старательность.
– Открывай, – приказал дон Хулио Хупу: видно было, что он привык командовать людьми. Когда Хуп открыл багажник и дон Хулио увидел бронзовый бюст товарища Ленина, он принялся смеяться, как будто долгие годы ждал, пока можно будет засмеяться, и это обстоятельство насторожило нас четверых: ведь не существует более озлобляющей вещи, чем смех по неизвестной причине.
– Над чем вы, черт возьми, смеетесь? – спросил Хуп через некоторое время; старик продолжал смеяться.
– Над этим, над чем же еще? – сказал старик, указал на голову Ленина и разразился новым взрывом хохота.
Уверяю вас, при обычных обстоятельствах Хуп схватил бы старика за грудки или за шею, швырнул бы его об стену бункера или на капот машины и там выдал бы ему свою звездную речь, произносимую им обычно в приступе ярости:
– Послушай, приятель, я уже не в том возрасте, чтобы разглагольствовать с тобой. Я в том возрасте, когда могу лишь убить тебя, ясно?
Но ничего такого Хуп не сделал: он был столь же обескуражен, как и мы, таким издевательским поведением вышеупомянутого дона Хулио.
– Проходите, проходите, – сказал старик, и всех нас тронуло это внезапное гостеприимство, благодаря которому в конце концов открылась дверь дома, бывшего, вероятно, одним из двадцати или тридцати самых нелепых мест в мире, включая музеи и больницы.
На этом корабле были предметы самого удивительного состояния, самой причудливой формы, самых невиданных очертаний, какие только может себе представить пират с самой богатой фантазией: огромные терракотовые кони и ржавые сабли, большие китайские вазы и арматура, змеиные и тигриные шкуры, музыкальные шкатулки, сотни канделябров, почерневшие зеркала и средневековые вертепы, портреты мертвых людей… Все это было похоже, скажем, на вселенскую свалку…
Мы, все четверо, были напуганы, потому что любого рода хаос пугает: он напоминает нам о сути мышления и жизни. (Ужасный первородный хаос, как говорится.)
– Осторожно с этим, – предупреждал то и дело старик, указывая на огромную фарфоровую вазу или же на величественную лампу, с перекладин которой свисали попугайчики, не знаю, искусственные или засушенные. – Сюда, сюда. Ничего не трогайте. – (Ковры, амулеты, инкрустации. Колонны и столовая посуда, шали и мантильи. Скобяные изделия, керосиновые лампы, килимы.) – Я сказал вам, чтоб вы ничего не трогали.
Пройдя сквозь эти своего рода тропические джунгли, мы наконец оказались в закутке, где не было ничего особенного, если не считать того, что там стояло пять бюстов Ленина, идентичных тому, что с огромным трудом выкопали мы.
Как и ожидалось, дон Хулио, могучий старый сукин сын, снова принялся смеяться и какое-то время наслаждался своим смехом, а мы тем временем переглядывались, пытаясь в общем согласии и в срочном порядке выработать какую-нибудь относительно пристойную эмоциональную реакцию на эту ситуацию: ведь никто не знал в точности, что думать и что испытывать по отношению к ней, и тем более сгорать нам со стыда или смеяться. Все мы пытались думать быстро в поисках какого-либо достойного выхода, потому что знали, что, если никому не удастся изменить курс этой оскорбительной ситуации, нам всем четверым придется прожить остаток жизни с грузом стыда по поводу этих событий, несмотря на то что экскурсия на склад дона Хулио станет табу в наших разговорах, коллективным элементом, как будто стершимся из нашей памяти, но в реальности она останется там, в нервном центре унижения, и будет больно ранить.
– Пять, – сказал старик и указал рукой urbi et orbi [23]23
граду и миру ( лат.), т. е. всем.
[Закрыть]на лысые головы Ленина, продолжая обидно смеяться. И тогда Хуп, намереваясь исправить ужасный курс текущих событий, наконец схватил дона Хулио за шею и швырнул его на какой-то предмет, по виду похожий на шкаф:
– Слушай, приятель, я уже не в том возрасте, чтобы разглагольствовать с тобой. Я в том возрасте…
Однако, прежде чем закончить свою каноническую формулировку, предшествующую обычно раздаче жестоких тумаков, Хуп – кто бы мог подумать – оказался на полу, в позе эмбриона и хрипя.
– Этот старый засранец расплющил мне яйца, – простонал Хуп, после чего дон Хулио ударил его ногой куда-то в область печени, а потом носком ботинка звезданул по уху.
Бласко, Мутис и я переглядывались, дабы установить между собой телепатические флюиды, пока нам не удалось передать друг другу послание: надо отметелить старика. Отметелить его сильно, втроем. Единственная достойная возможность заключалась именно в этом: до смерти отмутузить старого дона Хулио, разорвать его на куски, засунуть ему руку туда, где обычно находится левое легкое, и одним ударом отправить его барабанную перепонку в эпигастрий. (Или что-то вроде того.)
Однако, по странности, когда мы все трое уже надвигались на него, старик нас подрезал, нырнул за вертеп с куклами и снова выпрыгнул на сцену, сжимая в руке нечто столь похожее на самурайскую саблю, что в действительности оно и оказалось самурайской саблей.
– Первому, кто подойдет ближе, я отрублю голову, – предупредил он нас. – Эта сабля не из тех, что могут налету разрубить надвое бабочку. Нет. Эта сабля из тех, что могут на лету разрубить надвое член бабочки, когда он у нее даже не стоит.
И полагаю, чтобы продемонстрировать нам все это несколько менее теоретическим образом, дон Хулио, не переставая улыбаться, с замашками азиатского мушкетера разрубил на четыре куска воздух («фьють-фьють» – прозвучало в пустоте лезвие), но мы-то понимали, что, в символическом плане, дон Хулио разрубил своей самурайской саблей не что иное, как вялый член бабочки, такой же вялый, как и наши члены в этот момент, из-за большого напряжения, в каком мы все находились: ведь старый пират угрожал нам саблей-членорезкой имперской Японии.
– Вы уберетесь или предпочтете жить здесь с отрезанным членом? – спросил нас дон Хулио чисто для проформы, ввиду чего мы подхватили с пола Хупа и потащили его к машине, которую должен был вести сам же Хуп, несмотря на то что был совсем готов, потому что ни Бласко, ни Мутис, ни я не умели водить машину – несомненно, по причине склонности каждого из нас к абстрактному мышлению: к проклятой поэзии, латыни и чистой философии.
– Я убью этого старика. Клянусь в вашем присутствии: я его убью, – и в это мгновение я подумал, что было бы логично, если б Хуп грохнул старика и попрыгал потом какое-то время на его трупе.
(Разум, с его внезапными выходками, с его мрачными арабесками, с его сирокко, с его мгновенным уподоблением бессмыслице…) (В общем…)
Признаюсь, мне стоило большого труда уместить это происшествие в мои рамки реальности: старик с самурайской саблей, Хуп, поваленный на пол и избитый ногами, мы, не знающие, что делать, охваченные желанием бежать, с бюстом Ленина в багажнике машины. (Жалкое стечение обстоятельств, вне всяких сомнений.)
На обратном пути только Хуп время от времени открывал рот, чтобы заверить нас в том, что он собирается убить старого дона Хулио. Мы казались молчаливым братством, скрывающим общий позор.
– Ничего, если я высажу вас тут и дальше вы поедете на такси? – спросил нас Хуп, когда промышленный полигон остался позади, несомненно, потому, что был намерен пулей полететь в больницу, чтобы ему там вылечили ухо, немного кровоточащее, и стал совать нам деньги на такси, почти насильно, – нам пришлось взять их, потому что нельзя было еще острее оттачивать грани его эмоционального состояния: когда тебя унизили, тебе может даже потребоваться раздать деньги свидетелям твоего унижения, потому что любое унижение очень сильно переворачивает твое поведение: тебе не удается понять даже, что именно ты чувствуешь. (И иногда это стоит тебе денег, как я уже сказал.)
Когда такси подъехало к моему кварталу, я попрощался с Бласко и Мутисом, которые живут в центре, и пешком пошел к дому, витая мыслями по тернистым областям, полным подводных камней (так сказать), полный решимости донести на старого дона Хулио не как на оскорбителя, само собой, а хотя бы как на перекупщика, если повезет.
Когда я пришел домой, у меня случился приступ ясновидения: я осознал, насколько безобразен мой дом, я осознал, что у меня нет ничего ценного, ни одного предмета, который заслуживал бы того, чтобы очутиться однажды у антиквара, на складе курьезных вещей и анахронизмов вроде того, что был у дона Хулио, потому что вся мебель вдруг показалась мне тем, чем она в действительности и являлась – лакированным мусором, вся моя бытовая техника внезапно проявилась передо мной грудой ржавого металлолома, а моя старая энциклопедия «Ларусс» потеряла свою ценность, словно вчерашняя газета, потому что однажды я хотел продать ее случайному букинисту и он предлагал мне за нее немногим более, чем просто «спасибо»; тогда я понял, что беден и буду таковым всегда, что все дома, в которых я жил, были домами бедняка, и что все дома, в каких мне случится жить на каком-либо этапе моего будущего, тоже будут домами бедняка, и я вспомнил о Диогене, философе из хижины, нищем по призванию, но даже это сопоставление меня не утешило, потому что надо быть большим оптимистом, чтобы найти утешение в примере Диогена.
Когда Йери ушла вместе со своими вещами, единственным декоративным предметом, оставшимся в доме, была коллекция маленьких джазовых музыкантов из раскрашенного алебастра: семь черных кукол и контрабасист с отбитой головой. (Мне подарила их Йери. Они стоили ей тысячи песет.) И там, окруженный своей пустотой, среди этих стен с гвоздями, на которых уже не висели картины, на этом полу без ковров, под голой лампочкой, я, Йереми Альварадо, самый бедный и неопытный философ во всем городе, продолжал мысленно возвращаться к происшествию, только что пережитому в хаотическом бункере дона Хулио, и ежеминутно спрашивал себя:
– Как могло с нами случиться то, что случилось? Как может быть правдой, что с нами произошло то, что с нами произошло?
Но, впрочем, реальность всегда будет реальностью, даже если она на реальность не похожа. Если кто-нибудь в этом сомневается, я постараюсь доказать вам это посредством абсурдного примера, совершенно невероятного, но достаточно доходчивого, чтобы меня понять, – ведь метафизические умозрительные построения не являются рабами правдоподобного или проверяемого, они легитимизируются своей собственной формулировкой. (Метафизическое построение может исходить из вовсе бессмысленных предпосылок, не говоря уже о тех случаях, когда метафизика рядится математикой: если у меня семь овец и я принесу в жертву пятнадцать, у меня останется минус восемь овец…) (Потому что математика позволяет такой тип ситуаций – быть хозяином абстрактного стада, пасущегося в умозрительных вселенных.) Ладно, вернемся к нашей мысли… Более или менее ясно, что при помощи одной-единственной пули и относительной меткости можно убить любой живой организм, согласны? Но что произойдет, если мы разрядим целую обойму своего револьвера во внеземное существо, и это внеземное существо будет продолжать надвигаться на нас как ни в чем не бывало, чтобы плюнуть нам в лицо зеленоватой едкой жидкостью, например? Что произойдет тогда с реальностью, с нашими представлениями о реальности? (Можете делать ставки.) (Я бы поставил три к одному, что реальность останется на своем месте, хотя и с внеземным существом посредине.) (Потому что реальность – это реальность, со внеземными существами или без них; реальность – это некая спокойная галлюцинация, и в нее вмещается все: безумный старик с самурайским мечом, неуязвимое для выстрелов внеземное существо и так далее.)
После этой катастрофы мы пару недель не виделись, в том числе потому, что все четверо работали над тем, чтоб насильственно вызвать амнезию, так сказать, стараясь позабыть об унизительном опыте, который пережили в бункере старика, и полагаю, что Хуп занимался этим более, чем кто-либо другой.
Почти каждый вечер я тем не менее выходил прогуляться, чтобы пометить территорию, потому что это хорошо, когда люди видят тебя там и сям, когда незнакомцы знают, что ты тоже присутствуешь на этом аукционе.
По правде говоря, мне нравится бродить так бесцельно только время от времени, потому что это времяпрепровождение оживляет воображение: тебе удается убедить себя в том, что на свете существует лампа Алладина. По этому поводу я вспоминаю речь, родившуюся у Хупа в тот день, когда он был красноречив, как Заратустра:
– Какой интерес в том, чтобы встречаться с женщиной, если ты знаешь даже цвет ее трусиков? Какая в этом тайна? Нет. Тебя толкает на подвиги иллюзия встретить какую-нибудь незнакомку, которая расположена перекинуться с тобой парой слов, так что ты молча можешь рассуждать о величайших тайнах жизни: танга? выбрита? тонировка краской для волос? какая-нибудь маленькая татуировка? Такова иллюзия детективного сюжета жизни вообще. Именно эта иллюзия толкает нас на то, чтоб немного подмыться, причесаться, сбрызнуться одеколоном и сказать болвану, юлящему в зеркале: «Ага, пойдем-ка туда, чемпион. Гори оно все огнем».
Как бы там ни было, не так-то просто гулять бесцельно и в одиночестве, когда тебе вот-вот должно исполниться сорок лет, потому что это занятие превращает тебя в подозрительного неконкретного субъекта: люди смотрят на тебя как на человека, в сознании которого уже висит груз задуманного убийства, инцеста или ужасным образом разгромленного семейного очага, хотя разгромлен не семейный очаг, а ты. Ты не можешь выглядеть невинным, если бродишь ночью один, из бара в бар, время от времени мочась в переулках, потому что как другие выгуливают собак, так ты, в сущности, выгуливаешь по миру тайное, но очевидное моральное разложение: никто точно не знает, каково это разложение, но все знают, что у тебя в голове что-то разлагается. (Это знают все.) (И ты – лучше, чем кто-либо другой.)
Когда ты бродишь один, ночью, в тебе просыпается сознание пожарного из аэропорта.
– Пожарного из аэропорта?
Да, пожарным, несущим свою вахту в аэропортах, почти всегда нечего делать, потому что самолеты загораются очень редко, но они обязаны постоянно находиться там, на всякий случай, чтобы направить из шланга под давлением струю в пассажиров, которые бегут оттуда, охваченные пламенем. Так вот, одинокие ночные бродяги, ожидающие, овдовевшие герои ночи, – мы подобны им, как я уже сказал, мы братья этих праздных пожарных, играющих в ангаре в мусс [24]24
карточная игра.
[Закрыть], потому что мы всегда пребываем в ожидании того, что мир загорится, что завяжется апокалиптическая интрига, финальная сцена космического масштаба, и девушкам взбредет в голову спать с кем угодно. (Так мы и бродим, одинокие в ночи, с этой жаждой в воображении, как будто это ржавый кинжал, смазанный серотонином.)
В общем, в большинство вечеров, когда я выходил побродить, я в конце концов оказывался наполовину пьяным (или наполовину обкуренным) или полностью пьяным (или полностью обкуренным), когда как, и вы ведь знаете мнение аристократа Гераклита: вода – это смесь воды и огня; вода неблагородна, а огонь благороден, так что, несмотря на то что душа находит удовольствие во влажности, сухая душа выше, чем мокрая душа. Так вот, я бродил там и сям с мокрой душой, с мусорной душой, поросшей лишайниками и плесенью, словно рухлядь, что выкапывает Хуп, и жизнь казалась мне шаткой иллюзией.
Но по тому же самому закону, по какому Хуп иногда находит своим металлоискателем ценную монету, в одну из этих своих безумных ночей я встретил, благодаря своему искателю эротических возможностей, Эву Баэс.
Эва Баэс была беленькая и кругленькая, с очень черными и кудрявыми волосами, она носила очень широкую одежду, была очень нервная и маленькая и была убеждена в том, что в людях важно не внешнее, а внутреннее… (Внешнее… Внутреннее… Две категории прозрачной сущности… по крайней мере вначале, потому что эти категории впоследствии имеют тенденцию к слиянию, к смешению: каждое чудовище составляет в конечном счете единое целое, я так считаю. (Потому что почти всегда существует некое соотношение между твоей формой носа и складом ума, и так далее.) (Я так считаю.) Забавно: Шей Малоне, одна из моих любимых актрис, – по крайней мере в некоторых чертах, – сказала однажды что-то очень похожее по телевизору:
– Важен не социальный статус людей, не то, какими они являются внешне, а то, что у них внутри.
Полностью согласен с тобой, Шей. (Как отказать тебе в этом онтологическом капризе…) Но мне кажется, что в случае со столь общими утверждениями никогда не помешает немного герменевтики… Ладно. Прежде всего оставим в стороне вопрос о статусе, поскольку это скорее социологическое явление, и согласимся с Шей Малоне в том, что важно внутреннее (магма, мучимый сгусток). Но что получается? Внутреннее – это всегда загадка, а загадки – это нечто, беспокоящее только их собственных хранителей, а иногда даже и их не беспокоящее, так что, мне кажется, никого, кроме тебя самой, Шей Малоне, ни фига не интересует твоя внутренняя загадка. (Никого, поверь мне.) Твоя внутренняя загадка – это твое дело, Шей Малоне, – и хорошо, если эта загадка не обладает болезненной сущностью, Шей Малоне, хорошо, если этой загадке не требуется вербальный ланцет психиатрии по вторникам и пятницам с пяти до шести.
(Несмотря на все это, мне не составляет никакого труда согласиться с тобой, Шей Малоне, только ради того, кто ты такая, Шей Малоне: смесь мифа и лотерейной куклы, – да, важно внутреннее. Хотя следом встает ключевой вопрос, ведь все в жизни взаимосвязано и взаимозависимо: а что у тебя внутри, Шей? Конфетти из посредственных сценариев, смутные воспоминания о выдуманных сюжетах с серией убийств или цепочкой любовных историй? Воспаленная рана твоих двух неудачных браков? Желеобразная печень, трахея, полная мокроты? Четыре кило стратегического силикона? Возвращающаяся снова и снова память о кокаиновых ночах, полных секса, в квартирах на берегу моря, и эти голые мужчины в очках в черепаховой оправе? Смутные эпизоды из твоего детства, когда соседи смотрели на тебя так, словно видели карету из черненого золота, проезжающую мимо хлева с телками, приготовленными на заклание; мужчины с вожделеющими взглядами, с глазами, в которых отражался намек на тревогу, еще непонятную для тебя, маленькой королевы сельскохозяйственного пригорода с уровнем безработицы в 47 %; маленького тотема плодовитости, в белых носочках, с кудряшками, рассыпавшимися по белой блузке школьницы, способной плакать от ярости и бессилия над математической задачкой?
Видимо, в твоем сознании произошла какая-то ошибка, Шей Малоне, и мне жаль говорить тебе об этом. Что-то тут не вяжется. Потому что, может быть, у тебя внутри и много всего, может быть, у тебя внутри – как и у всех – кипящая сточная яма из эмоциональных отходов, светотеневой лабиринт памяти, подвал, доверху набитый дурно пахнущей совестью, сердце, жаждущее неизвестного, – но всех нас интересует, в сущности, почти всех, то, что у тебя снаружи, Шей Малоне: эта потрясающая несбыточная мечта взрослых мужчин, которые все еще мастурбируют, дабы вновь пережить тот возраст, когда своей собственной сексуальности им хватало, чтобы воздвигнуть головокружительный мираж потрясения и бреда. Одним словом, почему кто-то должен любить то, что у тебя внутри, Шей Малоне, если, когда ты проходишь по длинному коридору зачарованного отеля или когда тебя преследуют наркодельцы из Шанхая, – одним только этим в нашем официальном журнале записей болезненных снов ты уже приобрела статус призрака, желанного в раздирающей форме? Шей Малоне, всегда в черных ботиночках, с этими греческими кудряшками из золота, залитого золотом, в удивительных машинах, в роли шпионки в заснеженных странах или любовницы, жадной до долларов, в то время как кресла в половине кинотеатров мира во время премьеры скрипят, словно двери, не ведущие никуда…)
Одним словом, то, что у тебя внутри, важно, если тебя зовут Антисфен или Артемидор Эфесский, к примеру, но не в том случае, если тебя зовут Шей Малоне.
(Вскорости я посвящу монографическую программу «Корзины с отрезанными ушами» Шей Малоне. Кода выйдет на экраны «Сумрак дня», ее последний фильм. Триллер, как говорят.)
Но я говорил об Эве, не так ли? Об Эве Баэс, о которой я в конечном счете так мало могу рассказать… Полагаю, она понравилась мне, потому что была первой женщиной, которую, со времени ухода Йери, мне не удавалось представить себе на тридцать лет старше; совсем наоборот: с тех пор как я увидел ее, Эва всегда представлялась мне девочкой, толстой девочкой, лакомящейся виноградом. (Как забавно: виноградом.)
Эва работает футурологом на местном телевидении, под артистическим псевдонимом Эва Дезире. Женщины звонят ей, чтобы попытаться проникнуть туда, куда им проникать не следует: будущие романы, тайные связи мужей и женихов, прогнозы насчет работы, след исчезнувших людей и пропавших животных… Публика хочет, чтобы такого рода загадки раскрывала для них Эва Дезире, и Эва Дезире, медиамаг, незамедлительный зондатор глубинных тайн, с важным видом раскладывая карты Таро, дает ответы скорее из области практической психологии или попросту наобум, вряд ли имеющие отношение к ясновидению, между прочим, и потому, что человеческая жизнь – это колодец с мутной водой, в который мы, ясновидящие, опускаем руку, не зная, вытащим ли оттуда змею или ржавую консервную банку, хотя и знаем, что в принципе можем вытащить оттуда лишь змею или ржавую консервную банку, а не сундук с византийскими сокровищами и не идеального супруга, а такими обычно бывают ожидания людей, оставшихся без будущего и по этой самой причине занятых верой в это будущее, в возможность корректировки будущего, с учетом ошибочного и населенного демонами настоящего.
Как бы там ни было, не думайте, что Эва – обманщица, потому что она, несомненно, обладает даром, хотя этот дар, само собой, ведет себя, как ему хочется, а не проявляется ровно в тот самый момент, когда тебе звонит какая-нибудь старуха, чтобы спросить, на Небесах ли ее собака. У Эвы есть способности медиума, и она с успехом практикует вызов Невыразимых Существ из Высших Миров (как звучит!), а кроме того, она может видетьбудущее, не много, но, как она уверяла меня, эти немногочисленные картины будущего представляются ей с ясностью, то есть речь идет не об аллегорических видениях, а о прозрачных, реалистичных эпизодах, так что ей не приходится прибегать к помощи такого рискованного оружия, как толкование, которого требует любое видение, ведь неточные видения нуждаются в работе по толкованию, могущей вырасти в бессмыслицу или, что еще хуже, в болезненный бред: в твоем сознании является лицо трупа, например, и первое, что ты думаешь, – кому это знать, как не мне, – что этот труп – ты. (Неприятная вещь.)
Бэкон Веруламский определил магию как практическую метафизику. (Не знаю, говорить ли вам, кто такой этот Бэкон Веруламский. Несомненно, кто-то важный, потому что на него ссылается мой учитель Шопенгауэр.) Согласно этому определению, наши отношения были вначале гармоничными и симметричными: она занималась практической метафизикой, а я – метафизикой теоретической. Она – теургией, то есть белой магией, а я – философской гоэтейей, то есть магией черной (черной как ночь и как язык демона), потому что она запускает пальцы в глубины бытия, а оно пачкается.
(– Гоэтейя? Что такое гоэтейя?)
(Призвание сумеречных существ.)
Как бы там ни было, в общем, дело в том, что мы с Эвой вначале очень хорошо ладили, до того, как легли в постель, – а это событие произошло через три недели после того, как мы познакомились в «Оксисе», несмотря на то что мы встречались почти ежедневно в течение всего этого времени.
В первую ночь, когда она пригласила меня зайти к ней домой, я уже начал думать, что между нами ничего не будет, потому что до сих пор мы даже не целовались, и наши разговоры вращались исключительно вокруг всякого рода альфитомантии [25]25
гадание при помощи еды.
[Закрыть], ониромантии [26]26
гадание по снам.
[Закрыть], звездных колец и амулетов, отчего я чувствовал себя перед ее эрудицией, словно мелкий шарлатан, перед которым королева ведьм исполняет свой коронный номер. Потому что в ту пору Эва много училась, и предмет ее занятий был связан исключительно со сверхъестественным, с магнетической магией и подобными темами, она знала истории из жизни Симона-Волхва и Гудэна (не циркача Гудини, а Гудэна, создателя автоматов), она пыталась извлекать образы из теургических зеркал и работала над тем, чтобы однажды раскрыть секрет пророчества по шелесту розовых лепестков.
Например, я сидел с Эвой в каком-нибудь кафе, думая о том, как бы лечь с ней в постель, чем раньше, тем лучше, дабы посмотреть, не приобрету ли я таким образом иммунитет перед воспоминанием о Йери, а она внезапно спрашивала меня:
– Знаешь, что рассказывают о еврее Седекии?
И естественно, я отвечал ей то же самое, что она ответила бы мне, если б я спросил ее о степени духовного уважения, оказываемого Платоном Протагору, сказать к примеру.
– Так это очень забавно. Судя по всему, Седекия заставил одного человека ходить по воздуху, потом разрезал его на маленькие кусочки, а потом снова его восстановил.
И от этого она переходила к подробному повествованию о способностях Симона-Волхва, ее кумира: войти в поток пламени и не обжечься, превратиться в овцу или в козу, парить в воздухе, летать… В общем, как бы сильно ни было желание, оказывается, очень трудно запустить язык в ухо женщине, без остановки говорящей тебе о такого рода вещах, потому что в этом присутствовал бы фактор несовместимости: говорить о магии и облизывать ухо. (Что-то, столь же несовместимое, ну, не знаю, как если воткнуть палец в глаз служащему на заправке, который заливает тебе топливо в бак, тем временем насвистывая песенку.)








